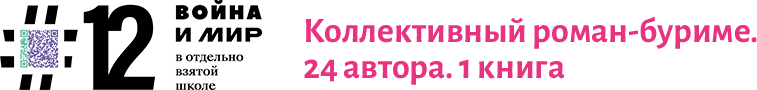ะะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ัะพะผะฐะฝ ะฑััะธะผะต
ะะผะตััะพ ะฟัะตะดะธัะปะพะฒะธั
#12 ะะพะนะฝะฐ ะธ ะผะธั ะฒ ะพัะดะตะปัะฝะพ ะฒะทััะพะน ัะบะพะปะต โ ััะพ ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ัะพะผะฐะฝ-ะฑััะธะผะต ะธะท 24-ั ะณะปะฐะฒ ะดะปั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ.
ะะดะตั ะตะณะพ ะฒะพัั ะพะดะธั ะบ 1927 ะณะพะดั, ะบะพะณะดะฐ ั ะฟะพะดะฐัะธ ะะธั ะฐะธะปะฐ ะะพะปััะพะฒะฐ ะฒ ะถััะฝะฐะปะต ยซะะณะพะฝะตะบยป ะฟะตัะฐัะฐะปัั ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ัะพะผะฐะฝ ยซะะพะปััะธะต ะฟะพะถะฐััยป, ะฒ ัะพะทะดะฐะฝะธะธ ะบะพัะพัะพะณะพ ะฟัะธะฝัะปะธ ััะฐััะธะต ะผะฝะพะณะธะต ะบะปะฐััะธะบะธ ัะพะฒะตััะบะพะน ะปะธัะตัะฐัััั: ะะปะตะบัะฐะฝะดั ะัะธะฝ, ะะตะพะฝะธะด ะะตะพะฝะพะฒ, ะัะฐะฐะบ ะะฐะฑะตะปั, ะะพัะธั ะะฐะฒัะตะฝัะฒ, ะะปะตะบัะตะน ะขะพะปััะพะน, ะะธั ะฐะธะป ะะพัะตะฝะบะพ, ะะตะฝะธะฐะผะธะฝ ะะฐะฒะตัะธะฝ ะธ ะดััะณะธะต. ะ 2007 ะณะพะดั ะบะฝะธะณะฐ ะฑัะปะฐ ะฒะฟะตัะฒัะต ะธะทะดะฐะฝะฐ.
ะ ะตะดะฐะบัะธั ัะฐะนัะฐ ยซะฅะพัั ัะธัะฐััยป ัะตัะธะปะฐ ะพะฑัะฐัะธัััั ะบ ะพะฟััั ะะพะปััะพะฒะฐ ะธ ะฟัะตะดะปะพะถะธัั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะผ ะฐะฒัะพัะฐะผ ัะพะทะดะฐัั ะทะฐั ะฒะฐััะฒะฐัััั, ะฟัะธะบะปััะตะฝัะตัะบัั ะธััะพัะธั ะดะปั ะผะฐะปััะธัะตะบ ะธ ะดะตะฒัะพะฝะพะบ. ะะพะดะพะฑะฝัะน ยซัะตัะธะฐะปัะฝัะนยป ัะพัะผะฐั ัะพ ัะบะฒะพะทะฝัะผะธ ะฟะตััะพะฝะฐะถะฐะผะธ ะธ ะฝะตะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผัะผ ััะถะตัะพะผ, ะฟะพ ะผะฝะตะฝะธั ัะตะดะฐะบัะธะธ, ะดะพะปะถะตะฝ ะฟัะธะฒะปะตัั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ ะบ ััะตะฝะธั, ะธ ะพะฝะธ ะฑัะดัั ั ะฝะตัะตัะฟะตะฝะธะตะผ ะถะดะฐัั ะฟัะพะดะพะปะถะตะฝะธั, ััะพะฑั ัะทะฝะฐัั, ััะพ ะถะต ัะปััะธััั ั ะณะตัะพัะผะธ ะดะฐะปััะต.
ะะดะตั ะธ ัะตะฐะปะธะทะฐัะธั โ ะะฝะฐััะฐัะธั ะกะบะพัะพะฝะดะฐะตะฒะฐ ะธ ะะฝะฝะฐ ะฅััััะฐะปะตะฒะฐ.
ะญะบัะฟะพะทะธัะธั:ย ะัะฝั. ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต. ะะฐัะธ ะดะฝะธ. ะกัะฐััะตะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ โ12 ะธะผ. ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั, ะธะปะธ ะฟะพะฟัะพััั ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป, ะฒัััะตัะฐัััั ะฝะฐ ะฒะตัะตัะธะฝะบะต ั ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะะฟะตัะตะดะธ โ ััะฐัััะต ะปะตัะฝะธั ะบะฐะฝะธะบัะป. ะะพ ะดะพ ะปะตะณะบะพััะธ ะปะธ ะฑััะธั, ะตัะปะธ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป, ะณะดะต ะถะธะฒัั ะผะฝะพะณะธะต ัะตะฑััะฐ, ัะฝะพััั ัะฐะดะธ ัััะพะธัะตะปัััะฒะฐ ะฑะธะทะฝะตั-ัะตะฝััะฐ, ะฐ ะทะฝะฐัะธั, ะดััะทััะผ ะฟัะธะดะตััั ะผะตะฝััั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะผะตััะพ ะถะธัะตะปัััะฒะฐ, ะฝะพ ะธ ัะบะพะปั. ะ ัะฐะผะพะต ะฟััะผะพะต ะพัะฝะพัะตะฝะธะต ะบ ะฝะพะฒะพะน ัััะพะนะบะต ะธะผะตะตั ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะจะตัะณะธะฝ, ะฟะฐะฟะฐ ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะัะดัั ะปะธ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ, ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน, ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะกะพะฝั ะธ ะะฐัะฐัะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะฑะพัะพัััั ะทะฐ ัะฒะพะน ัะฐะนะพะฝ ะธ ะบะฐะบ ัะปะพะถะฐััั ะธั ะพัะฝะพัะตะฝะธั ั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธัะตะน, ัะตะน ะพัะตั ัะฒะฝะพ ะฝะต ะพัะบะฐะถะตััั ะพั ััะพะปั ะฒัะณะพะดะฝะพะณะพ ะฟะปะฐะฝะฐ? ะขะตะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ั ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ัะผะธัะฐะตั ะพัะตั, ั ะบะพัะพััะผ ะพะฝ ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฝะต ะพะฑัะฐะปัั, ะธ ะพััะฐะฒะปัะตั ะตะผั ะฒ ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ ัะตะปะพะต ัะพััะพัะฝะธะต. ะ ะตะณะพ ะทะฐะฟะธัะฝะพะน ะบะฝะธะถะบะต ะะตัั ะฝะฐั ะพะดะธั ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝัั ะทะฐะฟะธัะบั: ยซะะพะทะฒะพะฝะธัั ะะฐัะต ะจะตัะณะธะฝั!!!ยปโฆ
ะะฒัะพััย
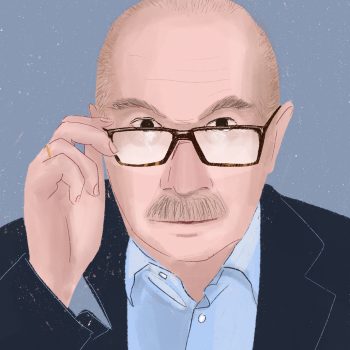
ะัะฐะณัะฝัะบะธะน

ะะฐะปััะตะฒ

ะกะปัะถะธัะตะปั

ะะตัะบะธะฝ

ะะฐัะตะฒัะบะฐั

ะกะฐะปัะฝะธะบะพะฒ

ะะตััะตัะธะฝะฐ

ะะพัะตะฒะฐ

ะคะตะดะตะฝะบะพ

ะกััะพะบะธะฝะฐ

ะัะบััะฝะตะฝะบะพ

ะะพัะบะพะฒ

ะัะธะณะพัะตะฝะบะพ
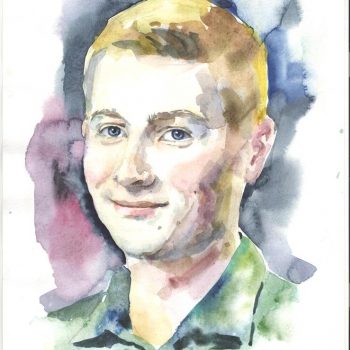
ะฅะฐะฝะพะฒ

ะกะพั




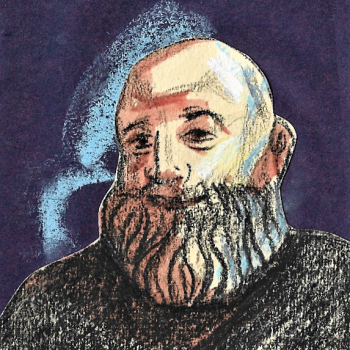






ะะปะฐะฒะฐ 1. ะะตะฝะธั ะัะฐะณัะฝัะบะธะน

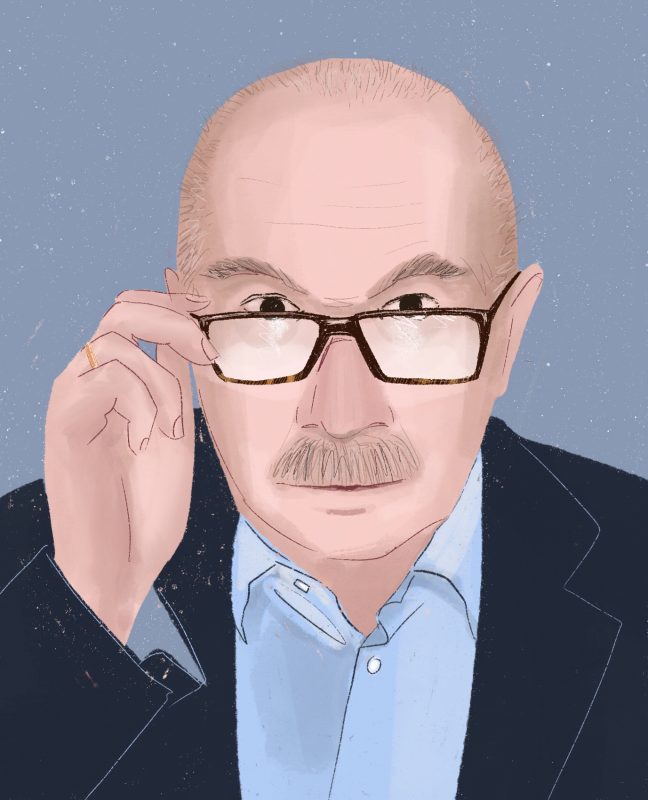
— Well, my friend, all these guys, this so called opposition โ are totally dependent on the White House and the State Department. They pay them salary. As for this gentleman, whose name I donโt even want to say out loudโฆ This guy is a real rascal! He is hiding behind the children! He calls schoolchildren on the barricades![1]
ะขะฐะบ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝัั ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ัะฒะพะตะผั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบั ะะฐัะต ะกะตะปะตะทะฝะตะฒั, ััะฝั ะธะทะฒะตััะฝะพะณะพ ะฐะดะฒะพะบะฐัะฐ, ะบะพัะพััะน ะฟะตัะฒัะผ ะฟัะธัะตะป ะฝะฐ ะตะต ะฒะตัะตัะธะฝะบั. ะญัะพ ะฑัะป ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัะน, ัะถะต ัะตัะฒะตัััะน, ะธัะฝััะบะธะน ะฒะตัะตั ั ะะฝะธ. ะะพัะพะผั ััะพ ะฒ ะธัะปะต ะธ ะฐะฒะณัััะต ะฒัะต ัะฐะทัะตะทะถะฐะปะธัั ะบัะพ ะบัะดะฐ, ััะพะฑั ะฒัััะตัะธัััั ัะถะต ะฟะตัะฒะพะณะพ ัะตะฝััะฑัั.
ะะฝั ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ัะตัะบะพ ะธ ัะฒะตัะตะฝะฝะพ, ัะฒะพะธะผ ะทะฒะพะฝะบะธะผ, ัััะพัะบั ััะตัะบััะธะผ ะณะพะปะพัะพะผ. ะะพะฒะพัะธะปะฐ ะบะฐะบ ะฟะพ ะฟะธัะฐะฝะพะผั, ะฑัะดัะพ ะฟะพ ัะตะปะตะฒะธะทะพัั, ะทะฐัะฐะฝะตะต ะฟะพะดะณะพัะพะฒะธะฒัะธัั, ะพัะฒะตัะฐะปะฐ ะฝะฐ ะฒะพะฟัะพั ะฒะตะดััะตะณะพ.
ะะพะฝััะฝะพ, ะฟะพัะตะผั ะพะฝะฐ ัะฐะบ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ. ะะฝั ะฑัะปะฐ ะดะพัะตััั ะะฐะฒะปะฐ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธัะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะบััะฟะฝะพะณะพ ะผะพัะบะพะฒัะบะพะณะพ โ ะฐ ัะฐะฝััะต ะฟะตัะตัะฑััะณัะบะพะณะพ โ ะดะตะฒะตะปะพะฟะตัะฐ, ัะพ ะตััั ัััะพะธัะตะปั ะฝะพะฒัั ะดะพะผะพะฒ, ัะพัะณะพะฒัั ัะตะฝััะพะฒ ะธ ัะตะปัั ะบะฒะฐััะฐะปะพะฒ.
ะะต ัะฐะบ ะดะฐะฒะฝะพ, ะตัะต ะปะตั ะฟััั ัะพะผั ะฝะฐะทะฐะด, ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฑัะป ะฝะฐัััะพะตะฝ ะฒะฟะพะปะฝะต ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะฝะพ. ะะต ะฟัะพััะพ ะฝะฐัััะพะตะฝ, ะฝะพ ะดะฐะถะต ะดะฐะฒะฐะป ะดะตะฝัะณะธ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะบัะพั ะพัะฝะพะน ะปะธะฑะตัะฐะปัะฝะพะน ะฟะฐััะธะธ ะฒ ะพะฑะผะตะฝ ะฝะฐ ะทะฒะฐะฝะธะต ะฟะพัะตัะฝะพะณะพ ัะพะฟัะตะดัะตะดะฐัะตะปั ะธ ะพะฑะตัะฐะฝะธะต, ยซะบะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะฟัะธะดัั ะบ ะฒะปะฐััะธยป, ะฟะพะปััะธัั ะผะธะฝะธััะตััะบะธะน ะฟะพัั. ะกะผะตั , ะดะฐ ะธ ัะพะปัะบะพ! ะะพ ััะพ ัะตะนัะฐั ะตะผั ะบะฐะทะฐะปะพัั ัะผะตัะฝะพ, ะฐ ัะพะณะดะฐ ะพะฝ, ะฑัะฒะฐะปะพ, ะฒััะฐะณะธะฒะฐะป ะฒะพ ะณะปะฐะฒะต ะบะพะปะพะฝะฝั ั ะฟะปะฐะบะฐัะธะบะพะผ ะธ ะฒ ะฟะธะบะตัะฐั ััะพัะป ะฒะผะตััะต ัะพ ัะฒะพะตะน ัะพะณะดะฐ ะตัะต ัะพะฒัะตะผ ัะฝะพะน, ะดะตัััะธะปะตัะฝะตะน ะะฝะตัะบะพะน. ะะณะพ ะปะธัะฝัะต ะพั ัะฐะฝะฝะธะบะธ ััะพัะปะธ ะฒ ััะพัะพะฝะบะต, ะฐ ัะพัะพะณัะฐัั ะธะทะพ ะฒัะตั ัะธะป ัะตะปะบะฐะปะธ ะบะฐะผะตัะฐะผะธ.
ะะฝั ะพะฑะพะถะฐะปะฐ ะฟะฐะฟั. ะ ััะพ ัะฐะท ัะธะปัะฝะตะต, ัะตะผ ะผะฐะผั. ะะฐะผะฐ ั ะฝะตะต ะฑัะปะฐ ะพัะตะฝั ะบัะฐัะธะฒะฐั, ะพัะตะฝั ะดะพะฑัะฐั ะธ ะปะฐัะบะพะฒะฐั, ะฒัะต ะฒัะตะผั ัะปัะฑะฐะปะฐัั, ัะผะพััะตะปะฐ ัะธัััะธะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ะฝะพ ั ะฝะตะน ะฑัะปะพ ะพัะตะฝั ัะบััะฝะพ.
ะะพั ัะพะณะดะฐ, ะปะตั ะฒ ะดะตัััั ะธะปะธ ะพะดะธะฝะฝะฐะดัะฐัั, ะะฝั ะฒะดััะณ ััะปััะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะดะพะผัะฐะฑะพัะฝะธัั ะพะฑััะถะดะฐัั ะตะต ะผะฐะผั. ยซะะฝะฐ ัะพะฒัะตะผ ะดััะพัะบะฐ, ััะพ ะปะธ?ยป โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะณะพัะฝะธัะฝะฐั. ยซะะฐ ะฝะตั, ะบะฐะบะฐั ะถะต ะพะฝะฐ ะดััะพัะบะฐ, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะฟะพะฒะฐัะธั ะฐ. โ ะัััะตะต ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธะต ะฒัะต-ัะฐะบะธโฆ ะัะฐัะฝัะน ะดะธะฟะปะพะผ, ะพะฝะฐ ั ะฒะฐะปะธะปะฐัั. ะะต ะดััะพัะบะฐ, ะฝะพ ัะฐะบะฐั ะฒััโฆ ะะฐะบะฐั-ัะพ ะฝะตะดะฐะปัะบะฐัยป. ะะฝั ะดะฐะถะต ะฝะต ะฒะพะทะผััะธะปะฐัั, ััะพ ะฟัะธัะปัะณะฐ ะฒ ัะฐะบะพะผ ัะพะฝะต ะณะพะฒะพัะธั ะพ ั ะพะทัะนะบะต ะดะพะผะฐ. ะะน ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ััะพ ัะปะพะฒะพ ะพัะตะฝั ะฟะพะดั ะพะดะธั, ััะพ ะพะฝะพ ะบะฐะบ ัะฐะท ะฟัะพ ะผะฐะผั. ะะตัะตัะพะผ ะพะฝะฐ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะฟะฐะฟั: ยซะ ะฟัะฐะฒะดะฐ, ั ะฝะฐั ะผะฐะผะฐ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะฝะตะดะฐะปัะบะฐั?ยป ะะฐะฟะฐ ัะดะฒะธะฝัะป ะฑัะพะฒะธ ะธ ะฒัะพะดะต ะฑั ัััะพะณะพ, ะฝะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะพัะตะฝั ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป: ยซะะตะปัะทั ัะฐะบ ะณะพะฒะพัะธัั ะฟัะพ ะผะฐะผั! ะะฝะฐ ัะตะฑั ัะพะดะธะปะฐ! ะะฝะฐ ัะตะฑั, ะธะทะฒะธะฝะธ ะทะฐ ะฒััะฐะถะตะฝะธะต, ะณััะดัั ะบะพัะผะธะปะฐ! ะะฝะฐ ัะตะฑั ะปัะฑะธั!ยป โ ะธ ั ะปะพะฟะฝัะป ะปะฐะดะพะฝัั ะฟะพ ััะพะปั, ะฝะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฑะตะท ะฒััะฐะถะตะฝะธั ั ะปะพะฟะฝัะป, ะธ ะะฝั ะฟะพะฝัะปะฐ โ ะฒัั ัะฐะบ ะธ ะตััั. ะะฐะผะฐ ัะตะปัะผะธ ะดะฝัะผะธ ะทะฐะฝะธะผะฐะปะฐัั ัะพะฑะพะน, ะฒัะต ะฒัะตะผั ั ะพะดะธะปะฐ ัะพ ะฝะฐ ัะตะฝะฝะธั, ัะพ ะฒ ะฑะฐััะตะนะฝ, ัะพ ะฝะฐ ะผะฐััะฐะถ. ะะพะฝะตัะฝะพ, ะพะฝะฐ ะปัะฑะธะปะฐ ะดะพัะบั, ะฒัะตะณะดะฐ ะณะปะฐะดะธะปะฐ ะตะต ะฟะพ ะณะพะปะพะฒะบะต, ะฝะพ ะดะพัะบะต ะฑัะปะพ ั ะฝะตะน ะฝะตะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ะธ ะผะฐะผะฐ ััะพ ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ. ะะฐะฒะตัะฝะพะต, ะพะฑะธะถะฐะปะฐัั ะฝะตะผะฝะพะถะบะพ, ะฝะพ ะฝะต ะฝะฐะฒัะทัะฒะฐะปะฐัั ะธ ะฒัะต ัะฐัะต ัะตะทะถะฐะปะฐ ัะพ ะฟะปะฐะฒะฐัั ะฒ ะผะพัะต, ัะพ ะบะฐัะฐัััั ะฝะฐ ะณะพัะฝัั ะปัะถะฐั .
ะ ะฟะฐะฟะฐ! ะะฐะฟะฐ โ ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะต ะดะตะปะพ. ะะพััะธ ะบะฐะถะดัะน ะฒะตัะตั ะพะฝ ััะฐะถะธะฒะฐะป ะะฝะตัะบั ะฒ ะบัะตัะปะพ ะธ ะฝะต ะผะตะฝััะต ัะฐัะฐ ะพะฝะธ ะฑะพะปัะฐะปะธ โ ะพะฑะพ ะฒัะตะผ ะธ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะพ ะฟะพะปะธัะธะบะต. ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะพะฑัััะฝัะป ะดะตัััะธะปะตัะฝะตะน ะดะพัะตัะธ, ััะพ ัะฐะบะพะต ะ ะพััะธั, ะฟะพะปะธัะธะบะฐ, ะดะตะผะพะบัะฐัะธั ะธ ะฒัะต ัะฐะบะพะต. ะะต ัะบััะฒะฐะป ะฟัะฐะฒะดั ะพ ัะฐะบะธั ะฒะตัะฐั , ะบะฐะบ ะบะพัััะฟัะธั, ะฝะฐะฟัะธะผะตั. ะะฝ ะณะพะฒะพัะธะป ะพัะตะฝั ะฟัะพััะพ, ะผัะณะบะพ ะธ ัะฑะตะดะธัะตะปัะฝะพ. ะ ะดะฐะถะต ะฑัะฐะป ั ัะพะฑะพะน ะฝะฐ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธะธ! ะะน ะฝัะฐะฒะธะปะพัั ะฑััั ัะผะตะปะพะน ะธ ะฝะตะทะฐะฒะธัะธะผะพะน, ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะบะพะณะดะฐ ััะดะพะผ ัะธะปัะฝัะน ะฟะฐะฟะฐ ะธ ะดะฒะฐ ะตะณะพ ะพั ัะฐะฝะฝะธะบะฐ.
ะ ะฒะดััะณ ะฟะฐะฟะฐ ัะฐะบ ะถะต ะผัะณะบะพ ะธ ัะฑะตะดะธัะตะปัะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะตะน, ััะพ ะฒัะต. ะะพะธะณัะฐะปะธ, ะธ ะฑัะดะตั. ะฅะฒะฐัะธั ะณะปัะฟะพะน ะฑะพะปัะพะฒะฝะธ ะธ ะฑะตะณะพัะฝะธ. ะะพัะพะผั ััะพ ะฒัั ััะฐ ััะตัะฝั ั ะฟะปะฐะบะฐัะธะบะฐะผะธ ะธ ะฑะพะปัะพะฒะฝั ะพ ะบะพัััะฟัะธะธ ะผะพะณัั ะฟะพะผะตัะฐัั ะตะผั ัะดะตะปะฐัั ะดะตะปะพ ะพะณัะพะผะฝะพะน ะฒะฐะถะฝะพััะธ, ะดะตะปะพ ะฒัะตะน ะตะณะพ ะถะธะทะฝะธ. ะะตะดั ะพะฝ ัััะพะธัะตะปั ะฟะพ ะฟัะธะทะฒะฐะฝะธั. ะะฝ ั ัะฝะพััะธ ะผะตััะฐะป ะฟะพัััะพะธัั ััะพ-ัะพ ะณัะฐะฝะดะธะพะทะฝะพะต, ะฝะตะฑัะฒะฐะปะพะณะพ ัะฐะทะผะฐั ะฐ ะธ ะผะพัะธ. ะกัะฟะตััะพะพััะถะตะฝะธะต! ะ ะฒะพั ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะพะฝ ะฝะฐัะฐะป ะฟะพ-ะฝะฐััะพััะตะผั ะบััะฟะฝัะน ะฟัะพะตะบั. ะะณะพ ัะธัะผะฐ ะฟะพะปััะธะปะฐ, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ัะฐะทัะตัะตะฝะธะต ะฝะฐ ัััะพะธัะตะปัััะฒะพ ะพะณัะพะผะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ, ั ะฑะธะทะฝะตั-ัะตะฝััะฐะผะธ ะธ ะพัะธัะฐะผะธ, ะฐะฟะฐััะฐะผะตะฝัะฐะผะธ, ะผะฐะณะฐะทะธะฝะฐะผะธ, ัะตััะพัะฐะฝะฐะผะธ, ะบะธะฝะพัะตะฐััะฐะผะธ ะธ ะฝะฐััะพััะธะผ ัะตะฐััะพะผ ัะพะถะต, ะธ ะดะฐะถะต ั ะฒัััะฐะฒะพัะฝัะผ ะทะฐะปะพะผ, ั ะณะฐะปะตัะตะตะน ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ, ะฝะต ะณะพะฒะพัั ัะถะต ะพ ัะฐะทะฝัั ัะธัะฝะตัะฐั , ะฑะฐััะตะนะฝะฐั ะธ ะบะฐัะบะฐั . ะก ะฟะพะดะทะตะผะฝัะผะธ ะฟะฐัะบะธะฝะณะฐะผะธ ะธ ัะตะฝะฝะธัะฝัะผะธ ะบะพััะฐะผะธ ะฝะฐ ะบัััะต.
ยซะัะต ัะพะณะปะฐัะพะฒะฐะฝะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะฒะตัั ั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ัะฒะพะตะน ะฝะต ะฟะพ ะณะพะดะฐะผ ัะผะฝะพะน ะดะพัะตัะธ ะธ ะดะพะฑะฐะฒะธะป, โ ัะฐะบ ััะพ ัะตะฟะตัั ะผั ะฝะฐะบัะตะฟะบะพ ั ะฝะธะผะธยป, โ ะธ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะฟะฐะปััะตะผ ะฒ ะพะบะฝะพ, ะณะดะต ะฟะพ ะฝะตะฑั ะปะตัะตะปะธ ะฒะตัะตัะฝะธะต ะพะฑะปะฐะบะฐ, ะฐ ะทะฐ ะณะพััะธะฝะธัะตะน ยซะะฐะปััะณ-ะะตะผะฟะธะฝัะบะธยป ะฒะธะดะฝะตะปัั ะัะตะผะปั. ะะฝะธ ะถะธะปะธ ะฒ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต.
ะะฝะตัะบะต ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ััะพ ะพะฝ ัะบะฐะทะฐะป ยซะผัยป, ะฐ ะฝะต ยซัยป. ะญัะพ ะฑัะปะพ ะพัะตะฝั ะปะตััะฝะพ. ะงัะพ ะพะฝะฐ ะฝะต ะฟัะพััะพ ะดะตะฒะพัะบะฐ-ะดะพัะบะฐ ะธะท ะฒะฐะถะฝะพะน ัะตะผัะธ, ะฐ ัะฐััั ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะฑะพะปััะพะณะพ ะธ ัะธะปัะฝะพะณะพ ยซะผัยป, ะบะพัะพัะพะต ะดะพะฟััะตะฝะพ ยซะฝะฐ ัะฐะผัะน ะฒะตัั ยป. ะะพ ะพะฝะฐ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะทะฐะดัะผะฐะปะฐัั ะธ ัะฟัะพัะธะปะฐ, ะบะฐะบ ะฝะฐััะตั ะบะพัััะฟัะธะธ ะธ ะดะตะผะพะบัะฐัะธะธ. ะขะพ ะตััั ะฝะฐััะตั ัะพะณะพ, ะพ ัะตะผ ะพะฝะธ ัะฐะบ ะธะฝัะตัะตัะฝะพ ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะธ ะฟะพ ะฒะตัะตัะฐะผ.
ะะฐะฟะฐ ัะปัะฑะฝัะปัั ะธ ัะบะฐะทะฐะป: ยซะขั ะฒะตะดั ะดะพะฑัะฐั ะธ ะฑะปะฐะณะพัะพะดะฝะฐั, ะฟัะฐะฒะดะฐ? ะขั ะทะฝะฐะตัั, ััะพ ะตััั ะปัะดะธ, ะบะพัะพััะผ ะฟะปะพั ะพ ะถะธะฒะตััั. ะ ัั ั ะพัะตัั ะธะผ ะฟะพะผะพัั, ะดะฐ?ยป ยซะะฐยป, โ ะบะธะฒะฝัะปะฐ ะะฝะตัะบะฐ. ยซะขะฐะบ ะฒะพั, โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะฟะฐะฟะฐ. โ ะะพัะปะต ัะพะณะพ, ะบะฐะบ ั ัะดะตะปะฐั ัะฒะพะน ะะพะปััะพะน ะัะพะตะบั, ั ะผะตะฝั ะฑัะดะตั ะผะฝะพะณะพ ะดะตะฝะตะณ. ะัะตะฝั ะผะฝะพะณะพ. ะะฝะต ะฝะต ะฝัะถะฝั ะทะพะปะพััะต ัะฝะธัะฐะทั. ะฏ ัะผะพะณั ะฟะพะผะพะณะฐัั ะปัะดัะผ. ะะต ะฒะพะพะฑัะต, โ ะพะฝ ัะบะพััะธะป ัะพะถั ะธ ะฝะฐัะธัะพะฒะฐะป ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฒ ะฒะพะทะดัั ะต ะธะทะดะตะฒะฐัะตะปััะบัั ะทะฐะณะพะณัะปะธะฝั, โ ะฝะต ะฒะพั ััะฐะบ ะฒะพะพะฑัะต, ะฒ ัะฒะตัะปะพะผ ะฑัะดััะตะผ, ะบะฐะบ ะผั ั ัะพะฑะพะน ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ะฝะฐ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธั ั ะพะดะธะปะธ, ะฐ ะฒะฟะพะปะฝะต ะบะพะฝะบัะตัะฝะพ. ะ ะตะฐะปัะฝะพ! ะะตะดะฝัะผ ัััะดะตะฝัะฐะผ โ ััะธะฟะตะฝะดะธะธ. ะะดะธะฝะพะบะธะผ ััะฐัะธะบะฐะผ โ ะพะฟะปะฐัะธัั ะปะตัะตะฝะธะต. ะะตะทะดะพะผะฝัะผ โ ะดะฐัั ะฝะพัะปะตะณ ะธ ัะถะธะฝ. ะะพะฝัะปะฐ? ะัะปะธ ะทะฐั ะพัะตัั, ั ะธ ัะตะฑะต ะฑัะดั ะดะฐะฒะฐัั ะดะตะฝัะณะธ, ััะพะฑ ัั ะผะพะณะปะฐ ะปะธัะฝะพ ะฟะพะผะพะณะฐัั ะปัะดัะผ. ะ ะตะฐะปัะฝะพ ะธ ะฟัะธัะตะปัะฝะพ. ะะพั ั ะฒะฐั ะฒ ัะบะพะปะต, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ัะพะถะต ะตัััโฆ ะฝั, ัะตะฑััะฐ, ะบะพัะพััะต ะฒ ัะตะผ-ัะพ ะฝัะถะดะฐัััั? ะะตะดั ะฝะต ะฒัะต ะถะต ัะฐะบะธะต ะฑะพะณะฐััะต, ะบะฐะบ ััโฆ ะขะพ ะตััั ะบะฐะบ ะผั, ะบะฐะบ ะฝะฐัะฐ ัะตะผัั. ะัะปะธ ะฝะฐะดะพ, ัั ัะผะพะถะตัั ะธะผ ะฟะพะผะพะณะฐัั. ะขะพะปัะบะพ ะฟัะธะดัะผะฐะน, ััะพะฑ ััะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ะพะฑะธะดะฝะพ. ะขะฐะบัะธัะฝะพ. ะงัะพะฑ ะพะฝะธ ะดะฐะถะต ะฝะต ะดะพะณะฐะดะฐะปะธััโฆยป
ะะฝั ะทะฐะดัะผะฐะปะฐัั. ะะพะฝะตัะฝะพ, ั ะพัะพัะพ ะฑั ะฒะพั ะฒะทััั ะธ ะบะพะผั-ัะพ ะฒะพั ััะฐะบ ัะฐะบัะธัะฝะพ ะธ ะฝะตะพะฑะธะดะฝะพ ะฟะพะผะพัั. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะฒ ะบะปะฐััะต ะฑัะปะธ ะพัะตะฝั ั ะพัะพัะธะต, ะฝะพ ัะบัะพะผะฝัะต ัะตะฑััะฐ. ะะฐะฟัะธะผะตั, ะดะฒะพััะพะดะฝัะต ัะตัััั ะะฐัะฐัะฐ ะธ ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒั. ะะพัะบะธ ะดะฒัั ะธะทะฒะตััะฝัั ะฑัะฐััะตะฒ-ะฐััะธััะพะฒ. ะะฐัะฐัะธะฝ ะฟะฐะฟะฐ ะฑัะป ะฝะต ัะฐะบะพะน ะทะฝะฐะผะตะฝะธััะน, ะบะฐะบ ะกะพะฝะธะฝ, ะฝะพ ะกะพะฝะธะฝ ะฟะฐะฟะฐ ัะถะต ัะผะตั, ัะฐะบ ััะพ ั ะฝะธั ัะตะฟะตัั ะฒัั ะฟะพัะพะฒะฝั. ะัะต โ ะทะปะพะน, ะฝะพ ะบะปะฐััะฝัะน ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. ะ ะตะณะพ ะปัััะธะน ะดััะณ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ. ะกะผะตัะฝะฐั ัะฐะผะธะปะธั, ะธ ัะฐะผ ะพะฝ ะบััะฝะพััะน, ะพัะบะฐัััะน, ะฝะตะปะพะฒะบะธะน ะธ ัะผะตัะฝะพะน. ะะพะฒะพัะธะปะธ, ััะพ ะพะฝ ะดะฐะปัะฝะธะน ัะพะดััะฒะตะฝะฝะธะบ ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะพะปะธะณะฐัั ะฐ โ ะฝะต ะฟัะพััะพ ะผะธะปะปะธะพะฝะตัะฐ, ะฐ ะฝะฐััะพััะตะณะพ ะบัััะพะณะพ ะพะปะธะณะฐัั ะฐ ะฒ ะฟะพะปะฝะพะผ ัะผััะปะต ัะปะพะฒะฐ, ะบะพัะพััะน ะฟะพะดะฝัะปัั ะตัะต ะฒ ะดะตะฒัะฝะพัััะต. ะ ะผะพะถะตั ะฑััั, ะพะดะฝะพัะฐะผะธะปะตัโฆ ะัะต ะผะพะถะตั ะฑััั. ะะพ ะทะฐ ะฝะตะณะพ ะบัะพ-ัะพ ะฟะปะฐัะธะป, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต. ะะปะธ ะบัะพ-ัะพ ะทะฒะพะฝะธะป ะดะธัะตะบัะพัั. ะะฝั ะฟัะตะบัะฐัะฝะพ ะทะฝะฐะปะฐ, ััะพ ะฟัะพััะพ ัะฐะบ ะฒ ะธั ัะบะพะปั ะฝะต ะฟะพะฟะฐะดะฐัั. ะะพ ั ะะตัะธ ะบะฝะพะฟะพัะฝัะน ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ ะธ ะฟัะพัะปะพะณะพะดะฝะธะต ะบะพะฝะฒะตััั, ะฐ ะทะธะผะพะน โ ัะธะผะฑะตัั ัะพ ัะฑะธััะผะธ ะฝะพัะฐะผะธ.
ยซะขะตะฑะต ะฒัะต ััะฝะพ?ยป โ ะฟะฐะฟะฐ ะฟะตัะตะฑะธะป ะตะต ะผััะปะธ.
ะะฝะต ะฒัะต ััะฐะปะพ ััะฝะพ. ะะต ััะฐะทั, ะดะฝั ัะตัะตะท ััะธ. ะะพ โ ะฝะฐะบัะตะฟะบะพ.
ะะพััะพะผั ะพะฝะฐ ัะฐะบ ัััะพะณะพ ัะตะฐะณะธัะพะฒะฐะปะฐ ะฝะฐ ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะฝัะต ัะฐะทะณะพะฒะพััะธะบะธ ะะฐัะธ ะกะตะปะตะทะฝะตะฒะฐ. ะัะพะฑะตะฝะฝะพ ะฟัะพ ััะพะณะพ ัะธะฟะฐ, ะบะพัะพััะน ะผััะธั ะฒะพะดั!
— He puts children in terrible danger![2] โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะธ ะฝะตะณัะพะผะบะพ ั ะปะพะฟะฝัะปะฐ ะปะฐะดะพะฝัั ะฟะพ ััะพะปั, ะบะฐะบ ะฟะฐะฟะฐ.
ะะพ ะะฐัั ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ ะธ ะทะฐัะผะตัะปัั.
— Why children? โ ะะพะทัะฐะทะธะป ะพะฝ. โ They are grown up enough. They already have passports, they can choose and decide for themselves. Do you have a passport? Yes. You are already fifteen years old, arenโt you? Do you still consider yourself a child?[3]
ะะฝั ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะฐ ะธ ัะผััะธะปะฐัั.
ะะฐัั โ ะบะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, ัะปััะฐะนะฝะพ! โ ะฟะพะฟะฐะป ะฒ ัะฐะผะพะต ะฑะพะปัะฝะพะต ะผะตััะพ.
ะะพะณะดะฐ ะะฝะต ะฑัะปะพ ะฒะพัะตะผั ะปะตั, ะพะฝะฐ ะทะฐะฑะพะปะตะปะฐ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัะตะดะบะพะน ะธ ะพะฟะฐัะฝะพะน ะฑะพะปะตะทะฝัั ะฟะพะทะฒะพะฝะพัะฝะธะบะฐ. ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฑัะป ะพัะตะฝั ะฑะพะณะฐั ะธ ะผะพะณ ะตะต ะพัะฟัะฐะฒะธัั ะฒ ะปัะฑัั ัะฐะผัั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัั ะบะปะธะฝะธะบั ะะฒัะพะฟั ะธ ะะผะตัะธะบะธ. ะะปะธ, ะบ ะฟัะธะผะตัั, ะฒ ะะธัะฐะน, ะณะดะต ะตะต ะพะฑะตัะฐะปะธ ะฟะพััะฐะฒะธัั ะฝะฐ ะฝะพะณะธ ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะทะฐ ะดะฒะฐ ะปะตัะฝะธั ะผะตัััะฐ. ะะพ ะดะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ัะฐะผ ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฒ ะดะตัััะฒะต, ัะพะฒะฝะพ ะฒ ัะพะผ ัะฐะผะพะผ ะฒะพะทัะฐััะต, ะฟะตัะตะฑะพะปะตะป ัะพะน ะถะต ัะฐะผะพะน ะฑะพะปะตะทะฝัั. ะ ะปะตัะธะปะธ ะตะณะพ ัะพะณะดะฐ ะฟะพ ััะฐัะธะฝะบะต: ะฟะพััะธ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะพะฝ ะฟัะพะปะตะถะฐะป ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะพ ะฒ ะณะธะฟัะพะฒะพะผ ะฟะฐะฝัะธัะต ะฒ ะดะตััะบะพะผ ัะฐะฝะฐัะพัะธะธ ะะฝะฐะฟั. ะะพ ั ัะตั ะฟะพั ะธ ะดัะผะฐัั ะทะฐะฑัะป ะพะฑ ััะพะผ ะฝะตััะฐัััะต, ะฐ ะฟะพัะพะผั ัะตัะธะป, ััะพ ะดะพัั ัะฒะพั ะปัะฑะธะผัั ะฑัะดะตั ะปะตัะธัั ัะพัะฝะพ ัะฐะบ ะถะต, ะฝะฐะดะตะถะฝัะผ ะดะตะดะพะฒัะบะธะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ, ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฒ ะะฝะฐะฟะต, ะฐ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ, ะฒ ะณะพัะฝะพะผ ัะฐะฝะฐัะพัะธะธ. ะกะบะฐะทะฐะฝะพ โ ัะดะตะปะฐะฝะพ. ะ ะดะตัััะธ ั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะพะน ะณะพะดะฐะผ ะะฝะตัะบะฐ ะฑัะปะฐ ัะพะฒัะตะผ ะทะดะพัะพะฒะฐ, ะฝะพ ะฒ ัะบะพะปั ะธะดัะธ ะฝะฐะพััะตะท ะพัะบะฐะทะฐะปะฐัั: ะบะฐะบ ะถะต ััะพ ั ะฟัะธะดั ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะบะปะฐัั, ััะดะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะณะพััะบะพ ะธ ะฑะตะทััะตัะฝะพ, ะตัะปะธ ะฑัะดั ะฝะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฒัะตั ััะฐััะต? ะขัั ะฝะฐะดะพ ะพะฑัััะฝะธัั, ััะพ ั ัะบััะตัะฝะฐัะพะผ ั ะฝะธั ะฝะต ะฟะพะปััะธะปะพัั: ััะตะดะธ ััััะบะธั ััะธัะตะปะตะน ะฝะต ะฝะฐัะปะพัั ะพั ะพัะฝะธะบะพะฒ ะตะทะดะธัั ะบ ะะฝะตัะบะต ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธั, ะดะฐะถะต ะทะฐ ะดะตะฝัะณะธ ะะฐะฒะปะฐ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธัะฐ. ะะฐ ะธ ัะฐะผะฐ ะะฝะตัะบะฐ ะฝะต ะพัะตะฝั ะปัะฑะธะปะฐ ะปะธััะฐัั ััะตะฑะฝะธะบะธ. ะะน ะฑะพะปััะต ะฝัะฐะฒะธะปะพัั ัะผะพััะตัั ะฒ ะพะบะฝะพ, ัะปััะฐัั ะผัะทัะบั ะธ ัะฐะทะผััะปััั.
ะงัะพ ะฑัะปะพ ะดะตะปะฐัั? ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฟะพัััะฟะธะป ะฟัะพััะพ ะธ ัะตัะธัะตะปัะฝะพ, ะบะฐะบ ะพะฝ ะฟะพัััะฟะฐะป ะฒัะตะณะดะฐ. ะะฝ ะฟะตัะตะดะตะปะฐะป ะฒัะต ะดะพะบัะผะตะฝัั ัะฒะพะตะน ะดะพัะตัะธ, ัะดะตะปะฐะป ะตะต ะฝะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะผะพะปะพะถะต ะธ ะฟะตัะตะตั ะฐะป ั ัะตะผัะตะน ะธะท ะะตัะตัะฑััะณะฐ ะฒ ะะพัะบะฒั. ะขะฐะบ ััะพ ะะฝะตัะบะฐ ะฟะพัะปะฐ ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะบะปะฐัั ัะฐะผะพะน ะปัััะตะน ะผะพัะบะพะฒัะบะพะน ัะบะพะปั ะฒ ัะพะผ ะถะต ัะฐะผะพะผ ะฒะพััะผะธะปะตัะฝะตะผ ะฒะพะทัะฐััะต. ะะฝะฐ ะดะฐะถะต ะฝะฐััะธะปะฐัั ััะฒััะฒะพะฒะฐัั ัะตะฑั ะฝะฐ ััะธ ะผะธะฝัั ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ. ะะตัะฒะพะต ะฒัะตะผั ะตะน ััะพ ะฑัะปะพ ะฝะตัััะดะฝะพ โ ะพะฝะฐ ัะฐะผะฐ ัะตะฑะต ะพะฑัััะฝัะปะฐ, ััะพ ะฒัะตะผั, ะฟัะพะฒะตะดัะฝะฝะพะต ะฒ ัะฐะฝะฐัะพัะธะธ, ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะฑั ะฝะต ััะธัะฐะตััั. ะ ัะตัััะฝะฐะดัะฐัั ะปะตั ะพะฝะฐ ะปะตะณะบะพ ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ ัะตะฑั ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝะตะน, ะฒ ะฟััะฝะฐะดัะฐัั โ ะฑะพะปะตะต ะธะปะธ ะผะตะฝะตะต ะผะพะณะปะฐ ัะพะณะปะฐัะธัััั ะฝะฐ ััะธะฝะฐะดัะฐัั, ะฝะพ ะฒ ะฟะพััะธ ะฒะทัะพัะปัะต ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ะฑััั ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝะตะน ะดะตะฒะพัะบะพะน ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ัะถะต ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะฟัะพััะพ. ะฅะพัั ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะผะฐะปะตะฝัะบะฐั, ัะพะฝะตะฝัะบะฐั, ั ััะฟะบะฐั, ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะฟะพั ะพะถะฐั ะฝะฐ ัะฒะพะธั ัะพัะปัั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธั.
ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะะฐัั ะตะน ะพัะตะฝั ะฝัะฐะฒะธะปัั, ะธ ะฑัะปะพ ัััะฐัะฝะพ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธัั, ััะพ ะพะฝ ัะทะฝะฐะตั ะฒัั ะฟัะฐะฒะดั. ะัะพะฑะตะฝะฝะพ ัะตะนัะฐั. ะะพั ะณะพะดะฐ ัะตัะตะท ะดะฒะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะตะผั ัะฐะผะพะผั ะฑัะดะตั ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั, ะตะผั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะดะฐะถะต ะฟะพะฝัะฐะฒะธััั ะดััะถะฑะฐ ั ะดะตะฒััะบะพะน ะฝะตะผะฝะพะณะพ ััะฐััะต, ะฐ ะทะฝะฐัะธั โ ัะผะฝะตะต, ะพะฟััะฝะตะต ะธ ะฒะพะพะฑัะต ะฒะทัะพัะปะตะต. ะ ะฟะพะบะฐ โ ััั!
ะะพััะพะผั ะะฝั ะพัะฒะตัะธะปะฐ ัะปะตะณะบะฐ ะฝะตะฒะฟะพะฟะฐะด:
— Hush! What do you mean? Here I am, in full view. Everyone knows me, I have no secrets. But he? He is a scoundrel. Not only a political criminal, but also an ordinary thief! Public enemy and the puppet of the West[4].
ะกะบะฐะทะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะฟัะธะณะพะฒะพั ะพะณะปะฐัะธะปะฐ.
— What a virulent assail[5], โ ะฒะทะดะพั ะฝัะป ะะฐัั.
ะะฝ ัะผะตะป ะณะพะฒะพัะธัั ะฝะฐ ัะพะผ ะธะทััะบะฐะฝะฝะพะผ, ัััะพัะบั ััะฐัะพะผะพะดะฝะพะผ ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะผ ัะทัะบะต, ะบะพัะพัะพะผั ััะธะปะธ ะฒ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ ะธะผะตะฝะธ ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั. ะะธะผะฝะฐะทะธั โ 12, ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะฐยป, ะบะฐะบ ะทะฒะฐะปะธ ะตะต ัะตะฑััะฐ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฒ ัะฐะผะพะน ัะบะพะปะต, ะฝะพ ะธ ะฟะพ ะฒัะตะน ะะพัะบะฒะต. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะพะดะฝะฐ ะธะท ะฟะตัะฒัั ะธ ะปัััะธั ยซะฐะฝะณะปะธะนัะบะธั ยป ัะบะพะป ะณะพัะพะดะฐ. ะ ะฐัะฟะพะปะฐะณะฐะปะฐัั ะพะฝะฐ ะฒ ััะฐัะพะผ ะทะดะฐะฝะธะธ ะฒ ะะฐะปะพะผ ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะพะผ ะฟะตัะตัะปะบะต, ะฒ ะฑะปะธะถะฝะตะผ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต. ะััะพัะธั ะตะต ะฑัะปะฐ ะพัะพะฑะพะน ะณะพัะดะพัััั ััะธัะตะปะตะน ะธ ัะตะฑัั. ะะพะณะดะฐ-ัะพ, ัััั ะปะธ ะฝะต ะฟะพะปัะพัะฐััะฐ ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด, ัะฐะผ ะฑัะปะพ ะะผะฟะตัะฐัะพััะบะพะต ะทะตะผะปะตะผะตัะฝะพะต ััะธะปะธัะต, ะฟะพัะพะผ โ ะทะฝะฐะผะตะฝะธัะฐั ัะฐััะฝะฐั ะณะธะผะฝะฐะทะธั ะัะตะนัะผะฐะฝะฐ, ะฟะพัะพะผ โ ัะพะฒะตััะบะฐั ัััะดะพะฒะฐั ัะบะพะปะฐ โ 12, ะบะพัะพัะพะน ะฒ 1931 ะณะพะดั ะฟัะธัะฒะพะธะปะธ ะธะผั ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั ะฟะพัะปะต ะฒะธะทะธัะฐ ะทะฝะฐะผะตะฝะธัะพะณะพ ะธัะปะฐะฝะดัะฐ ะฒ ะกะกะกะ . ะะพัะพะผั ััะพ ะพะฝ ะฟะพะฑัะฒะฐะป ะธะผะตะฝะฝะพ ะฒ ััะพะน ัะบะพะปะต ะธ ะพััะฐะฒะธะป ัะฒะพะน ะฟะพัััะตั ั ะฐะฒัะพะณัะฐัะพะผ, ะบะพัะพััะน ัะฐะบ ะธ ะฒะธัะธั ะฒ ะบะฐะฑะธะฝะตัะต ะดะธัะตะบัะพัะฐ. ะะพั ั ัะตั ัะฐะผัั ะฟะพั ะฒ ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะตยป ััะธะปะธัั ะฒ ะพัะฝะพะฒะฝะพะผ ะฝะตะฟัะพัััะต ัะตะฑััะฐ โ ััะฝะพะฒัั ะธ ะฒะฝัะบะธ ะณะปะฐะฒะฝัั ัะพะฒะตััะบะธั ะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะพะฒ, ะฐ ัะฐะบะถะต ะฐะบะฐะดะตะผะธะบะพะฒ, ะฟะธัะฐัะตะปะตะน ะธ ะฐััะธััะพะฒ. ะขัะฐะดะธัะธั ัะพั ัะฐะฝะธะปะฐัั ะดะพ ัะตะณะพะดะฝััะฝะตะณะพ ะดะฝั โ ัะพะปัะบะพ ะบ ะฑะพะปััะพะผั ะฝะฐัะฐะปัััะฒั ะธ ะทะฝะฐะผะตะฝะธัะพะน ะธะฝัะตะปะปะธะณะตะฝัะธะธ ะฟัะธะฑะฐะฒะธะปัั ะบััะฟะฝัะน ะฑะธะทะฝะตั.
***
ะะพะบะฐ ะะฝั ะธ ะะฐัั ัะฟะพัะธะปะธ, ั ะฒะฐััะฐััั ะดััะณ ะฟะตัะตะด ะดััะถะบะพะน ัะฒะพะธะผ brilliant English, ะณะดะต-ัะพ ะฒะดะฐะปะตะบะต ะฒัะต ะฒัะตะผั ะทะฒะพะฝะธะป ะฝะตะถะฝัะน ะดะฒะตัะฝะพะน ะบะพะปะพะบะพะปััะธะบ, ะธ ะพะณัะพะผะฝะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ะฝะฐะฟะพะปะฝัะปะฐัั ะณะพัััะผะธ. ะะฝะพะฒั ะฟัะธัะตะดัะธะต ะทะดะพัะพะฒะฐะปะธัั ั ะะฝะตะน ะธ ััั ะถะต ะพัั ะพะดะธะปะธ ะฒ ััะพัะพะฝั, ัะฐะดะธะปะธัั ะฝะฐ ะดะธะฒะฐะฝั ะธ ะบัะตัะปะฐ, ะฝะฐัะธะฝะฐะปะธ ะฑะพะปัะฐัั. ะะฐ ััะพะปะต ััะพัะปะธ ะพัะตะฝั ะปะตะณะบะธะต ะทะฐะบััะบะธ: ัััะบัั ะธ ัััั. ะะพัะฝะธัะฝะฐั ะฒะฝะตัะปะฐ ะฟะพะดะฝะพั ั ัะฐะผะฟะฐะฝัะบะธะผ ะฒ ัะทะบะธั ะฑะพะบะฐะปะฐั .
— ะะตััะบะพะต? โ ัะผะพััะธะป ะฝะพั ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะะตะทะฐะปะบะพะณะพะปัะฝะพะต?
— ะ ัั ั ะพัะตะป, ััะพะฑ ะผะพะตะณะพ ะฟะฐะฟั ะฟะพัะฐะดะธะปะธ ะทะฐ ัะฟะฐะธะฒะฐะฝะธะต ะฝะตัะพะฒะตััะตะฝะฝะพะปะตัะฝะธั ? โ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะะฝั.
ะััะฐะปัะฝัะต ัะพะถะต ะทะฐัะผะตัะปะธัั. ะัะธัะปะธ ัะถะต ะฟะพััะธ ะฒัะต โ ะธ ะดะฒะพััะพะดะฝัะต ัะตัััะธัะบะธ ะะฐัะฐัะฐ ะธ ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒั, ะพะฑะต ัะตัะฝะพะฒะพะปะพััะต ะธ ะณะปะฐะทะฐัััะต, ะธ ะะพะปั ะะพะฝัะฐะบะพะฒ, ะฒะปัะฑะปะตะฝะฝัะน ะฒ ะกะพะฝั, ะธ ัะปะตะณะบะฐ ัะพะปััะพะฒะฐัะฐั ะบัะฐัะฐะฒะธัะฐ ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, ะธ ะตะต ะฑัะฐั-ะฑะปะธะทะฝะตั ะขะพะปั, ะธ ะฝะตะปะตะฟะฐั ะะพะปะธะฝะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะฒัะต ะฒัะตะผั ะณัะพะผะบะพ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะดะปะธะฝะฝัะต ะฐะฝะตะบะดะพัั ะธะท ะธะฝัะตัะฝะตัะฐ, ะฝะฐ ั ะพะดั ะฒัั ะทะฐะฑัะฒะฐั, ะฟััะฐััั ะฒ ะฟะพะดัะพะฑะฝะพัััั ะธ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ะบัะธัะฐ: ยซะะฐะนัะต ะถะต ะดะพัะฐััะบะฐะทะฐัั! ะขะฐะผ ัะตะนัะฐั ะฑัะดะตั ะพัะตะฝั ัะผะตัะฝะพ!ยป, ะธ ะดะปะธะฝะฝัะน ัะผะฝัะน ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน, ะธ ะตะณะพ ะฒะตัะฝะฐั ะบัะพั ะพััะปัะบะฐ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะฟะพั ะพะถะฐั ะฝะฐ ะฑะตะปะพัะบั. ะั ะธ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะบะพัะพััะน ะพะดะธะฝ ะฑะพะบะฐะป ั ยซะดะตััะบะธะผ ัะฐะผะฟะฐะฝัะบะธะผยป ััะฐะทั ะฒัะฒะตัะฝัะป ะฝะฐ ะฟะพะป, ะฐ ะดััะณะธะผ ะฟะพะฟะตัั ะฝัะปัั ะธ ะดะพะปะณะพ ะบะฐัะปัะป, ะธ ะฟัะพัะธะป ะะพัะพั ะพะฒะฐ ัััะบะฝััั ะตะณะพ ะฟะพ ัะฟะธะฝะต.
ะัะตะณะพ ะฑัะปะพ ัะตะปะพะฒะตะบ ะฟััะฝะฐะดัะฐัั โ ะบะปะฐััั ะฒ ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะตยป ะฑัะปะธ ะผะฐะปะตะฝัะบะธะต.
— ะขะพัั, ัะพัั! โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะธ ะฒัะต.
— ะัะฐะบ! โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะฟะพะดะฝะธะผะฐั ะฑะพะบะฐะป. โ ะัะต ะณะพัะพะฒั?
ะะพ ััั ั ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ะณัะพะผะบะพ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ะตะณะพ ะดััะฐัะบะธะน ะบะฝะพะฟะพัะฝัะน ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ.
ะะฝ ะดะพะปะณะพ ะฒััะฐัะบะธะฒะฐะป ะตะณะพ ะธะท ะฟัะฐะฒะพะณะพ ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ะปะตะฒะพะน ััะบะพะน โ ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฒ ะฟัะฐะฒะพะน ััะบะต ั ะฝะตะณะพ ะฑัะป ะฑะพะบะฐะป, ะธ ะพะฝ ะฝะต ะผะพะณ ะดะพะณะฐะดะฐัััั ะฟะตัะตะปะพะถะธัั ะตะณะพ ะธะท ััะบะธ ะฒ ััะบั ะธะปะธ ะฟะพััะฐะฒะธัั ะฝะฐ ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบ. ะะฐะบะพะฝะตั, ะฒััะฐัะธะป ะธ, ะบะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, ััะพะฝะธะป ะฝะฐ ะฟะพะป. ะัััะบะฐ ะพัะปะตัะตะปะฐ, ะฒััะบะพัะธะปะฐ ะฑะฐัะฐัะตะนะบะฐ. ะคะตะดัะบะฐ ะะพัะพั ะพะฒ, ะฝั ะฟัะพััะพ ะบะฐะบ ะฝัะฝัะบะฐ, ััั ะถะต ะฟะพะดะฑะตะถะฐะป ะบ ะฝะตะผั, ะธ ะพะฝะธ ะฒะดะฒะพะตะผ ะฒััะฐะฒะธะปะธ ะฑะฐัะฐัะตะนะบั ะฝะฐ ะผะตััะพ. ะะฐะถะฐะปะธ ะฝะฐ ะฟะตัะตะทะฐะณััะทะบั. ะะฐะฟะตะปะฐ ะผะตะปะพะดะธั ยซะะพะบะธะธยป.
— ะะพัะผัะปั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะพัะพั ะพะฒ.
— ะั, ัะตะฟะตัั ะผะพะถะฝะพ? โ ะฝะฐัะผะตัะปะธะฒะพ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั, ะฝะฐะฑะปัะดะฐั ััั ััะตะฝั.
— ะะฐ, ะดะฐ, ะธะทะฒะธะฝะธ! โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.
— ะะพะถะฐะปัะนััะฐ! โ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะะฝั, ะธ ะฒัะต ะฟะพะดั ะฒะฐัะธะปะธ. โ ะั, ะธัะฐะบ, ะผะพะธ ะดะพัะพะณะธะต!
ะัะต ะฟะพะดะฝัะปะธ ะฑะพะบะฐะปั.
ะะตััะบะธะฝ ัะตะปะตัะพะฝ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ัะฝะพะฒะฐ.
— ะะทะฒะธะฝะธ ะตัะต ัะฐะท! โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ะธ ะพัะฒะตัะธะป. โ ะะฐ? ะะปั! ะะฐ, ัโฆ ะะดัะฐะฒััะฒัะนัะต. ะัะพ? ะะปั? ะ ััะพ ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ? ะะฐะบ? ะ ะะฐัั ัะพะถะต? ะ, ะดะฐ, ะดะฐ. ะะทะฒะธะฝะธัะต. ะกะตะนัะฐั, โ ะพะฝ ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะะฝะต. โ ะะฐะบะพะน ัะฒะพะน ัะพัะฝัะน ะฐะดัะตั? ะะฐะบ ััะดะฐ ะปัััะต ะทะฐะตั ะฐัั, ั ะัะดัะฝะบะธ ะธะปะธ ั ะะพะปัะฝะบะธ?
— ะ ััะพ ะตัะต ะทะฐัะตะผ? โ ะะพะทะผััะธะปะฐัั ะพะฝะฐ. โ ะะพะผั ััะพ ั ะดะพะปะถะฝะฐ ะดะฐะฒะฐัั ะฝะฐั ัะพัะฝัะน ะฐะดัะตั?
— ะะปั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ ะธ ะะฐัั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ, โ ะผะฐัะธะฝะฐะปัะฝะพ ะพัะฒะตัะธะป ะะตัั. โ ะั ัั ะธั ะฝะต ะทะฝะฐะตัั, ะปะฐะดะฝะพโฆ โ ะธ ะพัะฒะตัะธะป ะฒ ัะตะปะตัะพะฝ โ ะขะพะณะดะฐ ั ะปัััะต ะฒัะนะดั ัะฐะผ. ะะฐ ัะปะธัั. ะะฐ ัะณะพะป ะะพะปัะฝะบะธ. ะะณะฐ.
ะะฝ ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน.
— ะะทะฒะธะฝะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ. โ ะ ััะตัะธะน ัะฐะท ะธะทะฒะธะฝะธ! โ ะธ ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะทะฐั ะธั ะธะบะฐะป. โ ะะฝะต ะฝะฐะดะพ ััะพัะฝะพ ะปะธะฝััั. ะะฝะธ ัะถะต ััั.
— ะะฒััะธั ัะณัะพะถะฐััะต! ยซะะฝะธ ัะถะต ััั!ยป ะัะพ ะพะฝะธ? โ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ.
— ะกะตัััะธัะบะธ ะะฐะผะพะฝะพะฒั, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะะตัั. โ ะะพะธ ะดะฒะพััะพะดะฝัะต.
— ะัะฐัะธะฒัะต? โ ััั ะถะต ะฒััััะป ะขะพะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ.
— ะัะตะฝั ะผะธะปะตะฝัะบะธะต, ะฝะพ ัะพะฒัะตะผ ััะฐัะตะฝัะบะธะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะฏ ะธั ั ะะตััะบะพะน ะฒะธะดะตะป. ะะผ ัะถะต ะฟะพ ะดะฒะฐะดัะฐัั ะดะฒะฐ, ัะพัะฝะพ. ะ ัะพ ะธ ะฑะพะปััะต. ะะตััะบะฐ, ััะพ ัะปััะธะปะพัั?
— ะะพะบะฐ ะฝะต ะณะพะฒะพััั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั, ะดะฒะธะณะฐััั ะบ ะฒัั ะพะดั. โ ะะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฒะพะปะฝััััั.
— ะั, ััะฐััะปะธะฒะพ! โ ัะฐะทะดัะฐะถะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั ะตะผั ะฒัะปะตะด ะธ, ะฒัะถะดะฐะฒ ะฝะตะดะพะปะณะพ, ะพะฑัะฐัะธะปะฐัั ะบ ะคะตะดะต. โ ะขั-ัะพ ั ะพัั ัะฐััะบะฐะถะธ, ะฒ ัะตะผ ะดะตะปะพ?
— ะฅั ะทั, โ ะผะฐั ะฝัะป ััะบะพะน ะคะตะดั. โ ะะฐะบะธะต-ัะพ ัะตะผะตะนะฝัะต ัะบะฐะฝะดะฐะปั, ะพัะบัะดะฐ ะผะฝะต ะทะฝะฐััโฆ ะั, ะณะดะต ัะฒะพะน ัะพัั?
— ะัะฐะบ, ะผะพะธ ะดะพัะพะณะธะต, ะฒ ััะตัะธะน ัะฐะท, โ ัะปะตะณะบะฐ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั. โ ะััะทัั! ะ ะตะฑััะฐ! ะญะน! ะัะต ััะดะฐ! ะะฐะฒะฐะนัะต ะทะฐ ะฝะฐัั ัะบะพะปั, ะทะฐ ะฝะฐั ะบะปะฐัั, ะทะฐ ะฝะฐั! ะฃัะฐ!
ะัะต ะฟะพััะฝัะปะธัั ัะพะบะฐัััั.
— ะงะตัะตะท ะดะฒะฐ ะผะตัััะฐ ะผั ัะฝะพะฒะฐ ะฒัะต ะฒัััะตัะธะผัั! ะฃัะฐ! ะะพ ะดะฝะฐ!
— ะะต ะฒัะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.
— ะญัะพ ะตัะต ััะพ?
— ะฃะตะทะถะฐั, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะพะฝ. โ ะะตัะตะตะทะถะฐั, ะฒ ัะผััะปะต. ะ ะฝะต ั ะพะดะธะฝ. ะะพั ะคะตะดัะบะฐ ัะพะถะต. ะ ะะธะทะฐ. ะ ะะตะทะฝะพั ัะพะถะต. ะ ะพะฝะธ ัะพะถะต, โ ะพะฝ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะฝะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒัั .
— ะั ััะพ? ะขะฐะบ ััะพ ะถะตโฆ ะญัะพ ะถะต ะฝะฐัะตะณะพ ะบะปะฐััะฐ ะฑะพะปััะต ะฝะต ะฑัะดะตั? โ ะธะทัะผะธะปะฐัั ะะตะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ. โ ะั ััะพ, ัะพะฒัะตะผ ัะถะต? ะะฐัะตะผ?
— ะะต ะทะฐัะตะผ, ะฐ ะฟะพัะตะผั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพัะพะผั ััะพ ะผั ะฒัะต ะถะธะฒะตะผ ะฒ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะผ ะบะฒะฐััะฐะปะต. ะ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป ัะฝะพััั. ะัะบะฒะฐะปัะฝะพ ัะพะฒัะตะผ ัะบะพัะพ. ะะพัะพะผั ััะพ ะฝะฐ ััะพะผ ะผะตััะต ะฑัะดะตั, โ ะธ ััั ะพะฝ ะทะฐะบะฐัะปัะปัั, โ ะฑัะดะตั ััะพ-ัะพ ะฑะพะปััะพะต-ะฟัะตะฑะพะปััะพะต.
— ะคะธะณะฐัะต, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะพะปะธะฝะฐ.
— ะคะธะณะฐัะต, โ ะฟะพะฒัะพัะธะปะธ ะะตะปั ะธ ะตะต ะฑัะฐั ะขะพะปั. ะขะพะปั ะดะพะฑะฐะฒะธะป:
— ะ ัะตะณะพ ัะฝะพัะธัั? ะะพัะผะฐะปัะฝัะต ะดะพะผะฐ, ั ัะฐะบ ััะธัะฐั!
ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป โ ััะพ ะฑัะปะธ ััะธ ะฝะตะฑะพะปััะธั ัะตัััะตั ััะฐะถะฝัั ะดะพะผะฐ ะผะตะถะดั ะะพะปััะธะผ, ะะฐะปัะผ ะธ ะกัะตะดะฝะธะผ ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะผ ะฟะตัะตัะปะบะฐะผะธ. ะะพะณะดะฐ-ัะพ, ะฒ ัะฐะผะพะผ ะฝะฐัะฐะปะต ะฟัะพัะปะพะณะพ ะฒะตะบะฐ, ััะธ ะดะพะผะฐ ะฟะพัััะพะธะป ัะฐะฑัะธะบะฐะฝั ะะฐะปะฐัะตะฒ ะดะปั ัะปัะถะฐัะธั , ะบะพัะพััะต ัะฟัะฐะฒะปัะปะธ ะตะณะพ ะผะพัะบะพะฒัะบะธะผะธ ัะฐะฑัะธะบะฐะผะธ.
— ะั ะฒัะต ัะพะถะต ัะฐะบ ััะธัะฐะตะผ, โ ะฟะพะบะธะฒะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพ ะบัะพ-ัะพ ััะธัะฐะตั ะฟะพ-ะดััะณะพะผั.
ะะฝ ะฟัะธััะฐะปัะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะฝั.
— ะ ั ััั ะฟัะธ ัะตะผ? โ ะะฝะฐ ะดะฐะถะต ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะฐ. โ ะญัะพ ัะตะนัะฐั ะธะดะตั ะฟะพ ะฒัะตะน ะะพัะบะฒะต. ะัะตะผ ะดะฐะดัั ะฝะพะฒัะต ะฟัะตะบัะฐัะฝัะต ะบะฒะฐััะธัั.
— ะะฐ ะะะะะพะผ? โ ัะฟัะพัะธะป ะขะพะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ. โ ะะปะธะฝ. ะกะพะฒัะตะผ ะบัะฐะตะฒ ะฝะต ะฒะธะดัั!
— ะะพัะตะผั ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะทะฐ ะะะะะพะผ? โ ะฟะพะถะฐะปะฐ ะฟะปะตัะฐะผะธ ะะฝั. โ ะะปัะฟะพััะธ.
— ะะฐัะตะณะพ ะบะปะฐััะฐ ะฝะต ะฑัะดะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะขะพ ะตััั ะฒะพั ะฒัะตะน ะฝะฐัะตะน ะบะพะผะฟะฐะฝะธะธ. ะญัะพ ัะพะปัะบะพ ัะฐะบ ะบะฐะถะตััั, ัะธะฟะฐ, ยซะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะฑัะดะตะผ ะพะฑัะฐััััยป. ะะต ะฑัะดะตะผ. ะฏ ัะทะฝะฐะฒะฐะป, ะฒ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะผ ะบะฒะฐััะฐะปะต ะถะธะฒัั, ะฟัะตะดััะฐะฒั ัะตะฑะต, ััะธะดัะฐัั ัะตััั ะฝะฐัะธั ัะตะฑัั, ะตัะปะธ ะฟะพ ะฒัะตะน ัะบะพะปะต. ะ ะฟััะตัะพ ััะธัะตะปะตะน. ะขะพ ะตััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะฐัะตะน ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะธยป ัะพะถะต ะฝะต ะฑัะดะตั.
— ะะฐะบ ััะพ ะฝะต ะฑัะดะตั? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะปะฐ ะะพะปะธะฝะฐ. โ ะขะพะถะต ัะฝะตััั? ะะธ ัะธะณะฐ ัะตะฑะต!
— ะ ะฟะตัะตะฝะพัะฝะพะผ ัะผััะปะต, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะตะน ะะฑัะธะบะพัะพะฒ. โ ะัะพะดะต ัะฐ, ะดะฐ ะฝะต ัะฐ. ะะพะฝัะปะฐ? ะะพั ะบะฐะบ ะตัะปะธ ั ัะตะฑั ะฝะพั ะพัะพัะฒะฐัั, โ ะธ ะพะฝ ะฟะพััะฝัะปัั ะบ ะฝะตะน ัะบัััะตะฝะฝัะผะธ ะฟะฐะปััะฐะผะธ. โ ะขั ะฑัะดะตัั ัั? ะัะพะดะต ัั! ะะพ ะฝะต ัะพะฒัะตะผ!
— ะะฐะฐโฆ โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน ะพััะฐะณะฝัะฒ ะฒ ััะพัะพะฝั. โ ะขะตะฟะตัั ะฟะพะฝััะฝะพ.
***
ะขะตะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ะะตัั ะตั ะฐะป ะฒ ะฑะพะปััะพะน ัะตัะฝะพะน ะผะฐัะธะฝะต. ะะฝ ัะธะดะตะป ัะทะฐะดะธ. ะ ัะดะพะผ ั ะฝะธะผ ัะธะดะตะปะฐ ะตะณะพ ะดะฒะพััะพะดะฝะฐั ัะตัััะฐ ะะปั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ. ะะน ะฑัะปะพ ะปะตั ะดะฒะฐะดัะฐัั ั ะฝะตะฑะพะปััะธะผ. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะบัะฐัะธะฒะฐั ัััะพะนะฝะฐั ะดะตะฒััะบะฐ, ะฝะพ ั ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะบะฐะผะตะฝะฝัะผ ะปะธัะพะผ. ะกะผะพััะตะปะฐ ะฟััะผะพ ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน ะธ ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะฐ, ะตะดะฒะฐ ัะตะฒะตะปั ะณัะฑะฐะผะธ.
— ะัะดะฐ ัั ะผะตะฝั ะฒะตะทะตัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั ะผะธะฝัั ัะตัะตะท ะฟััะฝะฐะดัะฐัั.
— ะะฝ ัะผะธัะฐะตั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะะฐัั ัะตะนัะฐั ั ะฝะธะผ. ะัั ัะพะฒัะตะผ ะฟะปะพั ะพ.
— ะัะพ ัะผะธัะฐะตั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั.
— ะะธัะธะปะป ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธั.
— ะัะพ-ะบัะพ? โ ะฝะฐัะพัะฝะพ ะฟะตัะตัะฟัะพัะธะป ะะตัั.
— ะขะฒะพะน ะฟะฐะฟะฐ.
— ะะตั ั ะผะตะฝั ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะฟะฐะฟั, โ ะผัะฐัะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั ะธ ัััะบะฝัะป ะตะต ะบัะปะฐะบะพะผ ะฟะพ ะบะพะปะตะฝะบะต.
— ะะตั, ะตััั! โ ะทะฐัะธะฟะตะปะฐ ะะปั, ะฑะพะปัะฝะพ ัะปะตะฟะฝัะฒ ะตะณะพ ะฟะพ ััะบะต. โ ะะฝ ัะตะฑั ะฟัะธะทะฝะฐะป ัะฒะพะธะผ ััะฝะพะผ! ะะฐะป ัะตะฑะต ัะฐะผะธะปะธั ะธ ะพััะตััะฒะพ!
— ะกะฟะฐัะธะฑะพ ะฑะพะปััะพะต! โ ะะตัั ะดะพะฒะพะปัะฝะพ-ัะฐะบะธ ะทะปะพ ะพัะบะปะฐะฑะธะปัั. โ ะััะฐะฝะพะฒะธ ะผะตะฝั ั ะผะตััะพ. ะะพะถะฐะปัะนััะฐ!
— ะััะฐัะพะบ, โ ะะปั ะพะฑะฝัะปะฐ ะะตัั. โ ะะฐะบ ะณะพะฒะพัะธะปะธ ะฒ ััะฐัะธะฝั, ะบะฐะบะพะน-ะฝะธะบะฐะบะพะน, ะฐ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะพัะตั. ะ ะพะดะฝะฐั ะบัะพะฒั. ะ ะฟะพัะพะผ. ะะฝ ะฒะดะพะฒัะน ะธ ะฑะตะทะดะตัะฝัะน. ะฃ ะฝะตะณะพ ะฝะธะบะพะณะพ ะฝะตั. ะกะพะฒัะตะผ ะฝะธะบะพะณะพ, ะบัะพะผะต ะฝะฐั ั ะะฐัะตะน. ะะพ ะผั ะฒัะตะณะพ ะปะธัั ะฟะปะตะผัะฝะฝะธัั. ะะฝ ะฒัะต ะพััะฐะฒะธะป ัะตะฑะต.
— ะงัะพ โ ะฒัั? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะะตัั. โ ะ ะบะฐะบะพะผ ัะผััะปะต?
— ะัั ะฒ ัะผััะปะต ะฒัั. ะั ะธ ะดะพ. ะะตั, ะฝะต ะฒัั, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะัััะดะตััั ะฟัะพัะตะฝัะพะฒ ะทะฐะฒะตัะฐะป ะฝะฐ ะฑะปะฐะณะพัะฒะพัะธัะตะปัะฝะพััั. ะกะพะฒัะตะผ ัััะพัะบั ะฝะฐะผ ั ะะฐัะตะน. ะ ะพััะฐะปัะฝะพะต, ะฟัะพัะตะฝัะพะฒ ัะพัะพะบ ะฒะพัะตะผั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต โ ัะตะฑะต. ะะดะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะผั ััะฝั. ะะพััะฐัะฐะนัั ะฝะต ัะพะนัะธ ั ัะผะฐ. ะะพ ัั ะฝะต ะฑะพะนัั. ะััั ะฟะพะฟะตัะธัะตะปััะบะธะน ัะพะฒะตั, ะฑัะดะตั ัะปะตะดะธัั, ััะพะฑ ัั ะฒัะต ะฝะต ัะฟัััะธะป ะฝะฐ ััะฟะฐ-ััะฟัั. ะฏ ะฑัะดั ะทะฐ ัะพะฑะพะน ัะปะตะดะธัั.
ะะฝะฐ ะพะฑะฝัะปะฐ ะตะณะพ ะตัะต ัะธะปัะฝะตะต, ะณัะพะผะบะพ ัะผะพะบะฝัะปะฐ ะฒ ัะตะบั ะธ ะพััััะฐะฝะธะปะฐัั.
ะะฐัะธะฝะฐ ะฒัะตั ะฐะปะฐ ะฒ ะฒะพัะพัะฐ ะพัะพะฑะฝัะบะฐ. ะั ัะฐะฝะฝะธะบ ะฟะพะทะดะพัะพะฒะฐะปัั ั ะะปะตะน, ัะตัะฝะพะน ะปะพะฟะฐัะบะพะน ะผะตัะฐะปะปะพะธัะบะฐัะตะปั ะฟะพะณะปะฐะดะธะป ะะตัั ะฟะพ ัะฟะธะฝะต, ะณััะดะธ ะธ ะฝะพะณะฐะผ.
ะะฐัั ะฒัััะตัะฐะปะฐ ะธั ั ะดะฒะตัะตะน.
— ะะดะตะผ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะะตัะต.
— ะ ััะพโฆ ะฐ ััะพ ะฝะต ัััะฐัะฝะพ? โ ะฒะดััะณ ัะผะพััะธะปัั ะพะฝ.
— ะกััะฐัะฝะพ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะธ ะฒะทัะปะฐ ะตะณะพ ะทะฐ ััะบั.
ะะพะปััะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะฑัะปะฐ ะพะฑะพััะดะพะฒะฐะฝะฐ ัะพะฒัะตะผ ะบะฐะบ ะฟะฐะปะฐัะฐ ะฒ ัะตะฐะฝะธะผะฐัะธะธ. ะะฐะฟะตะปัะฝะธัั, ะฟัะพะฒะพะดะฐ, ัััะฑะพัะบะธ. ะัะธะฑะพัั, ะฝะฐ ะบะพัะพััั ะฒััะบะฐะบะธะฒะฐะปะธ ะทะตะปะตะฝัะต ะดัะพะถะฐัะธะต ัะธััั. ะัะถัะธะฝั ะธ ะถะตะฝัะธะฝั ะฒ ะฑะตะปัั ั ะฐะปะฐัะฐั ั ะพะดะธะปะธ ะฒะพะบััะณ ะบัะพะฒะฐัะธ. ะะฐ ะฝะตะน ะปะตะถะฐะป ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะปัััะน ััะฐัะธะบ. ะฃ ะฝะตะณะพ ะฑัะปะพ ะธัั ัะดะฐะฒัะตะต ะปะธัะพ ั ะฟะพัะธัััะผ ะบััะณะปัะผ ะฝะพัะพะผ. ยซะะพั ะพะถ ะฝะฐ ะผะตะฝัยป, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั.
— ะัะดั ะะธัะฐ, โ ะณัะพะผะบะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะปั. โ ะะตัั ะฟัะธัะตะป.
ะกัะฐัะธะบ ัััั ะฟะพะฒะตัะฝัะป ะณะพะปะพะฒั, ัะปะฐะฑะพ ะบะธะฒะฝัะป ะธ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป:
— ะกัะฝะพะบ. ะะพัะตะปัะตะผัั.
ะะปั ัะพะปะบะฝัะปะฐ ะะตัั ะฒ ัะฟะธะฝั, ะพะฝ ะฝะฐะณะฝัะปัั ะธ ะฟัะธััะพะฝัะปัั ะณัะฑะฐะผะธ ะบ ะบะพะถะต, ะฟะฐั ะฝัะฒัะตะน ะผะตะดะธัะธะฝัะบะธะผ ัะฟะธััะพะผ. ะะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป, ะบะฐะบ ััั ะธะต ะณะพัััะธะต ะณัะฑั ะบะพัะฝัะปะธัั ะตะณะพ ัะตะบะธ.
— ะะพะฝ ัะฐะผ, โ ัะบะฐะทะฐะป ััะฐัะธะบ ะธ ะบัะดะฐ-ัะพ ะผะฐั ะฝัะป ััะบะพะน.
ะะปั ะฒััะฐัะธะปะฐ ะธะท ััะผะพัะบะธ ะบะปัั, ััะฐะปะฐ ะพัะฟะธัะฐัั ัะตะนั, ะบะพัะพััะน ะฟัััะฐะปัั ะทะฐ ะดะฒะตััะตะน ะบะฝะธะถะฝะพะณะพ ัะบะฐัะฐ. ะะพััะฐะปะฐ ะพัััะดะฐ ัะพะฝะบะธะน ะบะพะถะฐะฝัะน ะฟะพัััะตะปั.
ะะตะดัะตัััะฐ ะฒัะบัะธะบะฝัะปะฐ. ะัะต ะพะฑะตัะฝัะปะธัั. ะะฝะฐ ััะฐะปะฐ ัะฐะทะผะฐััะฒะฐัั ะฟัะพะฒะพะดะฐ ะธะท ะบะพัะพะฑะพัะบะธ, ะฟัะธะปะฐะถะธะฒะฐัั ะธั ะบ ะณััะดะธ ััะฐัะธะบะฐ. ะะพ ะฒัะฐั ัะบะฐะทะฐะป: ยซะฅะฒะฐัะธั ัะถะต, ะฝะต ะฝะฐะดะพ ะตะณะพ ะฑะพะปััะต ะผััะธััยป.
ะกัะฐัะธะบ ััะฐะป ะดััะฐัั ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะธ ะฟัะพััะถะฝะพ, ะฒัะต ัะธัะต ะธ ัะธัะต.
— ะััั ะฒะฐัะธะฐะฝัั, โ ะฒะดััะณ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฐัั ะธ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ะทะฐะฑัะฐัั ะฟะพัััะตะปั ั ะะปะธ.
— ะะตั ะฒะฐัะธะฐะฝัะพะฒ! โ ะธะท ัะณะปะฐ ะบะพะผะฝะฐัั ะฒะดััะณ ะฒััะบะพัะธะปะฐ ะตัะต ะพะดะฝะฐ ะดะฐะผะฐ ะธ ะฟะพะผะพะณะปะฐ ะะปะต ัะดะตัะถะฐัั ะฟะพัััะตะปั. โ ะะตั ะฝะธะบะฐะบะธั ะฒะฐัะธะฐะฝัะพะฒ, ะฒัะต ะฟะพะดะฟะธัะฐะฝะพ ะฒัะตัะฐ ะฒะตัะตัะพะผ. ะะตะฒะพัะบะธ, โ ะพัะตะฝั ัััะพะณะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, โ ะพะฑะฝะธะผะธัะตัั ะธ ะฟะพัะตะปัะนัะตัั. ะะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ!
ะะปั ะธ ะะฐัั ะพะฑะฝัะปะธัั ะธ ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะปะธัั. ะะพัะพะผ ะพะฑะฝัะปะธ ะธ ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะปะธ ะะตัั. ะะตะปะตะปะธ ะตะผั ัะตััั ะฝะฐ ัะฐะฑััะตั, ะฒะทััั ะทะฐ ััะบั ััะฐัะธะบะฐ ะธ ัะธะดะตัั ัะฐะบ, ะฟะพะบะฐ ะตะณะพ ะดัั ะฐะฝะธะต ะฝะต ััะธั ะฝะตั. ะัะพ-ัะพ ัะฝะธะผะฐะป ะฒัั ััะพ ะฝะฐ ะฒะธะดะตะพ.
ะะฐัะตะผ ะพะฝะธ ั ะะปะตะน ะธ ะะฐัะตะน ะฟัะพัะปะธ ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั ะฝะฐ ะฒัะพัะพะผ ััะฐะถะต. ะกะตัััั ะพะฑัััะฝะธะปะธ, ััะพ ะฒัััะฟะปะตะฝะธะต ะฒ ะฟัะฐะฒะฐ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพััะธ โ ัะตัะตะท ะฟะพะปะณะพะดะฐ. ะ ะฟะพะบะฐ ะะปั ะฟะตัะตะฒะตะปะฐ ะะตัะต, ะบะฐะบ ะพะฝะฐ ะฒััะฐะทะธะปะฐัั, ยซะฝะตะบะพัะพััั ััะผะผัยป ะฝะฐ ะตะณะพ ะบะฐััะพัะบั. ะะฐ ัะตะบััะธะต ะฝะฐะดะพะฑะฝะพััะธ. ะะธัะบะฝัะปะฐ ัะผัะบะฐ. ะะตัะตะด ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะทะฐะฟะปััะฐะปะพ ัะตะผะธะทะฝะฐัะฝะพะต ัะธัะปะพ. ยซะะปะฐะฒะฝะพะต โ ะฝะต ัะพะนัะธ ั ัะผะฐยป, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั.
***
ะก ะดะพัะพะณะธ ะพะฝ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะป ะผะฐะผะต.
— ะขั ะตัะต ั ะะฝะตัะบะธ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ.
— ะะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะะฐะผ! ะขัั ัะฐะบะพะต ะดะตะปะพ. ะฏ ะฑัะป ั ะพััะฐ.
— ะะฐัะตะผ?! โ ะฒะพะทะผััะธะปะฐัั ะพะฝะฐ. ะะฝะฐ ะฝะตะฝะฐะฒะธะดะตะปะฐ ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ, ััะธัะฐะปะฐ, ััะพ ะพะฝ ะถะธะทะฝั ะตะน ะธะทะปะพะผะฐะป, ะธ ััะพ ะฒ ะบะฐะบะพะผ-ัะพ ัะผััะปะต ะฑัะปะพ ะฟัะฐะฒะดะพะน. ะะฝ ะตะน ะฝะต ะฟะพะผะพะณะฐะป ั ัะตะฑะตะฝะบะพะผ. ะะพัะปะต ัะพะถะดะตะฝะธั ะะตัะธ ะพะฝะธ ะฟะพััะธ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะธัั. ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะปะตั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธ ัะฐะทั.
— ะะฝ ัะผะตั ัะพะปัะบะพ ััะพ, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะะตัั. โ ะ ะพััะฐะฒะธะป ะผะฝะต ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ.
— ะัะปะธ ัั ะฒะพะทัะผะตัั ั ะพัั ะบะพะฟะตะนะบั, โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, โ ั ัะตะฑั ะฟัะพะบะปัะฝั!!!
ะะตัั ะทะฐะผะพะปัะฐะป. ะะฝะฐ ะผะพะปัะฐะปะฐ ัะพะถะต. ะะพ ะฟะพัะพะผ ัะฟัะพัะธะปะฐ:
— ะ ัะบะพะปัะบะพ ะพะฝ ัะตะฑะต ะพััะฐะฒะธะป?
— ะัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.
— ะะต ั ะพัะตัั ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ั ะผะฐัะตััั?! ะงัะพ ัั ะฒััะบะฐะตัั? ะงัะพ ัั ั ะฐะผะธัั?
— ะะฐะผะฐ, ะฝะต ะบัะธัะธ. ยซะััยป ะฒ ัะผััะปะต ะฒัั. ะัั ัะฒะพะต ะธะผััะตััะฒะพ. ะั, ัะพ ะตััั ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะฝะฐ ะฑะปะฐะณะพัะฒะพัะธัะตะปัะฝะพััั, ะฐ ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะผะฝะต. ะกะผะตัะฝะพ, ะฟัะฐะฒะดะฐ?
— ะขั ัะตะนัะฐั ะดะพะผะพะน? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ.
ะะตัั ะฟะพะดัะผะฐะป ะธ ัะบะฐะทะฐะป:
— ะฏ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ะทะฐะนะดั ะบ ะะฝัะบะต. ะฏ ัะฐะผ ััะบะทะฐะบ ะทะฐะฑัะป.
***
ะะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฒะพัะตะป ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั, ัะฐะผ ะฑัะป ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะณัะพะผะบะธะน, ะฝะฐะฟััะถะตะฝะฝัะน ัะฐะทะณะพะฒะพั.
ะัะต ะฒะดััะณ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะธ ะธ ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ.
— ะั ะธ ัะตะณะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ.
— ะะธัะตะณะพ, โ ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะ ะฒั ััั ัะตะณะพ?
— ะะฐ ัะฐะบ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั, ั ัััะดะพะผ ัะดะตัะถะธะฒะฐั ะทะปะพะฑั ะธ ะถะตะปะฐะฝะธะต ะฒัะณะฝะฐัั ะฒัะตั ัะตะฑัั ะบ ัะตััั. โ ะ ะตัะฐะตะผ ัะฐะทะฝัะต ะฒะพะฟัะพััโฆ ะะพั ัะบะฐะถะธ ะผะฝะต, ะะตัะตัะบะฐโฆ Do you think children are responsible for the deeds of their fathers? Or not?[6]
— I think no[7], โ ัะตััะฝะพ ะพัะฒะตัะธะป ะพะฝ.
— ะกะฟะฐัะธะฑะพ, ะะตัั. ะขั ัะผะฝัะน. ะขั ั ะพัะพัะธะน. ะ ะฒั, โ ะพะฝะฐ ะฟะพะฒะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะพััะฐะปัะฝัะผ, โ ัะพะถะต ะผะฝะต! ะะฐัะปะธ ะณะปะฐะฒะฝัั ะฒะธะฝะพะฒะฐััั!
ะัะธะผะตัะฐะฝะธั:
[1] ะั, ะผะพะน ะดััะณ, ะฒัะต ััะธ ัะตะฑััะฐ, ะฒัั ััะฐ ัะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะฐั ะพะฟะฟะพะทะธัะธั โ ะพะฝะธ ัะตะปะธะบะพะผ ะทะฐะฒะธััั ะพั ะะตะปะพะณะพ ะะพะผะฐ ะธ ะะพัะดะตะฟะฐ. ะะฝะธ ะฟะปะฐััั ะธะผ ะทะฐัะฟะปะฐัั. ะ ััะพ ะดะพ ััะพะณะพ ะณะพัะฟะพะดะธะฝะฐ, ััะต ะธะผั ั ะดะฐะถะต ะฝะต ั ะพัั ะฟัะพะธะทะฝะพัะธัั ะฒัะปัั โ ะพะฝ ะฝะฐััะพััะธะน ะฝะตะณะพะดัะน! ะะฝ ะฟัััะตััั ะทะฐ ะดะตััะผะธ! ะะฝ ะทะพะฒะตั ัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ ะฝะฐ ะฑะฐััะธะบะฐะดั!
[2] ะะฝ ะฟะพะดะฒะตัะณะฐะตั ะดะตัะตะน ัััะฐัะฝะพะน ะพะฟะฐัะฝะพััะธ!
[3] ะะพัะตะผั ะดะตัะตะน? ะะฝะธ ัะถะต ะฒะทัะพัะปัะต, ั ะฝะธั ะตััั ะฟะฐัะฟะพััะฐ, ะพะฝะธ ะผะพะณัั ัะฐะผะธ ัะตัะฐัั ะทะฐ ัะตะฑั. ะฃ ัะตะฑั ะตััั ะฟะฐัะฟะพัั? ะะฐ! ะขะตะฑะต ัะถะต ะฟััะฝะฐะดัะฐัั, ัะฐะทะฒะต ะฝะตั? ะะตัะถะตะปะธ ัั ะฒัั ะตัะต ััะธัะฐะตัั ัะตะฑั ัะตะฑะตะฝะบะพะผ?
[4] ะฅะฒะฐัะธั! ะขั ะพ ัะตะผ? ะะพั ะพะฝะฐ ั, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะปะฐะดะพะฝะธ. ะัะต ะผะตะฝั ะทะฝะฐัั, ั ะผะตะฝั ะฝะตั ัะตะบัะตัะพะฒ. ะ ะพะฝ? ะะฐััะพััะธะน ะฟะพะดะปะตั. ะะต ัะพะปัะบะพ ะฟะพะปะธัะธัะตัะบะธะน ะฟัะตัััะฟะฝะธะบ, ะฝะพ ะธ ะพะฑัะบะฝะพะฒะตะฝะฝัะน ะฒะพั! ะัะฐะณ ะพะฑัะตััะฒะฐ ะธ ะผะฐัะธะพะฝะตัะบะฐ ะะฐะฟะฐะดะฐ!
[5] ะะฐะบะฐั ะพะฟะฐัะฝะฐั ะฐัะฐะบะฐ.
[6] ะะฐะบ ัั ะดัะผะฐะตัั, ะดะตัะธ ะพัะฒะตัะฐัั ะทะฐ ะดะตะปะฐ ัะฒะพะธั ะพััะพะฒ? ะะปะธ ะฝะตั?
[7] ะฏ ะดัะผะฐั, ะฝะตั.
ะะปะฐะฒะฐ 2. ะะณะพัั ะะฐะปััะตะฒ. Kuraga


ะ ะ ะพััะธะธ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะดะตะปะฐะตััั ะฑััััะพ. ะะพะณะดะฐ ะณะตัะพะธ ะฝะฐัะตะน ะธััะพัะธะธ ะฒะตัะฝัะปะธัั ั ะปะตัะฝะธั ะบะฐะฝะธะบัะป, ะฒะพะฟัะพั ัะพ ัะฝะพัะพะผ ะะฐะปะฐััะฒะบะธ ะฒัั ะตัั ะฝะต ะฑัะป ัะตััะฝ. ะขะพ ะปะธ ะฝะต ั ะฒะฐัะฐะปะพ ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะฒััะพะบะพะณะพ ัะพะณะปะฐัะพะฒะฐะฝะธั, ัะพ ะปะธ ะฒะฐะถะฝัะต ะฑัะผะฐะณะธ ะทะฐะฑะปัะดะธะปะธัั ะฒ ะฑััะพะบัะฐัะธัะตัะบะธั ะปะฐะฑะธัะธะฝัะฐั , ะฝะพ ะดะตะปะพ ะทะฐััะพะฟะพัะธะปะพัั.
ะัะต ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝะฝัะต ะปะธัะฐ ะฝะฐะฟััะถัะฝะฝะพ ะถะดะฐะปะธ ะธัั ะพะดะฐ.
ะ ะดะตะฒััะพะผ ยซะยป, ะบะฐะบ ะธ ะฒะพ ะผะฝะพะณะธั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัั ะบะปะฐััะฐั , ะฑัะป ัะฒะพะน ะฒะฝัััะตะฝะฝะธะน ัะฐัะธะบ ะฒ WordApp. ะขะฐะผ ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะพะฑะผะตะฝััััั ะฝะพะฒะพัััะผะธ, ะฒัััะฝะธัั ััะพ-ัะพ, ัะฟัะพัะธัั, ะบะฐะบ ัะตัะฐัั ะทะฐะดะฐัั ะฒ ะดะพะผะฐัะฝะตะผ ะทะฐะดะฐะฝะธะธ. ะัััะฐั ะฑะพะปัะพะฒะฝั ะฝะต ะฟัะธะฒะตัััะฒะพะฒะฐะปะฐัั, ัะฟะฐะผะตัั ะฑะตะทะถะฐะปะพััะฝะพ ะฑะฐะฝะธะปะธัั ะฝะฐ ะฝะตะดะตะปั ะธ ะดะฐะถะต ะฑะพะปััะต ะฒ ัะปััะฐะต ัะตัะธะดะธะฒะฐ.
ะะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะผ ััะพะบะต, ะบะพะณะดะฐ ั ะธะผะธัะบะฐ ะฟะพ ะฟัะพะทะฒะธัั ะะปัะบะพะทะฐ, ะดะฐะผะฐ ะทะฐ ัะพัะพะบ, ะฒะตััะผะฐ ะถัััะบะฐั ะธ, ะฒะพะฟัะตะบะธ ะบะปะธัะบะต, ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ยซัะปะฐะดะบะฐัยป, ะผััััะพะฒะฐะปะฐ ะบะปะฐัั, ัะผะฐัััะพะฝ ะบะฐะถะดะพะณะพ ะฒะทะดัะพะณะฝัะป, ะฟัะธะฝะธะผะฐั ัะพะพะฑัะตะฝะธะต. ะคะตะดัะบะธะฝ ะฐะนัะพะฝ, ะฝะต ะฟะตัะตะฒะตะดัะฝะฝัะน ะฒ ะฑะตะทะทะฒััะฝัะน ัะตะถะธะผ, ะทะฒะพะฝะบะพ ะธ ะณัะพะผะบะพ ัะตะฝัะบะฝัะป.
— ะะพัะพั ะพะฒ, ะบ ะดะพัะบะต, โ ะผะพะผะตะฝัะฐะปัะฝะพ ะพััะตะฐะณะธัะพะฒะฐะปะฐ ะะปัะบะพะทะฐ.
— ะะฐ, ั-ะผะฐั, โ ัะธั ะพ ะฒัััะณะฐะปัั ะคัะดะพั. โ ะงัะพ ะถ ัะฐะบ ะฝะต ะฒะตะทัั-ัะพโฆ
ะะพ ะบะพะฝัะฐ ััะพะบะฐ ะพััะฐะฒะฐะปะพัั ัะตะปัั ะดะตัััั ะผะธะฝัั, ะธ ัะฐะฝัั ัั ะฒะฐัะธัั ยซะฟะฐััยป ะฑัะปะธ ัะฐะผัะต ะพัะตะฒะธะดะฝัะต.
ะะปัะบะพะทะฐ ะฒัะตะฟะธะปะฐัั ะฒ ะถะตััะฒั, ะฐ ะดะตะฒััะธะบะปะฐััะฝะธะบะธ ัะตะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ััะฟะตะปะธ ะณะปัะฝััั ะฝะฐ ัะบัะฐะฝั ัะผะฐัััะพะฝะพะฒ.
ะะธัะฐะป ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน: ยซะัะดั ะคัะดะพั, ะะธะทะฐ, ะะตะทะฝะพั, ะะฐัะฐะนัะตะฒั, ะจะตัะณะฐ, ะพััะฐะฝััะตัั ะฟะพัะปะต ััะพะบะฐ. ะััั ัะตัััะทะฝะพะต ะดะตะปะพยป.
— ะัะฑะพะบ, ัั ะพั ัะตะฝะตะป? ะขั ัะตะณะพ ะฟะธัะตัั ะฟะพััะตะดะธ ััะพะบะฐ? โ ะฝะฐะตั ะฐะป ะฝะฐ ะะฝะดัะตั ะคะตะดัะบะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะทะฐ ะะปัะบะพะทะพะน ะทะฐะบััะปะฐัั ะดะฒะตัั. โ ะฏ ะตะปะต-ะตะปะต ะฝะฐ ััะพัะบ ะฒัััะฝัะป.
— ะะทะฒะธะฝะธ-ะธะทะฒะธะฝะธ, โ ะฟัะธะผะธัะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพะดะฝัะป ััะบะธ ะะฝะดัะตะน. โ ะะพ ะดะตะปะพ ััะพัะฝะพะต, ั ะฑะพัะปัั, ััะพ ะฒั ัะฐะทะฑะตะถะธัะตัั. ะะตััะบะฐ! ะะตะทะฝะพัะพะฒ! ะกัะพะน, ะฝะต ัั ะพะดะธ. ะะพะณะพะฒะพัะธัั ะฝะฐะดะพ. ะะตัะฝะพ ั ะทะฐะฑัะฒะฐั ะฟัะพ ัะฒะพั ยซะฝะพะบะปัยป.
ะะพ ัะตั ะฝะธัะตัะบะธะผ ะฟัะธัะธะฝะฐะผ ะะตัั ะฑัะป ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะผ, ะบัะพ ะฝะต ัะพััะพัะป ะฒ ัะฐัะต.
ะะปะฐัั ะพะฟัััะตะป, ะพััะฐะปะธัั ัะพะปัะบะพ ะฟะตัะตัะธัะปะตะฝะฝัะต ะฒ ัะพะพะฑัะตะฝะธะธ ะธ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ.
— ะะฐัะธะปะธะน, ะดััะถะธัะต, ัั ัะตะณะพ ะดะพะผะพะน ะฝะต ะธะดััั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน.
ะกะตะปะตะทะฝัะฒ ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะพะณะปัะฝัะปัั ะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝั ะธ ัััั ะฟะพะบัะฐัะฝะตะป.
— ะะฐ ะฒะพั ัะพะถะต ัะตัะธะป ะฟะพัะปััะฐัั. ะะฝัะตัะตัะฝะพ.
— ะั, ัะธะดะธ, ะตัะปะธ ั ะพัะตัั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะพะณะปัะดะตะป ัะพะฑัะฐะฝะธะต.
— ะะฐะบ ัะฐะผ ั ะะพะณะพะปั ะฑัะปะพ? ยซะฏ ะฟัะธะณะปะฐัะธะป ะฒะฐั ะดะปั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ัะพะพะฑัะธัั ะฟัะตะฝะตะฟัะธััะฝะตะนัะตะต ะธะทะฒะตััะธะตยป. ะฅะพัั ััะพ ัะถะต ะฝะธะบะฐะบะพะต ะฝะต ะธะทะฒะตััะธะต. ะะพัะพัะต, ะพัะตั ััั ะฝะฐ ะดะฝัั ะฒัั, ะบะฐะบ ัะปะตะดัะตั, ัะฐะทัะทะฝะฐะป. ะะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบั ะฑะตััััั ะฒัะตัััะท. ะ ัะตัะตะฝะธะต ะผะตัััะฐ, ะผะฐะบัะธะผัะผ ะดะฒัั , ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ัะตัะธััั, ะฑัะดัั ะตั ัะฝะพัะธัั ะธะปะธ ะฝะตั. ะัะฐะฒะดะฐ, ะะฝั?
ะะตะถะดั ะัะฑะพัะบะธะผ ะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฑัะปะพ ะพัะพะฑะพ ััะฟะปัั ััะฒััะฒ, ัะบะพัะตะต ัะพะฒะฝัะต, ะฟะพะดัััะบะฝััะพ ะฝะตะนััะฐะปัะฝัะต. ะะฝะดัะตั ะฝะต ะพัะตะฝั ะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ััะพ ะะฝั ะฟะพ ะดะตะปั ะธ ะฑะตะท ะดะตะปะฐ ะธัะฟะพะปัะทัะตั ัะฒะพะน ะฐะฝะณะปะธะนัะบะธะน (ะฟัััั ะธ ะฒะฟัะฐะฒะดั, ะฑะตะทัะบะพัะธะทะฝะตะฝะฝัะน), ะฐ ะดะตะฒััะบะฐ ะฝะต ะฑะตะท ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธะน ะฟะพะปะฐะณะฐะปะฐ, ััะพ ะัะฑะพัะบะธะน ััะธัะฐะตั ัะตะฑั ัะฐะผัะผ ัะผะฝัะผ. ะ ะฟะปัั ะบ ัะพะผั ะะฝั, ะบะฐะบ ะฝะธ ัะฑะตะถะดะฐะปะฐ ัะตะฑั, ัะฐะบ ะธ ะฝะต ัะผะพะณะปะฐ ะฟะพะปะฝะพัััั ะฟัะตะพะดะพะปะตัั ะพัััะตะฝะธะต, ััะพ ะพะฝะฐ ะทะดะตัั ัะฐะผะฐั ััะฐััะฐั. ะะฟััั ะถะต, ยซะจะตัะณะฐยปโฆ ะ ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝะตะผ ะฒะพะทัะฐััะต ะบะปะธัะบะธ ะฒะพัะฟัะธะฝะธะผะฐัััั ะบะฐะบ ัะฐะผะพ ัะพะฑะพะน ัะฐะทัะผะตััะตะตัั, ะฐ ะฒ ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ัะผะธัะธัััั ั ะฝะธะผะธ ัะถะต ัะปะพะถะฝะตะต. ะะตััะบะธะผ ัะฐะดะพะผ ะพัะดะฐัั.
ะะฟัะพัะตะผ, ะะฝั ะฑัะปะฐ ะฝะตะฟะปะพั ะพะน ะฐะบััะธัะพะน (ัะถะต ััะธ ะณะพะดะฐ ะธะณัะฐะปะฐ ะฒ ะปัะฑะธัะตะปััะบะพะผ ะผะพะปะพะดัะถะฝะพะผ ัะตะฐััะต), ะธ ัะบััะฒะฐัั ะพั ะฟะพััะพัะพะฝะฝะธั ัะฒะพะธ ะฟะตัะตะถะธะฒะฐะฝะธั ะดะปั ะฝะตั ัััะดะฐ ะฝะต ัะพััะฐะฒะปัะปะพ.
— ะัั, ะััะฐ, โ ะฟะพะดะฐะป ะณะพะปะพั ะะฐัั, โ ะผั ะถ ัะถะต ะฒัั ะพะฑััะดะธะปะธ. ะญัะพ ะฝะต ะตั ะฒะธะฝะฐ. ะะฝะฐ ััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะต ะฟัะธ ะดะตะปะฐั . ะขั ั ะพัั ะฑั ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตัั, ะฝะฐัะบะพะปัะบะพ ัะตัััะทะฝัะต ะดัะดัะบะธ ะฑัะดัั ัะตัะตะฝะธั ะฟัะธะฝะธะผะฐัั?
— ะัะตะดััะฐะฒะปัั, โ ะทะฐะฒะตัะธะป ะตะณะพ ะะฝะดัะตะน. โ ะขะพะปัะบะพ ั ะะฝะธ ะฟะฐะฟะฐ ัะพะถะต, ะทะฝะฐะตัั, ะฝะต ะฟัะพััะพ ัะฐะบ ะฟะพะณัะปััั ะฒััะตะป. ะั ะตะณะพ ะฟะพะทะธัะธะธ ะผะฝะพะณะพะต ะทะฐะฒะธัะธั, ะฝะต?
ะะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝั. ะะฐะถะต ะคะตะดัะบะฐ ะพััะฐะฒะธะป GTA ะธ ะฒัะฝััะฝัะป ะธะท ัะผะฐัััะพะฝะฐ.
— ะ ะพะฑัะตะผ, ัะฐะบ. ะะธ ั, ะฝะธ ะผะพั ัะตะผัั ะฝะต ั ะพัะธะผ ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั ะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ะฒ ะััะพะฒะพ ะธะปะธ ะะฐะปะฐัะธั ั. ะะพะณะพ-ะฝะธะฑัะดั ััั ะผะฐะฝะธั ะััะพะฒะพ?
— ะะฐ ัะธะณ, ะฝะฐ ัะธะณ, โ ะทะฐะผะตัะธะป ะคะตะดัะบะฐ, ัะฝะพะฒะฐ ะฝัััั ะฒ ัะบัะฐะฝ.
— ะฏ ัะพะถะต ะฝะต ั ะพัั ะฝะธะบัะดะฐ ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั, โ ะฟะพะดะฐะป ะณะพะปะพั ะะตัั, โ ัะพะปัะบะพ, ะฟะพ-ะผะพะตะผั, ะะฐัะธะปะธะน ะฟัะฐะฒ. ะั ะะฝะธ ััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะทะฐะฒะธัะธั.
— ะะฝะฐ ะดะพัั ัะฒะพะตะณะพ ะพััะฐ, ะฟัััั ะฟะพะฒะปะธัะตั! ะะฝะต ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะบะฐะบะธะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ. ะฏ ั ะพัั ะพััะฐัััั ะฒ ัะฒะพะตะน ะบะฒะฐััะธัะต ะธ ัะฒะพะตะน ัะบะพะปะต. ะะตะฝั ััั ะฒัั ััััะฐะธะฒะฐะตั.
ะกััััั ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะฟะพะดะฝัะปะธัั ัะพ ัััะปัะตะฒ.
— ะะฝั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะฟะพะณะพะฒะพัะธ ั ะพััะพะผ, โ ะทะฐะณะพะฒะพัะธะปะธ ะฝะฐะฟะตัะตะฑะพะน. โ ะั ัะพะถะต ะฝะต ั ะพัะธะผ ะฝะธ ะฒ ะััะพะฒะพ, ะฝะธ ะฒ ะกะฐะปะฐััะตะฒะพ! ะะพัะบะฒะฐ ะฑะพะปััะฐั! ะัััั ะฝะฐะนะดัั ะดััะณะพะต ะผะตััะพ ะดะปั ัะฒะพะตะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ!
ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ ััะพัะปะฐ ััะดะพะผ ั ะัะฑะพัะบะธะผ, ะฒัะฟะปััะบะธะฒะฐะปะฐ ััะบะฐะผะธ ะธ ัะฒะตัะตะฒะฐะปะฐ ะะฝั ะธ ะพััะฐะปัะฝัั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะณะปัะฑะพะบะธะผ ะบัะฐัะธะฒัะผ ะณะพะปะพัะพะผ:
— ะะฝั, ะดะตะฒะพัะบะธ, ะฟะฐัะฝะธ! ะะตะปัะทั ััะพ ัะฐะบ ะพััะฐะฒะปััั! ะะฝะดัััะฐ ะฟัะฐะฒ, ะฝะฐะดะพ ััะพ-ัะพ ะดะตะปะฐัั!
ะะฝั ะฒัะบะพัะธะปะฐ ะธ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ, ะฟะตัะตะบัะธะบะธะฒะฐั ะพะฑัะธะน ะณะพะผะพะฝ:
— ะะฐ ะฟะพะนะผะธัะต ะถะต ะฒั! ะัะตั ะผะตะฝั ะดะฐะถะต ะฝะต ะฟะพัะปััะฐะตั! ะญัะพ ะดะปั ะฝะตะณะพ ะดะตะปะพ ะฒัะตะน ะถะธะทะฝะธ. ะะฝ, ะทะฝะฐะตัะต, ั ะบะฐะบะธะผะธ ะปัะดัะผะธ ะทะฐะฒัะทะฐะปัั, ััะพะฑั ััะพั ะบะพะผะฟะปะตะบั ะฟัะพะฑะธัั? ะััะต ัะพะปัะบะพ ะทะฒัะทะดั. ะะฐะถะต ะธ ะณะพะฒะพัะธัั ั ะฝะธะผ ะฝะฐ ััั ัะตะผั ะฝะต ััะฐะฝั!
— ะกัะฐะฝะตัั! โ ะะฐะฟะตัะตะฑะพะน ะฒัะบัะธะบะธะฒะฐะปะธ ะตะน ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ. โ ะกัะฐะฝะตัั! ะะฝะฐัะต ะฝะต ะฟะพะดั ะพะดะธ ะบ ะฝะฐะผ!
ะะฝั ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะปะธัะพ ะตั ะธะดัั ะฟััะฝะฐะผะธ. ะััะฐะป ะะฐัั, ะฒะทัะป ะตั ะทะฐ ะฟะปะตัะพ ะธ ะฟะพัะฐัะธะป ะบ ะฒัั ะพะดั.
— ะะปั! ะะพะฝัะฐะน ะฑะฐะทะฐั! โ ะฟัะพะพัะฐะป ะพะฝ, ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ัะฐััะตััะฒ ะฒัั ะธะฝัะตะปะปะธะณะตะฝัะฝะพััั, ะพััััะฟะฐั ะธ ะฟัะธะบััะฒะฐั ัะพะฑะพะน ะฟะพะดััะณั. โ ะั ัั, ัะฟััััะต-ัะพ ัะฐะบะธะต? ะกะบะฐะทะฐะปะธ ะฒะฐะผ, ะฑะตะท ะฒะฐั ะดะตะปะพ ัะตัะฐัั ะฑัะดัั. ะะฐะบ ะตั ะฑะฐัั ะพััะตะถะตั, ัะฐะบ ะธ ััะฐะฝะตัะต ะฝะพัะธัั.
— ะะพั ะฟัััั ะจะตัะณะฐ ะธ ะฟะพะณะพะฒะพัะธั ั ะฝะธะผ! ะขัะธะดัะฐัั ะฟััั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฑะปะธะฝ, ะฟะพัััะฐะดะฐัั! ะะต ััะธัะฐั ััะธัะตะปะตะน!..
ะะฐัั ั ะปะพะฟะฝัะป ะดะฒะตััั.
— As it turned out, Vasya, you could be a harsh person[1], โ ะฝะตัะฒะฝะพ ะฟะพัะผะตะธะฒะฐััั, ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั, ัะฐะณะฐั ะฟะพ ะพะฟัััะตะฒัะตะผั ะบะพัะธะดะพัั ัะบะพะปั.
— I took that from my father[2], โ ััะฟะพะบะฐะธะฒะฐััั, ัะพะพะฑัะธะป ะฟะฐัะตะฝั. โ He defended a lot of thugs in theย 90s! Some really spirit-lifting words are just popping out from his lips every now and then, haha![3].
ะะฐัะธะปะธะน ัะดะตะปะฐะป ะฟะฐัะทั.
— Why didnโt you talk to your father?
— I talked to him! He told me not to ask him such questions any more[4].
***
ะะฑััะฐะฝะพะฒะบะฐ ะฒ ะบะปะฐััะต ะผะตะถ ัะตะผ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะฝะพ ะฒะตัะฝะพ ะฝะฐะบะฐะปัะปะฐัั. ะงะตัะตะท ััะธ ะดะฝั ะฟะพัะปะต ัะพะน ััััะบะธ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะดะพััะป ะบ ะฟะฐััะต ะะฝะธ. ะะฐ ัะฟะธะฝะพะน ะตะณะพ ัะตะฝัั ะผะฐััะธะปะฐ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
— ะขั ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ั ะพััะพะผ? โ ะฑะตะท ะฟัะตะดะธัะปะพะฒะธะน ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน.
— ะะตั. ะ ะฝะต ัะพะฑะธัะฐััั, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะฝะฝะฐ, ััะฒััะฒัั, ะบะฐะบ ะฝะฐัะธะฝะฐัั ะดัะพะถะฐัั ะฟะฐะปััั ะธ ัะพั ะฝะตั ะณะพัะปะพ. โ ะะฐ ะฟะพะนะผะธัะต ะฒั, ะฒ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ั ะฝะต ะฒะธะฝะพะฒะฐัะฐ ะฒ ััะพะน ัะธััะฐัะธะธ ะธ ะฝะธะบะฐะบ, ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณั ะฝะฐ ะฝะตั ะฟะพะฒะปะธัััโฆ
— ะ ัะฐะบะพะผ ัะปััะฐะต ะผั ัะพะถะต ะฝะต ะฒะธะดะธะผ ัะผััะปะฐ ั ัะพะฑะพะน ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั, โ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะพะฑััะฒะธะป ะะฝะดัะตะน ะธ ะดะพะฑะฐะฒะธะป, ะบะฐะบ ะฟัะธะฟะตัะฐัะฐะป. โ ะะพะนะบะพั!
ะะฝ ัะฐะทะฒะตัะฝัะปัั ะธ ะฟะพััะป ะฒะดะพะปั ััะดะพะฒ ะฟะฐัั.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฒะดััะณ ะฝะฐัะฐะปะฐ ัะฐะทะผะตัะตะฝะฝะพ ั ะปะพะฟะฐัั ะฒ ะปะฐะดะพัะธ, ะณะปัะดั ะฒ ัะฟะพั ะฝะฐ ะะฝั. ะะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ะะธะทะฐ ะผะพะปัะฐะปะฐ, ะฐ ะฟะพัะพะผ, ัะปะตะดัั ะทะฐ ัะธัะผะพะผ, ััะฐะปะฐ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะธ ะฑะตััััะฐััะฝะพ ะฒัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั, ัะปะพะฒะฝะพ ั ะปะตััะฐัั ะผะพะบัะพะน ัััะฟะบะพะน:
— ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั!
ะกะปะตะดะพะผ ะทะฐ ะฝะตะน ะฟะพะดะฝัะปัั ะฒะตัั ะบะปะฐัั ะธ ะฟัะธะฝัะปัั ะฟะพะฒัะพัััั:
— ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั!
ะญั ะพ ะพั ั ะปะพะฟะบะพะฒ ะทะฒะตะฝะตะปะพ ะฟะพะด ะฟะพัะพะปะบะพะผ, ะฑะพะปัะฝะพ ะพัะดะฐะฒะฐััั ะฒ ััะฐั .
ะะฐัั, ัะธะดะตะฒัะธะน ัะตะฟะตัั ะทะฐ ะพะดะฝะพะน ะฟะฐััะพะน ั ะะฝะตะน, ั ัะฐะทะผะฐั ั ัะดะฐัะธะป ะปะฐะดะพะฝัั ะฟะพ ััะพะปั.
— ะ ะฝั, ะทะฐะฒะฐะปะธะปะธ ะฟะธัะตะฒะพะด!
ะฅะพั ัะฐัััะฟะฐะปัั ะธ ัะผะพะปะบ.
ะขัะธ ะดะฝั ะฟะพัะปะต ััะพะณะพ ะะฝะต ะฝะธะบัะพ ะฝะต ัะบะฐะทะฐะป ะฝะธ ัะปะพะฒะฐ. ะะฐ ะธัะบะปััะตะฝะธะตะผ ะะฐัะธ, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะะฝ ะฝะต ะพัั ะพะดะธะป ะพั ะฝะตั ะฝะธ ะฝะฐ ัะฐะณ ะธ ัะฐะผ ะฟะตัะตััะฐะป ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผะธ.
— ะะฐัั, ัั ะทัั ะพัะฝะพัะตะฝะธั ั ะบะปะฐััะพะผ ัะฒััั. ะขั ััั ะฝะธ ะฟัะธ ััะผ, โ ะฟัะพะฑะพะฒะฐะปะฐ ัะฑะตะดะธัั ะตะณะพ ะะฝั. โ ะฏ ะฑั, ะทะฝะฐะตัั, ะบะฐะบ ั ะพัะตะปะฐ ะฒัั ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะธัั, ะฝะพโฆ
— ะฏ ัะฐะบ ัะตัะธะป.
ะ ะฟะพัะพะผ ะฒ ะพะฑัะตะผ ัะฐัะต ะฒ WordApp ะฟะพัะฒะธะปะพัั ะฝะพะฒะพะต ะปะธัะพ โ Kuraga.
Kuraga. 09.09_18:21. ะั ััะพ, ะฟัะฟัั, ะบะฐะบ ะฑัะดะตะผ ะฝะฐ ะจะตัะณั ะฒะพะทะดะตะนััะฒะพะฒะฐัั? ะกะฐะผะธ ะฒะธะดะธัะต, ะฑะพะนะบะพั ะตั ะฝะต ะฟะฐัะธั. ะ ัะฐัะธะบะธ ัะธะบะฐัั. ะััะฐะปะพัั ะผะตะฝััะต ะผะตัััะฐ.
ะัะฑะพัะบะธะน. 09.09_18:25. ะขั ะบัะพ ะฒะพะพะฑัะต?
Kuraga. 09.09_18:25. ะะฐะบะฐั ัะฐะทะฝะธัะฐ? ะะฐะถะฝะพ, ััะพ ั ะฒ ััะพะน ัะธััะฐัะธะธ ัะพะถะต ะปะธัะพ ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝะฝะพะต.
ะัะฑะพัะบะธะน. 09.09_18:26. ะะฐะบ ัั ััะดะฐ ะฟะพะฟะฐะปะฐ? ะะปะธ ะฟะพะฟะฐะป?
Kuraga. 09.09_18:26. ะขะพะถะต ะผะฝะต, ะฑะธะฝะพะผ ะัััะพะฝะฐ. ะญัะพ ะฝะต ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ, ะตัะปะธ ััะบะธ ะพัะบัะดะฐ ะฝะฐะดะพ ัะฐัััั.
ะะตะนะฝะตะฝ. 09.09_18:27. ะะธัะตะณะพ, ััะพ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฝะฐั ัะพะถะต ััั ัะธัะฐะตั?
Kuraga. 09.09_18:28. ะ ะฟะพัะธะณ. ะัััั ะฝะฐัะปะฐะถะดะฐะตััั. ะขะฐะบ ะตััั ะธะดะตะธ?
Kuraga. 10.09_15:41. ะะตั ะธะดะตะน? ะะพะถะตั, ั ะบะพะณะพ-ัะพ ะตััั ะทะฝะฐะบะพะผัะต ั ะฐะบะตัั, ะฟัััั ะฝะฐ ยซะจะบะพะปัะฝะพะผ ะฟะพััะฐะปะตยป ะธะปะธ ะฝะฐ ัะฐะนัะต ัะบะพะปั ะบััะฟะฝัะผะธ ะฑัะบะฒะฐะผะธ ะฝะฐะฟะธััั ยซะจะตัะณะธะฝะฐ โ โฆยป. ะฏ ะทะฐะฟะปะฐัะฃ. ะะดั ะฟัะตะดะปะพะถะตะฝะธะน. kuraga666@mail.ru.
Kuraga. 10.09_23:08. ะจะตัะณะฐ, ะตัะปะธ ัั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะตะดะฟัะธะผะตัั, ะฑะตะณะธ ะธะท ะณะพัะพะดะฐ! ะฏ ัะตะฑะต ััััะพั ัะปะฐะดะบัั ะถะธะทะฝั.
ะะฐ ัะปะตะดัััะธะน ะดะตะฝั ะฒ ะดะตะฒััะพะผ ยซะยป ะฒัะต ัะฐะทะณะพะฒะพัั ะฑัะปะธ ัะพะปัะบะพ ะพ ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะน ยซะบััะฐะณะตยป. ะะฐ ะฟะตัะตะผะตะฝะฐั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ัะฑะธะฒะฐะปะธัั ะฒ ะณััะฟะฟั ะธ ัะพ ะธ ะดะตะปะพ, ะฟะพัะผะฐััะธะฒะฐั ะฒ ััะพัะพะฝั ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ, ะพะฑััะถะดะฐะปะธ.
— ะะฝะต ััะพ-ัะพ ะฝะต ะฟะพ ัะตะฑะต ะพั ััะพะณะพ ัััะบัะฐ, โ ะฟัะธะทะฝะฐะปัั ะะตัั.
— ะะฐ, ัะตะป ะพัะผะพัะพะถะตะฝะฝัะน, ะฟะพ ั ะพะดั, โ ะผะธะผะพั ะพะดะพะผ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะะพัะพั ะพะฒ, ัะตัะทะฐั ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ะฑัะป ะพัะบััั PUBG.
— ะะพัะผะฐะปัะฝะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะขะฐะบ ะธ ะฝะฐะดะพ. ะกะปะพะฒะฐะผะธ ะธ ะผัะณะบะพัััั ััั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะดะพะฑัััััั.
— ะ ะตะทะบะพะฒะฐัะพ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะพ ะผะฝะต ะฝัะฐะฒะธััั, โ ัะพะณะปะฐัะธะปะฐัั ะะตะนะฝะตะฝ.
— ะะฝั ะฒัั-ัะฐะบะธ ะฝะฐัะฐ ะฟะพะดััะณะฐ, โ ะฝะต ัะดะฐะฒะฐะปัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ. โ ะะตะปัะทั ะพัะดะฐะฒะฐัั ะตั ะฒะพั ัะฐะบ ะฝะฐ ััะตะดะตะฝะธะต.
— ะะธะบัะพ ะตั ะฝะฐ ััะตะดะตะฝะธะต ะฝะต ะพัะดะฐัั. ะ ะฝะฐัััั ะฟะพะดััะณะธโฆ ะัะปะฐ ะฑั ะฟะพะดััะณะพะน, ะฟะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะฑั ั ะพััะพะผ.
— ะฏ ััะธัะฐั, ยซะบััะฐะณัยป ะฝะฐะดะพ ะทะฐะฑะฐะฝะธัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั ั ะฝะตะพะฑััะฝะพะน ะดะปั ัะตะฑั ัะฒััะดะพัััั.
— ะะต ะปะตะทั, ะะตะทะฝะพั, โ ะคัะดะพั ะทะฐะบะพะฝัะธะป ะผะธััะธั ะธ ัะฟัััะฐะป ัะตะปะตัะพะฝ. โ ะะฐะถะดัะน ะดะพะปะถะตะฝ ะฝะตััะธ ะพัะฒะตัััะฒะตะฝะฝะพััั ะทะฐ ัะฒะพะธ ะดะตะปะฐ. ะ ะทะฐ ะฑะตะทะดะตะนััะฒะธะต ัะพะถะต. ะะพั ัะฐะบ.
***
ะะฐะฑัะต ะปะตัะพ ะฝะฐะบััะปะพ ััะพะปะธัั. ะกะพะปะฝัะต ะปะธะปะพ ั ะฝะตะฑะตั ะฒะพะปะฝั ะฟะพััะธ ะธัะปััะบะพะณะพ ะถะฐัะฐ. ะััะฐะปัั ะฟัะพะณัะตะฒะฐะปัั ะธ ะธัั ะพะดะธะป ััั ะพะน ะดัั ะพัะพะน. ะะธะฟั ะทะฐ ะพะบะฝะฐะผะธ ัะบะพะปั ัะตะปะตััะตะปะธ ะฟัะปัะฝะพะน ะปะธััะฒะพะน. ะะพัะพะฑัะธ ะธ ะณะพะปัะฑะธ ัะผะพััะตะปะธ ัะบััะฝะพ, ะปะตัะฐะปะธ ะปะตะฝะธะฒะพ ะธ ะฒัะณะปัะดะตะปะธ ัะพะถะต, ัะปะพะฒะฝะพ ะฟัะธััะฟะฐะฝะฝัะต ะฟัะปัั.
ะะบะฝะฐ ะบะปะฐััะฐ ะฑัะปะธ ะฟะปะพัะฝะพ ะทะฐะบัััั. ะะฐ ะทะฐะดะฝะตะน ััะตะฝะต ัะธั ะพ ััััะฐะปะธ ะบะพะฝะดะธัะธะพะฝะตัั. ะฃัะพะบ ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะณะพ ะฒ ัะฐะผะพะผ ัะฐะทะณะฐัะต. ะะพัะปะต ะฝะตะฒัะฐะทัะผะธัะตะปัะฝัั ยซะฒััััะฟะปะตะฝะธะนยป ะัะปะธ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน ะธ ะะพะปะธะฝั ั ะธััะพัะธัะผะธ ะพ ะปะตัะฝะธั ะบะฐะฝะธะบัะปะฐั ยซะฐะฝะณะปะธัะฐะฝะบะฐยป ะััะฝะธะบะพะฒะฐ ะฟะพ ะฟัะพะทะฒะธัั ะะฐัะพะฝะบะฐ ั ะฒะพััะพัะณะพะผ ะฒััะปััะฐะปะฐ ัะฐััะบะฐะท ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน.
— โฆ Beautiful country, beautiful people, beautiful music.ย That’s how I would like to finish my report about Austria[5].
— ะกะฟะฐัะธะฑะพ, ะะฝะฝะฐ, โ ััะธัะตะปัะฝะธัะฐ ัะธัะปะฐ. โ ะญัะพ ะปัััะธะน ะพัะฒะตั, ะบะพัะพััะน ะผั ััะปััะฐะปะธ ัะตะณะพะดะฝั. ะะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, ะฟััั.
ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒะตัะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ะผะตััะพ, ััะฐะปะฐ ะฟัััะฐัั ัะตััะฐะดั ะฒ ััะบะทะฐะบ, ะฟะธััะผะตะฝะฝัั ัะฐะฑะพั ัะตะณะพะดะฝั ะฝะต ะฟัะตะดะฒะธะดะตะปะพัั, ะธ ะฒะดััะณ ะทะฐะฒะพะฟะธะปะฐ, ะฑัะดัะพ ััะบะฐ ะตั ะฟะพะฟะฐะปะฐ ะฒ ะบะฐะฟะบะฐะฝ.
ะัะต, ะทะฐะฑัะฒ ะฟัะพ ะฑะพะนะบะพั, ะฒัะบะพัะธะปะธ ั ะผะตัั, ะบะธะฝัะปะธัั ะบ ะฝะตะน. ะะฝะฐ, ะฝะต ะฟัะตะบัะฐัะฐั ะฒะพะฟะธัั, ะฒััััั ะฝัะปะฐ ะธะท ััะบะทะฐะบะฐ ะฝะฐ ะฟะพะป ะตะณะพ ัะพะดะตัะถะธะผะพะต. ะก ะณัะพั ะพัะพะผ ะฟะพััะฟะฐะปะธัั ััะตะฑะฝะธะบะธ, ัะตััะฐะดะธ, ัััะบะธ, ะปะธะฝะตะนะบะฐ, ะฐะนะฟะพะด, ะณัะฑะฝะฐั ะฟะพะผะฐะดะฐ, ัััั, ัะฟะฐะบะพะฒะบะฐ ะฒะปะฐะถะฝัั ัะฐะปัะตัะพะบ, ะบะปััะธ ะธโฆ ะดะพั ะปะฐั ะบัััะฐ ั ะณะพะปัะผ ะฟัะพัะธะฒะฝัะผ ั ะฒะพััะพะผ.
— ะะฐะผะพัะบะธ! โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ ะัะปั, ะบะพัะพัะพะน ัััะบะฐ ะณััะทัะฝะฐ ัะฟะฐะปะฐ ะฟััะผะพ ะฝะฐ ะบัะพััะพะฒะบะธ.
ะะปะฐัั ะฝะฐะฟะพะปะฝะธะปัั ะดะฒะธะถะตะฝะธะตะผ ะธ ััะผะพะผ. ะะฐะณัะพั ะพัะฐะปะธ ัััะปัั, ะทะฐะดะฒะธะณะฐะปะธัั ะฟะฐััั. ะัะต ัะธะฝัะปะธัั ัะผะพััะตัั ะฝะฐ ะฟัะธัะธะฝั ะฟะตัะตะฟะพะปะพั ะฐ.
ะะฐัะพะฝะบะฐ ั ัััะดะพะผ ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะธะปะฐ ะดะธััะธะฟะปะธะฝั. ะะพัะปะฐะปะฐ ะะพะปั ะะพะฝัะฐะบะพะฒะฐ ะทะฐ ัะฑะพััะธัะตะน, ัะฐ ัะฒะธะปะฐัั, ัะฑัะฐะปะฐ ัััะฟ.
ะะฝั ัะธะดะตะปะฐ ะทะฐ ะฟะฐััะพะน, ัะบัะธะฒะธะฒัะธัั, ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ััะบั, ะบะพัะพัะพะน ะพะฝะฐ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะฝะฐัะบะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ะณััะทัะฝะฐ. ะะพ ะฒัะตะผั ะฑัะปะพ ะฒะธะดะฝะพ, ััะพ ะพะฝะฐ ะดะพ ัะธั ะฟะพั ััะฒััะฒัะตั ะตะณะพ ะฒ ัะฒะพะตะน ะปะฐะดะพะฝะธ.
— ะะฝะตัะบะฐ, ัั ะบะฐะบ, ะฒ ะฟะพััะดะบะต? ะะดะธ, ะฒัะผะพะน ััะบะธ, ัะผะพะนัั ั ะพะปะพะดะฝะพะน ะฒะพะดะพะน ะธ, ะฒะพะพะฑัะต, ะฟัะธะดะธ ะฒ ัะตะฑั, โ ะผัะณะบะพ ะฟะพัะพะฒะตัะพะฒะฐะปะฐ ะะฐัะพะฝะบะฐ, ะบะพัะพัะฐั, ะบ ัะปะพะฒั, ะฝะต ะฒั ะพะดะธะปะฐ ะฒ ัะธัะปะพ ัะตั , ะบะพะณะพ ะดะพะปะถะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะบะพัะฝััััั ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบะธ.
— ะงัั ัะฐะฑะพัะฐ, ะดะตะฑะธะปั? โ ะทะฐะพัะฐะป ะะฐัั, ะฝะต ัะผััะฐััั ะฟัะธัััััะฒะธะตะผ ััะธัะตะปัะฝะธัั, ะบะพะณะดะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒััะปะฐ ะธะท ะบะปะฐััะฐ. โ ะัะพ? ะญัะพ ยซะบััะฐะณะฐยป ะฒะฐัะฐ, ะดะฐ? ะัะพ ััะพ, ะบะพะปะธัะตัั! ะััะธัะปั, ะฟะพะด ัะบะพะฝะฐัั ะทะฐะณะพะฝั!
— ะะฐัั! ะะฐัั! โ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ััะธั ะพะผะธัะธัั ะตะณะพ ะะฐัะพะฝะบะฐ, ะพะฟะตัะธะฒัะฐั ะพั ะปะตะบัะธะบะธ ะธ ัะผะพัะธะพะฝะฐะปัะฝะพััะธ ะธะฝัะตะปะปะธะณะตะฝัะฝะพะณะพ ัะฝะพัะธ.
— ะัะฑะพัะบะธะน, ัั? ะะพะฝะตั ัะตะฑะต, ะฟะฐะดะปะฐ! โ ะฝะต ัะฝะธะผะฐะปัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ.
— ะะฐัั, ั ััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธ ะฟัะธ ััะผ, ะบะปัะฝััั! โ ะฟะพะฑะปะตะดะฝะตะฒ, ัะฒััะดะพ ะพัะฒะตัะธะป ัะพั.
ะะพัะปะต ััะพะบะพะฒ ะฒะพ ะดะฒะพัะต ัะบะพะปั, ะฟะพะด ะปะธะฟะฐะผะธ ัะพััะพัะปะพัั ัะพะฑัะฐะฝะธะต ะบะปะฐััะฐ. ะัะธัััััะฒะพะฒะฐะปะธ ะฒัะต, ะบัะพะผะต ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ. ะะพัะปะต ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะณะพ ะฟัะพัะปะพ ะตัั ััะธ ััะพะบะฐ, ะฝะฐัะพะด ะฝะตะผะฝะพะณะพ ััะฟะพะบะพะธะปัั ะธ ะฟััะฐะปัั ัะฐัััะถะดะฐัั ััะตะทะฒะพ. ะคะตะดั ะพะฟัััั ัะฟะธะฝะพะน ะพ ะผะพัะฝัะน ััะฒะพะป, ะทะฐะบััะธะป.
— ะะตะฝั ัะณะพััะธ, โ ะฟะพะฟัะพัะธะปะฐ ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ.
ะคะตะดั ะฒะทะณะปัะฝัะป ะฝะฐ ะฝะตั ัะดะธะฒะปัะฝะฝะพ:
— ะขั ะบััะธัั?
— ะะตัะพะผ ััะฐะปะฐ ะฑะฐะปะพะฒะฐัััั.
— ะั ััะพ, ั ะดัะฑะฐ ััั ะฝัะปะธ? โ ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะฝะธะผ ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะกะตะนัะฐั ะดะธัะตะบัะพั ะธะปะธ ะทะฐะฒัั ะทะฐะฟะฐะปัั, ัะพะดะธัะตะปัะผ ะฝะฐััััะฐั. ะ ะพะฝะธ ะฒะฐะผ.
— ะะพะธ ะทะฝะฐัั, โ ัะฐะฒะฝะพะดััะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั.
— ะ ะผะพะธ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐัััั, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะกะพะฝั.
ะะตัั ะฒััะตะป ะฝะฐ ัะตะฝัั ัะฑะพัะธัะฐ, ะฟะพััั ะปะพะฑ, ัะพะฑะธัะฐััั ั ะผััะปัะผะธ. ะกะฝัะป ะพัะบะธ, ะฟะพะดััะฐะป ะฝะฐ ะฝะธั .
— ะ ะตะฑััะฐ, ััะพ ะฟัะพะธัั ะพะดะธั? ะัะพ ััะพ ัะดะตะปะฐะป?
— ะขะพัะฝะพ ะฝะต ัโฆ ะฏ ะฝะต ะฒ ะบัััะตโฆ ะะต ะทะฝะฐัโฆ โ ัะฐะทะดะฐะปะธัั ะณะพะปะพัะฐ.
— ะะพ ั, ัะตััะฝะพ ะณะพะฒะพัั, ะฝะต ะฒะธะถั ะฒ ััะพะผ ะฑะพะปััะพะน ะฟัะพะฑะปะตะผั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะผะฐะปััะบะฐ ะะธะทะฐ. โ ะั, ะบัััะฐ, ะฝั, ะดะพั ะปะฐั.
— ะะพัะปััะฐะน, ะะธะทะฐ, ะฝะตะปัะทั ะถะต ัะฐะบ, โ ัะบะพัะธะทะฝะตะฝะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฝะตั ะะตัั. โ ะั ะถะต ะฑัะปะธ ะบะปะฐััะพะผ. ะะดะธะฝัะผ ัะตะปัะผ. ะัะตะณะดะฐ ะฒัะต ะฒะผะตััะต. ะะดะธะฝ ะทะฐ ะฒัะตั ะธ ะฒัะต ะทะฐ ะพะดะฝะพะณะพ. ะัะบัะดะฐ ััะพั ะบะพัะผะฐั ะฒะดััะณ ะฒะทัะปัั? ยซะััะฐะณะฐยป, ะบัััะฐโฆ ะะพะพะฟะฐัะบ.
ะะธะบัะพ ะตะผั ะฝะต ะพัะฒะตัะธะป. ะะตัั ะฟัะพััะปัั ะฒะทะณะปัะดะพะผ ะฟะพ ะปะธัะฐะผ. ะัะต ัะพะดะฝัะต, ะทะฝะฐะบะพะผัะต ั ะฝะฐัะฐะปัะฝะพะน ัะบะพะปั, ะฐ ัะพ ะธ ั ะดะตััะฐะดะฐ, ัะตะนัะฐั ะพะฝะธ ะฒะดััะณ ะธะทะผะตะฝะธะปะธัั. ะ ะฝะธั ะฟะพัะตะปะธะปะฐัั ะฝะฐััะพัะพะถะตะฝะฝะพััั, ะฝะตะดะพะฒะตัะธะต ะดััะณ ะบ ะดััะณั.
— ะญัะพ ะผะพะณ ะฑััั ัะพะปัะบะพ ะบัะพ-ัะพ ะธะท ะฝะฐั, โ ะฒะทะดะพั ะฝัะฒ, ะฟัะพะธะทะฝัั ะพะฝ. โ ะัััั ะฟะพะดััะฝัะปะธ ะฒะพ ะฒัะตะผั ััะพะบะฐ ะธะปะธ ะฝะฐ ะฟะตัะตะผะตะฝะต, ััะพ ะฑะพะปะตะต ะฒะตัะพััะฝะพ. ะะต ะดัะผะฐั, ััะพ ััะพ ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะฟัะพะฒะตัะฝััั, ะฟะพะบะฐ ะะฝั ัะปะฐ ะฒ ัะบะพะปั.
— ะะพะณะธัะฝะพ, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน.
— ะกัะพะฟัะดะพะฒะพ, โ ะฒัะดัั ะฐั ะดัะผ ะฒะฒะตัั , ะบะธะฒะฝัะป ะคะตะดัะบะฐ.
— ะัะพ-ะฝะธะฑัะดั ะทะฐะผะตัะธะป ััะพ-ัะพ ะฟะพะดะพะทัะธัะตะปัะฝะพะต? ะะพะถะตั, ะบัะพ-ัะพ ะฑัะฐะป ััะบะทะฐะบ ะจะตัะณะธะฝะพะน? ะะปะธ ั ะพัั ะฑั ัะฐััััะณะธะฒะฐะป? ะะธะดะตะปะธ?
ะะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะฟะพะผะพะปัะฐะปะธ, ะฟัะพะบัััะธะฒะฐั ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ัะพะฑััะธั ะดะฝั.
— ะะตัโฆ ะะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพะณะพโฆ ะะธะบัะพ ะฒัะพะดะต ะฝะต ัะฐะฟะฐะปโฆ
ะะตััะบะฐ ะฒะพะดััะทะธะป ะฝะฐ ะฝะพั ะพัะบะธ, ะบะพัะพััะต ะฒัั ััะพ ะฒัะตะผั ะฒะตััะตะป ะฒ ััะบะฐั .
— ะขะพะปัะบะพ ะฒะตะดั ััะพ ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะบัะพ-ัะพ ะธะท ะฝะฐั. ะะพะฝะธะผะฐะตัะต? ะั ะปะฐะดะฝะพ. ะะต ั ะพัะธัะต ะฟัะธะทะฝะฐะฒะฐัััั, ะฝะต ะฝะฐะดะพ. ะะพ ะดะฐะฒะฐะนัะต ะดะพะณะพะฒะพัะธะผัั, ััะพ ะฝะฐ ััะพะผ ะฒัั, ั ะฒะฐัะธั. ะะพะปััะต ะฝะธะบะฐะบะธั ะณะฐะดะพััะตะน. ะกะพะณะปะฐัะฝั? ะฏ ัะฟัะพัั ะบะฐะถะดะพะณะพ, ััะพะฑั ะฒัั ะฑัะปะพ ะฟะพ-ัะตััะฝะพะผั. ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน, ั ัะตะฑั ะฝะฐัะฝัะผ. ะะตะฒะฐะถะฝะพ, ัั ััะพ ัะดะตะปะฐะป ะธะปะธ ะฝะตั, ะฟัะพััะพ ะฟะพะบะปัะฝะธัั, ััะพ ะฝะต ะฟัะธัะธะฝะธัั ะฒัะตะดะฐ ะธ ะฝะต ะพะฑะธะดะธัั ะะฝั ะจะตัะณะธะฝั. ะะปัะฝััััั?
— ะะปัะฝััั. ะะพ ะฟัะฐะฒะพ ัะพั ัะฐะฝััั ะฑะพะนะบะพั ั ะพััะฐะฒะปัั ะทะฐ ัะพะฑะพะน.
— ะะฐะบ ั ะพัะตัั. ะขะตะฟะตัั ัั, ะะธะทะฐ.
— ะะปัะฝััั. ะะพ ะพั ะฑะพะนะบะพัะฐ ะฝะต ะพัะบะฐะทัะฒะฐััั, โ ะฟะพะดะฝัะปะฐ ััะบั ะะตะนะฝะตะฝ.
ะะปะฐัั ัะฐะทะพััะปัั ะฟะพ ะดะพะผะฐะผ. ะะพะด ะปะธะฟะฐะผะธ ะพััะฐะปะธัั ะะตัั, ะคะตะดัะบะฐ ะธ ะกะพะฝั.
— ะะตะทะฝะพัะธะบ, ะฝั, ัะตะณะพ ัั ัะฐะบ ัะฐััััะฐะธะฒะฐะตัััั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ, ััะฐะฝะพะฒััั ะฟะพะฑะปะธะถะต ะบ ะะพัะพั ะพะฒั. โ ะขัะธ ะบ ะฝะพัั, ะฒัั ะฟัะพะนะดัั. ะะพะณะพะฒะพัะบะฐ ะตััั ัะฐะบะฐั, ะทะฝะฐะตัั?
— ะะฐะดะบะพ ะฒัั ััะพ, ะกะพะฝั, ะณะฐะดะบะพ. ะคะตะดั, ะดะฐะน ะทะฐะบััะธัั.
— ะ ัั, ะััั? โ ัะฝะพะฒะฐ ัะดะธะฒะธะปัั ะะพัะพั ะพะฒ.
ะะตัั ั ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะพััะฐัะฝะฝัะผ ะฒะธะดะพะผ ัะดะตะปะฐะป ะฟะพะดััะด ััะธ ะณะปัะฑะพะบะธะต ะทะฐััะถะบะธ. ะะพะบัะฐัะฝะตะป, ะฟะพัะพะผ ะฟะพะฑะปะตะดะฝะตะป ะธ ัะฐะทัะฐะทะธะปัั ะถััะบะธะผ ะฒัะฒะพัะฐัะธะฒะฐััะธะผ ะฝะฐะธะทะฝะฐะฝะบั ะบะฐัะปะตะผ. ะคะตะดัะบะฐ ะธ ะกะพะฝั ัะพะณะฝัะปะธัั ะฟะพะฟะพะปะฐะผ ะพั ัะผะตั ะฐ.
— ะขะพะถะต ะณะฐะดะพัััโฆ โ ะฟัะพัะบัะธะฟะตะป ะะตัั, ะดะตัะถะฐัั ะทะฐ ะณะพัะปะพ ะธ ะพัะฟะปัะฒัะฒะฐััั. โ ะั ั ั โฆ ะะฐะดะฝะพ. ะฏ ะดะพะผะพะน. ะะพะบะฐ.
ะะพัะฐััะฒะฐััั, ะพะฝ ะดะฒะธะฝัะปัั ะบ ะฒัั ะพะดั ั ัะตััะธัะพัะธะธ ัะบะพะปั. ะะพัะพั ะพะฒ ะฟะพะดะฐะปัั ะทะฐ ะฝะธะผ, ะฝะพ ะกะพะฝั ะฟัะธะดะตัะถะฐะปะฐ ะตะณะพ ะทะฐ ััะบะฐะฒ.
— ะะพะนะดัั.
— ะะพะนะดััั, ะะตัั? โ ะบัะธะบะฝัะป ะตะผั ะฒัะปะตะด ะคะตะดั.
ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะฝะต ะพะฑะพัะฐัะธะฒะฐััั, ะฟะพะบะฐัะฐะป ะฒ ะฒะพะทะดัั ะต ััะบะพะน ั ะฟะพะดะฝัััะผ ะฒะฒะตัั ะฑะพะปััะธะผ ะฟะฐะปััะตะผ.
ะะตัะตัะพะผ ั ะฒัะตั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ ะทะฒัะบะฝัะป ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ.
Kuraga. 13.09_18:41. ะงัะพ, ะฟัะฟัั, ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั ัะพั ะดะฒัั ะบััั? ะขะพ ะปะธ ะตัั ะฑัะดะตั! ะะพัะพะฒััะตัั ะฒัะต ะธ ะจะตัะณะฐ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ.
ะะฐ ัะปะตะดัััะธะน ะดะตะฝั ะฟะตัะตะด ะฟะตัะฒัะผ ััะพะบะพะผ, ะตะดะฒะฐ ะฒะพะนะดั ะฒ ะบะปะฐัั, ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธะฒะฝะพ ะฟะพะดะพััะป ะบ ะฟะฐััะต, ะทะฐ ะบะพัะพัะพะน ัะธะดะตะปะธ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒ. ะัะพััะฝัะป ััะบั ะะฐัะธะปะธั.
— ะะฝั, ะฟัะธะฒะตั.
— ะัะธะฒะตั, โ ั ะปัะณะบะธะผ ะฝะตะดะพะฒะตัะธะตะผ ะฒ ะณะพะปะพัะต ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ.
— ะะฐะบ ัั?
— ะะฐ ะฝะธัะตะณะพ, ัะฟะฐัะธะฑะพ. ะัะธัะปะฐ ะฒ ัะตะฑั. ะฃั ะพะดะธัั ะฝะต ัะพะฑะธัะฐััั, โ ะฟะพัััะธะปะฐ ะพะฝะฐ.
— ะั ะธ ะพัะปะธัะฝะพ. ะะฑัะฐัะฐะนัะตัั, ะตัะปะธ ะฒะดััะณ ััะพ-ัะพ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะดะตั, โ ัััั ะฟะพะฒััะธะฒ ะณะพะปะพั, ััะพะฑั ัะปััะฐะปะธ ะพััะฐะปัะฝัะต, ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.
ะัะฑะพัะบะธะน, ัะบะปะพะฝะธะฒ ะณะพะปะพะฒั ะฝะฐะฑะพะบ, ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป ะทะฐ ััะพะน ััะตะฝะบะพะน, ะฟะพัะพะผ ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ ะธ ะพัะฒะตัะฝัะปัั. ะััะฐะปัะฝัะต ัะดะตะปะฐะปะธ ะฒะธะด, ะฑัะดัะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะพะธะทะพัะปะพ.
***
ะะพะณะดะฐ ะฝะฐะบะฐะฝัะฝะต ะะตัั ะฟัะธััะป ะดะพะผะพะน, ะผะฐะผะฐ ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะฐัั ะบ ะฝะตะผั, ะฟัะธะฒััะฐะปะฐ ะฝะฐ ััะฟะพัะบะธ, ะฟะพัะบะพะปัะบั ะฑัะปะฐ ัะถะต ะฝะฐ ะฟะพะปะณะพะปะพะฒั ะฝะธะถะต ััะฝะฐ, ะธ ะฒััะฝัะปะฐ ะฒะพะทะดัั .
— ะขั ะทะฐะบััะธะป? ะกะพะฒัะตะผ ั ัะผะฐ ัะพััะป?
ะะตัั ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะผััะธะปะพ ะพั ัััั ะทะฐััะถะตะบ, ะธ ะฒััะปััะธะฒะฐัั ะผะฐัะตัะธะฝัะบะธะต ัะฟััะบะธ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะถะตะปะฐะฝะธั. ะะฐัั ะถะต, ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ะฑัะปะฐ ะฝะฐ ะฒะทะฒะพะดะต. ะััะปั ะพ ัะฒะฐะปะธะฒัะตะผัั, ะฝะพ ะฟะพะบะฐ ะฝะตะดะพัััะฟะฝะพะผ ะฑะพะณะฐัััะฒะต ะฝะตัะฒะธัะพะฒะฐะปะฐ ะตั ั ัะถะต ะณะฒะพะทะดั ะฒ ะฑะพัะธะฝะบะต. ะะฝะฐ ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ัััะฒะฐะปะฐัั ะฟะพ ะฟะพะฒะพะดั ะธ ะฑะตะท ะฟะพะฒะพะดะฐ. ะ ัะฐัะต ะฒัะตะณะพ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะฐ ะะตััะฐ.
— ะฃะถะต ะบััะธัั, ะดะฐ? ะ ััะพ ะฟะพัะพะผ ะฑัะดะตั? ะะธัั ะฝะฐัะฝััั, ะณัะปััั?
— ะะฐ, ะฝั ั ะฒะฐัะธั. ะฏ ัะปััะฐะนะฝะพ ะทะฐััะฝัะปััโฆ โ ะฑัะพัะธะป ะะตััะบะฐ ะธ ััั ะถะต ะฟะพะฝัะป, ััะพ ัะผะพัะพะทะธะป ะณะปัะฟะพััั.
— ะกะปััะฐะนะฝะพ โ ััะพ ะบะฐะบ ะฒะทะฒะธะปะฐัั ะผะฐัั. โ ะกะธะณะฐัะตัะฐ ัะตะฑะต ัะฐะผะฐ ะฒ ัะพั ะฟะพะฟะฐะปะฐ? ะฃ ัะตะฑั, ย ะฒะพะพะฑัะต, ััะพ ะปะธ, ะณะพะปะพะฒั ะฝะตั? ะขั ะบะตะผ ั ะพัะตัั ะฒััะฐััะธ? ะะฐะบ ะพัะตั ัะฒะพะน? ะขะฐะบะธะผ ะถะต? ะะตัะตะน ะฑัะพัะฐัั?..
ะะตััะบะฐ ะฟะพะฝัะป, ััะพ ยซะบะพะฝัะตััยป ะผะพะถะตั ัะฐัััะฝััััั ะฝะฐ ัะตะปัะน ะฒะตัะตั, ะธ ะฟะพัััะฟะธะป ัะฐะบ, ะบะฐะบ ะดะตะปะฐะป ัะถะต ะฝะต ัะฐะท. ะกะพะฑัะฐะป ััะบะทะฐะบ ะธ ะดะฒะธะฝัะปัั ะบ ะดะฒะตัะธ.
— ะขั ะบัะดะฐ, ะพะฟััั ะบ ะคะตะดัะบะต? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะผะฐัั, ะพะฑะพัะฒะฐะฒ ะผะพะฝะพะปะพะณ.
— ะฃะณั, โ ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ะฝะตะพะฟัะตะดะตะปัะฝะฝะพ ะฟัะพะผััะฐะป ะฒ ะพัะฒะตั ััะฝ.
— ะ ะฝะพัะตะฒะฐัั ะพะฟััั ั ะฝะตะณะพ ะพััะฐะฝะตัััั?
— ะัะปะธ ะตะณะพ ัะพะดะธัะตะปะธ ะฝะต ะฟัะพะณะพะฝัั.
— ะะพะณะดะฐ ััะพ ะพะฝะธ ัะตะฑั ะฟัะพะณะพะฝัะปะธ?
ะะฐะบ ะฝะธ ัััะฐะฝะฝะพ, ะธะทะฒะตััะธะต ะพ ัะพะผ, ััะพ ะพะฝะฐ ะฟัะพะฒะตะดัั ะฒะตัะตั ะพะดะฝะฐ, ััะฟะพะบะพะธะปะพ ะะฐะปะธะฝั ะะปะตะบัะตะตะฒะฝั. ะะพะปััะต ะฒัะตะณะพ ะพะฝะฐ ะปัะฑะธะปะฐ ะพะดะธะฝะพัะตััะฒะพ, ะพะฑัะตะฝะธะต ั ะปัะดัะผะธ ะดะฐะฒะฐะปะพัั ะตะน ั ัััะดะพะผ.
ะะตัั ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะป ะผะฐัั ะฝะฐ ะฟัะพัะฐะฝะธะต.
— ะะฐ, ั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะฟะพ ะณะปัะฟะพััะธ ะทะฐััะฝัะปัั. ะะพะปััะต ะฝะต ะฑัะดั, ัะตััะฝะพ.
— ะะฐะดะฝะพ, ะปะฐะดะฝะพ, ะฒะตัั, โ ะพััะฐะธะฒะฐั, ะพะฑะฝัะปะฐ ะตะณะพ ะฒ ะพัะฒะตั ะผะฐัั. โ ะขะพัะฝะพ ะฝะต ะฑัะดะตัั?
— ะขะพัะฝะพ.
ะะตััะบะฐ ะฝะฐััะฝัะป ัะฒะพะธ ะฟะพะถะธะฒัะธะต ะบะพะฝะฒะตััั (ยซะะพะฒัะต, ััะพ ะปะธ, ะบัะฟะธัั?ยป) ะธ ะฟะพััะฐัะฐะปัั ะฟะพัะบะพัะตะต ะฒััะบะพะปัะทะฝััั ะธะท ะบะฒะฐััะธัั. ะัะฐัั ะพะฝ ะฝะต ะปัะฑะธะป, ะฐ ะผะตะถะดั ัะตะผ ัะพะฒัะฐัั ะตะผั ัะพะปัะบะพ ััะพ ะฟัะธัะปะพัั. ะะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะพะฝ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ัะพะฑะธัะฐะปัั ะบ ะคะตะดัะบะต. ะก ะฝะตะบะพัะพััั ะฟะพั ั ะฝะตะณะพ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะปะพัั ัะฒะพั ัะฑะตะถะธัะต, ะบะพัะพััะผ ะพะฝ ะผะพะณ ะฟะพะปัะทะพะฒะฐัััั ะฒัะฐะนะฝะต ะพั ะผะฐัะตัะธ. ะะพ ะฒัะตะผั ะฟะพัะปะตะดะฝะตะน ะฒัััะตัะธ ะฐะดะฒะพะบะฐั ะฟะพะบะพะนะฝะพะณะพ ะพััะฐ, ะะฒะณะตะฝะธะน ะะดะฐะผะพะฒะธั ะงะฐััะพัะธะถัะบะธะน, ะฟะตัะตะดะฐะป ะตะผั ะบะปััะธ ะพั ัััั ะบะพะผะฝะฐัะฝะพะน ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ ะฟะตัะตัะปะบะต. ะะดะฝะพะน ะธะท ะผะฝะพะณะธั , ััะพ ัะธัะปะธะปะธัั ะทะฐ ะฟะพัะธะฒัะธะผ ะพะปะธะณะฐัั ะพะผ. ะะต ัะฐะผะพะน ะฟัะพััะพัะฝะพะน ะธ ัะพัะบะพัะฝะพะน, ะฝะพ ัะฐะผะพะน ะปัะฑะธะผะพะน ะธ ัะฐััะพ ะฟะพัะตัะฐะตะผะพะน.
— ะะฑะถะธะฒะฐะนัะต, ัะฝะพัะฐ. ะัั ัะฐะฒะฝะพ ะฟะพ ะทะฐะฒะตัะฐะฝะธั ะพะฝะฐ ะฒะฐัะฐ. ะขะพะปัะบะพ, ััั, ะฑะตะท ะดะตะฑะพัะตะน ะธ ััะผะฝัั ะบะพะผะฟะฐะฝะธะน. ะะพะฝััะตัะถ ะฟัะพัะปะตะดะธั.
ะะตัั ะฟัะธััะป ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝัะน ะฒ ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท. ะะพะฝััะตัะถ, ะบะฐะบ ะธ ะฑัะปะพ ัะณะพะฒะพัะตะฝะพ, ัะฒัะทะฐะปัั ั ะงะฐััะพัะธะถัะบะธะผ, ะฐะดะฒะพะบะฐั ะฟะพ ะฒะธะดะตะพัะฒัะทะธ ะฟะตัะตะบะธะฝัะปัั ะฝะตัะบะพะปัะบะธะผะธ ััะฐะทะฐะผะธ ั ะฟะฐัะฝะตะผ ะธ, ัะดะพััะพะฒะตัะธะฒัะธัั, ััะพ ะพะฝ ะธะผะตะฝะฝะพ ัะพั, ะทะฐ ะบะพะณะพ ัะตะฑั ะฒัะดะฐัั, ะฟัะธะบะฐะทะฐะป ะฟัะพะฟัััะธัั ะณะพััั.
ะััะพะบะฐั, ััะถะตะปะตะฝะฝะฐั, ะฟะพะบัััะฐั ัะตะทัะฑะพะน ะดะตัะตะฒัะฝะฝะฐั ะดะฒะตัั ะพัะบััะปะฐัั ะผัะณะบะพ.
— ะกะปะพะฒะฝะพ ั ั ะพะปะพะดะธะปัะฝะธะบะฐ, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ.
ะะพัะพะปะบะธ ะฒััะพะบะธะต, ะฟะพะด ััะธ ะผะตััะฐ. ะะฐ ะพะบะฝะฐั ััะถัะปัะต, ัะปะพะฒะฝะพ ะพัะปะธััะต ะธะท ะฑัะพะฝะทั, ััะพัั, ะฟะพัะพะปะบะธ ะฒ ะปะตะฟะฝะธะฝะต, ััะตะฝั ัะฟะปะพัั ะฟะพะบัััั ะบะฐััะธะฝะฐะผะธ ะธ ัะพัะพะณัะฐัะธัะผะธ, ะฒััะดั ะบะฝะธะถะฝัะต ัะบะฐัั ะธ ะฟะพะปะบะธ ั ัะพะฑัะฐะฝะธัะผะธ ัะพัะธะฝะตะฝะธะน, ัะพะผะฐะผะธ ะฒ ะบะพะถะฐะฝัั ะฟะตัะตะฟะปััะฐั . ะัะตะฒะฝัั, ะพะณัะพะผะฝะฐั, ะบะฐะบ ัะตะปะตะฒะธะทะพั, ะปะฐะผะฟะพะฒะฐั ัะฐะดะธะพะปะฐ, ััะดะพะผ ััะตะปะปะฐะถ ั ะฟะปะฐััะธะฝะบะฐะผะธ โ ะพั ะะธะฒะฐะปัะดะธ ะดะพ ะะตััะธะฝัะบะพะณะพ, ะพั ะงะฐะบะฐ ะะตััะธ ะดะพ ะะธะบะฐ ะะตะนะฒะฐ. ะะฐััะธะฒะฝัะน ะฟะธััะผะตะฝะฝัะน ััะพะป, ะฝะฐ ะฝัะผ ะปะฐะผะฟะฐ ัะพ ััะตะบะปัะฝะฝัะผ ะฒะธััะฐะถะฝัะผ ะฐะฑะฐะถััะพะผ. ะะธะฒะฐะฝั, ะบัะตัะปะฐ, ะฟััะธะบะธ, ัะพััะตัั ั ะฑะฐั ัะพะผะพะน. ะะพะฒัั ะฝะฐ ะฟะพะปั. ะะพ ะฑะพะปััะต ะฒัะตะณะพ ะะตัั ะฒะดะพั ะฝะพะฒะธะป ะฟะพะบััััะน ััะผะฝัะผะธ ะธะทัะฐะทัะฐะผะธ ะบะฐะผะธะฝ ัะพ ััะพััะธะผะธ ะฝะฐ ะฝัะผ ะฟะพะดัะฒะตัะฝะธะบะฐะผะธ ะฒ ะฝะฐะฟะปัะฒะฐั ะฒะพัะบะฐ.
ะะตัั ะฒััะตะป ะฝะฐ ะปะตััะฝะธัั, ัะฟัััะธะปัั.
— ะ ะบะฒะฐััะธัะต ั ัะฒะธะดะตะป ะบะฐะผะธะฝ.
— ะกะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฒะตัะฝะพ, โ ั ะณะพัะพะฒะฝะพัััั ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะบะพะฝััะตัะถ.
— ะกะบะฐะถะธัะต, ะพะฝ ะฒ ัะฐะฑะพัะตะผ ัะพััะพัะฝะธะธ? ะะพะถะฝะพ ะตะณะพ ะทะฐัะพะฟะธัั?
— ะะฐ, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะขะฐะผ ะตััั ะฝะตะฑะพะปััะธะต ั ะธััะพััะธ, ะฝะพ ะฝะธัะตะณะพ ัะปะพะถะฝะพะณะพ. ะฏ ะผะพะณั ะพะฑัััะฝะธัั.
— ะฅะพัะพัะพ. ะฏ ะฟะพะบะฐ ะฝะต ัะพะฑะธัะฐะปัั ัะพะฟะธัั ะตะณะพ, ะฝะพ, ะบะพะณะดะฐ ะฟะพั ะพะปะพะดะฐะตั, ะฟะพะฟัะพะฑัั.
ะ ััะธะบะต ะฟะธััะผะตะฝะฝะพะณะพ ััะพะปะฐ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะพัั ะดะฒะฐ ะดะตัััะบะฐ ัะพะปัััั ะบะปัััะตัะพะฒ ั ะผะฐัะบะฐะผะธ, ะธ ะะตััะบะฐ ั ะณะพะปะพะฒะพะน ัััะป ะฒ ะธั ะธะทััะตะฝะธะต. ะขัั ะฑัะปะธ ะธ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั, ะธ ะดะพัะตะฒะพะปััะธะพะฝะฝัะต, ะธ ะผะฝะพะถะตััะฒะพ ัะพะฒะตััะบะธั . ะ ะพัะฝะพะฒะฝะพะผ, ะพััะตะณะพ-ัะพ ะบะพัะผะพั.
ะะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ัะธะปะฐัะตะปะธะตะน, ะฝะพ, ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ัะพะปัะบะพ ะฟะพัะพะผั, ััะพ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฟะพะปััะฐะป ะฒ ััะบะธ ัะฐะบะพะต ะฑะพะณะฐัััะฒะพ. ะ ัะพ, ััะพ ััะพ ะฑะพะณะฐัััะฒะพ, ะพะฝ ะฟะพะฝัะป ััะฐะทั. ะะฐะณะธั, ะทะฐะบะปัััะฝะฝะฐั ะฒ ัะฒะตัะฝัั ะบััะพัะบะฐั ะฑัะผะฐะณะธ, ะฟัะพัะฒะธะปะฐ ัะตะฑั ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะธ ะพะบะฐัะธะปะฐ ะฟะฐัะฝั ั ะณะพะปะพะฒะพะน. ะะพ ัััั ัะฐัะพะฒ ะฝะพัะธ ะพะฝ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะป ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธั ะฟะปะฐะฝะตั, ะบะพัะผะธัะตัะบะธั ะบะพัะฐะฑะปะตะน, ะผัะถัะธะฝ ะธ ะถะตะฝัะธะฝ ะฒ ัะบะฐัะฐะฝะดัะฐั , ะถะธะฒะพัะฝัั , ะฝะฐัะตะบะพะผัั , ััะฑ, ัะฟะพัััะผะตะฝะพะฒ, ะบะพัะฐะฑะปะตะน…
ะก ัะตั ะฟะพั ะพะฝ ะฟัะธ ะฟะตัะฒะพะน ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ ัะฑะตะณะฐะป ะฒ ะบะฒะฐััะธัั ัะฒะพะตะณะพ ะพััะฐ ะธ ยซะพะฑะถะธะฒะฐะปััยป.
ะะพัะปะต ะผะฐัะพะบ ะฝะฐััะฐะป ัะตััะด ะบะฐััะธะฝ, ัะพัะพะณัะฐัะธะน, ะบะฝะธะณ. ะะตัั ะฝะฐััะธะปัั ัะฐะทะถะธะณะฐัั ะบะฐะผะธะฝ, ะฟะพะปัะฑะธะป ัะปััะฐัั ะฟะปะฐััะธะฝะบะธ ะฝะฐ ะปะฐะผะฟะพะฒะพะน ัะฐะดะธะพะปะต.
ะะฝ ัะฐะผ ัะตะฑะต ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะป ัััะฝะพะณะพ, ะพัะบััะฒัะตะณะพ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝัั ัััะฐะฝั ะธ ะถะฐะดะฝะพ ะตั ะธะทััะฐััะตะณะพ.
***
ะ ะฟะพะฝะตะดะตะปัะฝะธะบ ัััะพะผ ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะบะฐะบ ะพะฑััะฝะพ, ะดะพะถะดะฐะปัั ั ัะฒะพะตะณะพ ะฟะพะดัะตะทะดะฐ ะคะตะดัะบั, ะธ ะพะฝะธ ะฟะพัะปะธ ะบ ัะบะพะปะต. ะะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะพัะปะธัะฐะปัั ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพัััั, ะดะฐ ัะตะนัะฐั ะพะฝ ะบ ัะพะผั ะถะต ะฑัะป ัะฟัะพัะพะฝัั, ะฟะพััะพะผั ะฝะต ััะฐะทั ะทะฐะผะตัะธะป, ััะพ ะะพัะพั ะพะฒ ะฒะทะฑัะดะพัะฐะถะตะฝ ัะฒะตัั ะฒััะบะพะน ะผะตัั. ะะฝ ะผะพะปัะฐะป, ะฝะพ ััะพ ะฑัะปะพ ัะฟะพะบะพะนััะฒะธะต ะทะฐะบะธะฟะฐััะตะณะพ ัะฐะนะฝะธะบะฐ.
— ะขั ัะตะณะพ ัะฐะบะพะน?
— ะ ะบะฐะบะพะน ั ะดะพะปะถะตะฝ ะฑััั, ะฟะพ-ัะฒะพะตะผั, ะฟะพัะปะต ััะพะณะพ?
— ะ ัะผััะปะต? ะะพัะปะต ัะตะณะพ?
— ะ, ัั ะถ ั ะฝะฐั ัะตั ะฝะธัะตัะบะธ ะฝะตะฟัะพะดะฒะธะฝัััะนโฆ ะัะฟะธ ัะถะต, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ะฝะพัะผะฐะปัะฝัะน ัะตะปะตัะพะฝ!
ะคะตะดัะบะฐ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ัะผะฐัััะพะฝ, ะฟัะพะฑะตะถะฐะป ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฟะพ ัะบัะฐะฝั.
— ะกะผะพััะธ. ะะพััั ะฟัะธัะปะพ.
ะะฐ ัะบัะฐะฝะต ัะฒะตัะธะปะพัั ัะพะพะฑัะตะฝะธะต ะธะท WordApp: ยซKuraga. 17.09_03:06. ะะตัะตะปัะต ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตััั!ยป
ะะธะถะต ะฒะธัะตะปะพ ัััะฝะพะต ะพะบะพัะบะพ ะฒะธะดะตะพัะฐะนะปะฐ. ะะพัะพั ะพะฒ ััะพะฝัะป ัะบัะฐะฝ, ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะฝะฐะถะฐะป ะฝะฐ ัะตะณัะปััะพั ะณัะพะผะบะพััะธ.
ะกะฝะธะผะฐะปะธ, ััะดั ะฟะพ ัะฐะบัััั, ะบะฐะผะตัะพะน, ัะบัะตะฟะปัะฝะฝะพะน ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒะต ะฟะพ ัะธะฟั ะฝะฐะปะพะฑะฝะพะณะพ ัะพะฝะฐัะธะบะฐ.
ะะฐ ัะบัะฐะฝะต ะฑัะป ะฟะพะทะดะฝะธะน ะฒะตัะตั. ะกะฝะธะผะฐััะธะน ะฟัััะฐะปัั ะทะฐ ะดะตัะตะฒะพะผ ะฒะพะทะปะต ะฝะฐะฑะตัะตะถะฝะพะน ัะตะบะธ, ะฝะพ ะฝะต ะะพัะบะฒั, ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฟะพะผะตะฝััะต, ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฏัะทั. ะะฐัะฐะปะปะตะปัะฝะพ ัะตะบะต ัะปะฐ ัะทะบะฐั ะดะพัะพะณะฐ, ะผะฐัะธะฝ ะฝะฐ ะฝะตะน ะฒ ััะพั ัะฐั ะฟะพััะธ ะฝะต ะฑัะปะพ.
— ะะพั ะพะฝะฐ ะธะดัั. ะะฐัะฐ ะบัััะฐ. ะะดััโฆ โ ัะฐะทะดะฐะปัั ะฟัะธะณะปัััะฝะฝัะน ะณะพะปะพั.
ะะพะฒะพัะธะป ัะฒะฝะพ ะผัะถัะธะฝะฐ ะธ, ัะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ะผะพะปะพะดะพะน. ะะฐ ะฝะฐะฑะตัะตะถะฝะพะน ะฟะพัะฒะธะปัั ะดะตะฒะธัะธะน ัะธะปััั. ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฒะณะปัะดะตะปัั, ัะฝัะป ะพัะบะธ, ะฟะพะดะฝัั ัะตะปะตัะพะฝ ะฟะพััะธ ะบ ัะฐะผัะผ ะณะปะฐะทะฐะผ.
— ะจะตัะณะธะฝะฐ? โ ะพะฑัะฐัะธะปัั ะพะฝ ะบ ะะพัะพั ะพะฒั.
ะขะพั ะบะธะฒะฝัะป.
— ะกะผะพััะธ ะดะฐะปััะต.
— ะั ััะพ, ะฟะพะตั ะฐะปะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะณะปัั ะพะน ะณะพะปะพั.
ะะฑัะตะบัะธะฒ ะฝะฐ ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะทะฐัะปะพะฝะธะปะฐ ััะบะฐ, ะธ ะฝะฐ ะบะฐะผะตัะต ะฒะบะปััะธะปัั ัะพะฝะฐัะธะบ. ะกะฝะธะผะฐััะธะน ะฟะตัะตััะบ ะดะพัะพะณั ะธ ะฟะพะดะฑะตะถะฐะป ะบ ะดะตะฒััะบะต ัะทะฐะดะธ. ะขะฐ, ะฒะธะดะธะผะพ, ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะฒ ัะณัะพะทั, ะพะฑะตัะฝัะปะฐัั ะธ ะบะธะฝัะปะฐัั ะฝะฐัััะบ, ะฝะพ ัะปะธัะบะพะผ ะฟะพะทะดะฝะพ. ะัะตัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปั ัั ะฒะฐัะธะป ะตั ะทะฐ ะฒะพะปะพัั.
— ะกัะพััั!
ะะฐะผะตัะฐ ะผะตัะฐะปะฐัั, ัะปััะฐะปะธัั ะทะฒัะบะธ ะฒะพะทะฝะธ, ััะผะฝะพะต ะดัั ะฐะฝะธะต, ะบัะธะบะธ ะะฝะธ.
— ะัะฟัััะธ!.. ะัะพ ัั?.. ะงัะพ ัะตะฑะต ะฝะฐะดะพ?.. ะะพะปะธัะธั!..
— ะะฐัะบะฝะธัั!
ะกัะดั ะฟะพ ััััะบะต, ะดะตะฒััะบะฐ ะพััะฐัะฝะฝะพ ัะพะฟัะพัะธะฒะปัะปะฐัั. ะัั ะบะฐะผะตัั ะฝะฐ ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะฒัั ะฒะฐััะฒะฐะป ะตั ะปะธัะพ, ะธ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ััั ะถะต ัะฝะพะฒะฐ ัะฐะทะผะฐะทัะฒะฐะปะพัั.
ะะธะผะพ ะฟัะพะตั ะฐะปะฐ ะผะฐัะธะฝะฐ, ะพัะฒะตัะธะปะฐ ัะฐัะฐะผะธ ะดะตัััะธั ัั, ะฝะพ ะฝะต ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั ะธ ะฒัะพะดะต ะฑั ะดะฐะถะต ะดะฐะปะฐ ะฟะพ ะณะฐะทะฐะผ.
ะะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะพัั. ะะพะปะพะฒะฐ ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฑัะปะฐ ะฟัะธะถะฐัะฐ ะบ ะฟะพะบัััะพะผั ััะตัะธะฝะฐะผะธ ะฐััะฐะปััั. ะะธะด ั ะดะตะฒััะบะธ ะฑัะป ะทะฐะณะฝะฐะฝะฝัะน, ะณะปะฐะทะฐ ะผะตัะฐะปะธัั.
— ะขะตะฑั ะฒะตะดั, ะบะฐะบ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ะฟัะพัะธะปะธ, ะฟะพะณะพะฒะพัะธ ั ะพััะพะผ, ัะฑะตะดะธ. ะะตัะถะตะปะธ ะฝะต ะฟะพะนะดัั ะฝะฐะฒัััะตัั ะปัะฑะธะผะพะน ะดะพัะบะต? ะะต ะทะฒะตัั ะถะต ะพะฝ? โ ัะดะฐะฒะปะตะฝะฝะพ ัะตะดะธะป ะฝะฐะฟััะถัะฝะฝัะน ะณะพะปะพั. โ ะขั ั ะพัั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั, ััะพ ั ัะพะฑะพะน ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฐ?
— ะัะฟัััะธ, โ ะฟัะพั ัะธะฟะตะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ. โ ะะพ-ั ะพัะพัะตะผั ะพัะฟัััะธ.
— ะ ัะพ ััะพ?
ะขะฐ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ, ะฟะพะฝัะฒ, ััะพ ะทะปะธัั ะฝะฐะฟะฐะฒัะตะณะพ ัะตะนัะฐั ะฝะต ััะพะธั.
— ะ ัะพ ััะพ, ะบัััะฐ? โ ะะฐะผะตัะฐ ะฒะฟะปะพัะฝัั ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะฐัั ะบ ะปะธัั ะะฝะธ. โ ะะพ-ะฟะปะพั ะพะผั ะฑัะดะตั?
ะะตะฒััะบะฐ ะทะฐะบััะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ ะพั ะฑัััะตะณะพ ะฒ ัะฟะพั ัะฒะตัะฐ.
— ะขั ั ะพัั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั, ััะพ ั ั ัะพะฑะพะน ะผะพะณั ัะตะนัะฐั ัะดะตะปะฐัั? ะะพะฝะธะผะฐะตัั, ะฐ?
ะะฝ ััะฒะบะพะผ ะฟะพััะฐะฒะธะป ะตั ะฝะฐ ะฝะพะณะธ. ะะธะดะตะพ ัะฝะพะฒะฐ ัะฐัะฟะปัะปะพัั, ะทะฐะผะตัะฐะปะพัั, ะพะฟััั ะฟะพัะปััะฐะปะธัั ะทะฒัะบะธ ะฑะพััะฑั.
— ะัััะธ, ั ัะบะฐะทะฐะปะฐ!..
ะะพะณะดะฐ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะทะฐัะธะบัะธัะพะฒะฐะปะพัั, ะะฝั ะปะตะถะฐะปะฐ ะฝะฐ ะฟะตัะธะปะฐั , ะฝะฐะฟะพะปะพะฒะธะฝั ัะฒะตัะธะฒะฐััั ะฝะฐะด ะฒะพะดะพะน.
— ะะต ะดััะณะฐะนัั, ะฐ ัะพ ััะพะฝั, โ ะฟะพัะพะฒะตัะพะฒะฐะป, ััะถะตะปะพ ะดััะฐ, ะผัะถัะธะฝะฐ.
ะะฝั ะทะฐะผะตัะปะฐ, ะทะฐัะธั ะปะฐ ะธ ัะพะปัะบะพ ะธะฝะพะณะดะฐ ะฒัั ะปะธะฟัะฒะฐะปะฐ.
— ะัะฐะฒะธััั? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ, ะฝะฐัะปะฐะดะธะฒัะธัั ัััะฐั ะพะผ ะถะตััะฒั. โ ะฅะพัะตัั ะฒะฝะธะท?
— ะะตั! ะะตั! โ ะฒัะบัะธะบะฝัะปะฐ ะธััะตัะธัะฝะพ ะจะตัะณะธะฝะฐ.
— ะขะพะณะดะฐ ะดะตะปะฐะน, ััะพ ะณะพะฒะพััั, ััะฝะพ?
ะะฝ ะบะฐัะฝัะป ะตั, ัะปะพะฒะฝะพ ัะพะฑะธัะฐััั ัะฑัะพัะธัั ะฒ ัะตะบั, ะะฝั ัะฝะพะฒะฐ ะฒะทะฒะธะทะณะฝัะปะฐ. ะงะตะปะพะฒะตะบ ััะพะฝะธะป ะตั ะฝะฐ ะฐััะฐะปัั. ะะตะฒััะบะฐ, ััะดะฐั, ัะถะฐะปะฐัั ะฒ ะบะพะผะพะบ, ะฟัะธะถะฐะฒัะธัั ัะฟะธะฝะพะน ะบ ะฟะตัะธะปะฐะผ.
ะะฐะผะตัะฐ ะพัะฒะตัะฝัะปะฐัั, ะฟะพั ะพะถะต, ัะตะปะพะฒะตะบ ะฟะพััะป ะฟัะพัั ะพั ัะฒะพะตะน ะถะตััะฒั. ะกะฝะพะฒะฐ ะฟะพัะฒะธะปะฐัั ััะบะฐ, ะฒัะบะปััะธะปะฐ ัะพะฝะฐัั. ะัะตะถะดะต ัะตะผ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ัะณะฐัะปะพ, ะฟะพัะปััะฐะปัั ะฒัะบัะธะบ, ะฟะพั ะพะถะธะน ะฝะฐ ะธััะตัะธัะฝัะน ั ะพั ะพั.
— ะงัะพ ัะบะฐะถะตัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะพัะพั ะพะฒ, ะฟัััะฐ ัะผะฐัััะพะฝ. โ ะคะธะฝะธั, ะดะฐ?
— ะคะธะฝะธั, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะััั. โ ะะพ ะพะดะฝะพ ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะพ ะผะตะฝั ัะฐะดัะตั.
— ะะฐะบะพะต?
— ะะพะปะพั ััะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะธ ะฑะปะธะทะบะพ ะฝะต ะฟะพั ะพะถ ะฝะฐ ะณะพะปะพั ะบะพะณะพ-ัะพ ะธะท ะฝะฐัะธั .
— ะะพะถะตั, ะฝะฐ ะบะพะผะฟัััะตัะต ะธัะบะฐะทะธะปะธ?
— ะะตั, ะะฝะธะฝ ะณะพะปะพั ััะป ะฑะตะท ะธัะบะฐะถะตะฝะธะน, ะทะฝะฐัะธั, ะธ ะตะณะพ ะฝะต ะธัะบะฐะถัะฝ.
ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฒะทะดะพั ะฝัะป ั ะพะฑะปะตะณัะตะฝะธะตะผ:
— ะญัะพ ะฝะต ะธะท ะฝะฐัะธั , ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั? ะะพั ััะพ ะณะปะฐะฒะฝะพะต!
ะะตัั ัะปัะฑะฐะปัั.
— ะ ะฟัะธะฝัะธะฟะต, ะดะฐ, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะดัะดั ะคะตะดะพั. โ ะะพ ะบะฐะบ ะถะต ะบัััะฐ? ะะฐะบ ะพะฝะฐ ะฟะพะฟะฐะปะฐ ะฒ ัะตัะณะธะฝัะบะธะน ััะบะทะฐะบ?
ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฟะพััั ะปะพะฑ.
— ะะพะฟัะพั, ัะพะณะปะฐัะตะฝ.
ะะพ ะฝะฐัะฐะปะฐ ััะพะบะฐ ะฑัะปะพ ะตัั ะฟััะฝะฐะดัะฐัั ะผะธะฝัั, ะฝะพ ะฒะตัั ะบะปะฐัั ะฑัะป ัะถะต ะฒ ัะฑะพัะต ะธ ะฟะปะพัะฝะพะน ััะตะฝะพะน ััะพัะป ะฒะพะบััะณ ะฟะฐััั ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ.
ะะฐ ัะตะบะต ั ะะฝะธ ะฒะธะดะฝะตะปะธัั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฝะตะฑะพะปััะธั ะทะฐะฟัะบัะธั ัั ัะฐัะฐะฟะธะฝ, ยซะฐััะฐะปััะฝะฐั ะฑะพะปะตะทะฝัยป, ะบะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐัั ะพะฑััะฝะพ ัะฐะบะพะณะพ ัะพะดะฐ ัะฐะฝะตะฝะธั. ะัะณะปัะดะตะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ ะฑะปะตะดะฝะพะฒะฐัะพ, ะฝะพ ะฒ ัะตะปะพะผ ะฝะตะฟะปะพั ะพ. ะะพะนะบะพั ะฑัะป ัะฒะฝะพ ะฟะพะทะฐะฑัั ะธ ะฟะพั ะพัะพะฝะตะฝ, ะธ ะบะปะฐัั ะฝะฐะฟะตัะตะฑะพะน ะฒััะฐะถะฐะป ะะฝะต ัะฒะพั ัะพััะฒััะฒะธะต.
ะัะธะผะตัะฐะฝะธั:
[1] ะะฐะบะพะน ัั, ะะฐัั, ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ะผะพะถะตัั ะฑััั ัะตะทะบะธะน.
[2] ะญัะพ ั ะพั ะพััะฐ ะฝะฐั ะฒะฐัะฐะปัั.
[3] ะะฝ ะฒ 90-ะต ัะฐะบะธั ะพัะผะพัะพะทะบะพะฒ ะทะฐัะธัะฐะป! ะฃ ะฝะตะณะพ ะธ ัะตะนัะฐั ะฝะตั-ะฝะตั ะดะฐ ะธ ะฒััะฒะตััั ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ัะดะฐะบะพะตโฆ ะฑะพะดัััะตะต.
[4] — ะ ัั ัะตะณะพ ั ะพััะพะผ ะฝะต ะฟะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ?
— ะฏ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ. ะะฝ ัะบะฐะทะฐะป, ััะพะฑั ั ััะธั ะฒะพะฟัะพัะพะฒ ะตะผั ะฑะพะปััะต ะฝะต ะทะฐะดะฐะฒะฐะปะฐ.
[5] โฆะัะตะบัะฐัะฝะฐั ัััะฐะฝะฐ, ะฟัะตะบัะฐัะฝัะต ะปัะดะธ, ะฟัะตะบัะฐัะฝะฐั ะผัะทัะบะฐ. ะขะฐะบ ั ั ะพัะตะปะฐ ะฑั ะทะฐะบะพะฝัะธัั ัะฒะพะน ัะฐััะบะฐะท ะพะฑ ะะฒัััะธะธ.
ะะปะฐะฒะฐ 3. ะัะธะณะพัะธะน ะกะปัะถะธัะตะปั. ยซะะฒะตะฝะฐัะบะฐยป
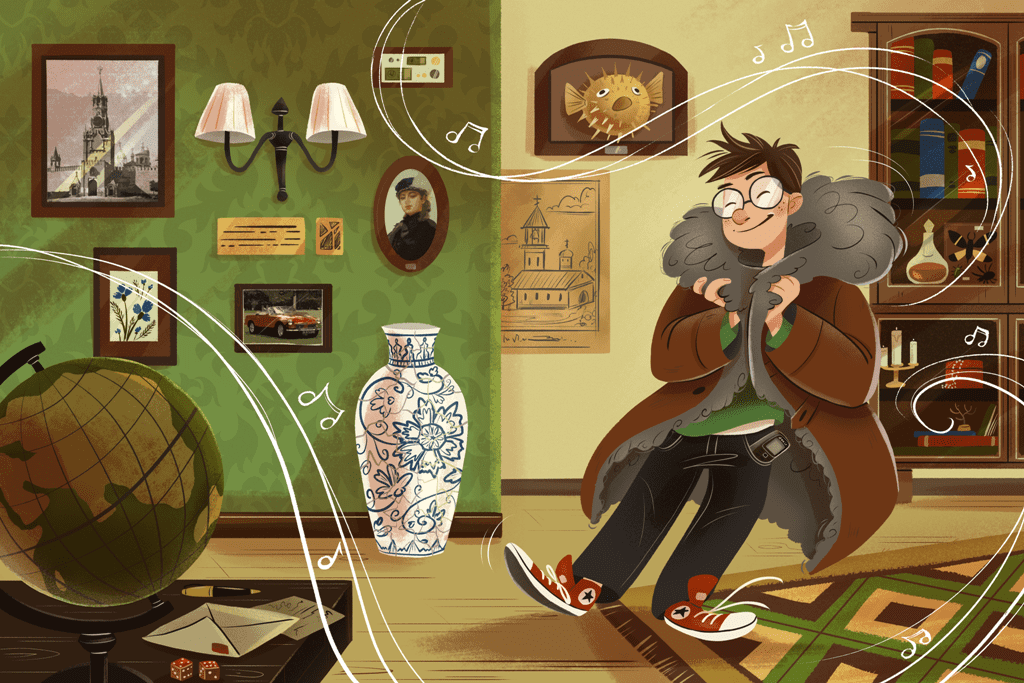

ะะพััะธ ะบะฐะถะดัะน ะดะตะฝั ะฟะพัะปะต ััะพะบะพะฒ ะะตัั ััะป ะฟะตัะบะพะผ ะธะท ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝัะน ะฟะตัะตัะปะพะบ. ะััั ะทะฐะฝะธะผะฐะป ััะพ-ัะพ ะพะบะพะปะพ ัะฐัะฐ, ะธ ะฒัั ััะพ ะฒัะตะผั ะฟัะตะดะพััะฐะฒะปะตะฝะฝัะน ัะฐะผะพะผั ัะตะฑะต ะะตัั ัะฐะทะผััะปัะป ะพ ะฟะพัะปะตะดะฝะธั ัะพะฑััะธัั . ะะฝ ะฟะพ-ัะฒะพะตะผั ะปัะฑะธะป ยซะะฒะตะฝะฐัะบัยป ะธ ะฒัั ะธั ัะบะพะปัะฝัั ะบะพะผะฟะฐะฝะธั. ะะตัั ะฝะต ะพัะพะฑะพ ะทะฐะดัะผัะฒะฐะปัั ะพ ะฟัะตะดะพะฟัะตะดะตะปะตะฝะธะธ, ะฝะพ, ะตัะปะธ ัะถ ะพะฝะธ ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ะฒะผะตััะต, ะทะฝะฐัะธั, ััะพ ะฝะตัะฟัะพััะฐ, ะทะฝะฐัะธั, ัะฐะบ ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฝัะถะฝะพ. ะะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะพะฝ ะฝะต ะธัะฟัััะฒะฐะป ะฟะพ ะฟะพะฒะพะดั ัะฝะพัะฐ ะฝะธัะตะณะพ, ะบัะพะผะต ะฑะตะทัะฐะทะปะธัะธั. ะะฝ ะพะณะปัะดัะฒะฐะปัั ะฒะพะบััะณ: ะฝะฐ ะผะฐะผั, ะฝะฐ ะคะตะดั, ะฝะฐ ััะธัะตะปะตะน, ะฝะฐ ัะปััะฐะนะฝัั ะฟัะพั ะพะถะธั โ ะธ ะฒะธะดะตะป, ััะพ ะฒัั ะถะธะทะฝั ัะพััะพะธั ะบะฐะบ ะฑั ะธะท ะบััะณะพะฒ. ะ ะตัะปะธ ัะฐะทะพะฑัะตััั ะพะดะธะฝ ะบััะณ, ัะพ ััะฐะทั ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะฒะพะทะฝะธะบะฝะตั ะดััะณะพะน. ะ ัะฐะบ ะฑัะดะตั ะฒัะตะณะดะฐ. ะะพััะพะผั ะธะผะตะปะพ ะปะธ ัะผััะป ะณะพัะตะฒะฐัั ะธะท-ะทะฐ ัะฝะพัะฐ ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป? ะ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะตัะปะธ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะทะฐั ะพััั, ะพะฝะธ ัะผะพะณัั ะฒะธะดะตัััั ะธ ะฒะฝะต ััะฐัะพะน ัะบะพะปั. ะ ะตัะปะธ ะฝะต ะทะฐั ะพััั, ะฟะพะปััะฐะตััั, ััะพ ะฝะต ัะฐะบ ัะถ ะธ ัะธะปัะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะธั ะฟัะธะฒัะทะฐะฝะฝะพััั (ะฝะฐัััั ะดัะดะธ ะคัะดะพัะฐ ะพะฝ ะฝะต ัะพะผะฝะตะฒะฐะปัั: ั ััะธะผ ะบะพัะตัะตะผ ะพะฝะธ ะฟัะพะนะดัั ะฒะผะตััะต ัะตัะตะท ะฒัั ะถะธะทะฝั). ะััะณะพะต ะดะตะปะพ, ััะพ ะพะฝ ะฑัะป ะธัะบัะตะฝะฝะต ะฒะพะทะผััะตะฝ ัะธััะฐัะธะตะน ั ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะะฐัั ัะฐะท ะดะฐะถะต ะฝะฐะฑะธัะฐะป ะตั ะฝะพะผะตั, ััะพะฑั ะฟะพะดะดะตัะถะฐัั ะะฝั, ะฝะพ ะพะฝะฐ ัะฑัะฐััะฒะฐะปะฐ ะทะฒะพะฝะพะบ. ะะพั ะธ ัะตะณะพะดะฝั ะฒ ััะพะปะพะฒะพะน ะพะฝ ะฟะพะฟัะพะฑะพะฒะฐะป ััััะฟะธัั ะตะน ะผะตััะพ ะฒ ะพัะตัะตะดะธ. ะะพ ะฒััะปะพ ััะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะธ ะณะปัะฟะพ. ะะฐะบ ะฑัะดัะพ ะตัะปะธ ะพะฝะฐ ะฟะพะตัั ัะฐะฝััะต ะฝะฐ ะพะดะฝะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ัะพ ะพะฑะธะดะฐ ะตั ะพัะปะฐะฑะตะตั. ะะฝะฐ ะฒะตะถะปะธะฒะพ ะพัะบะฐะทะฐะปะฐัั. ะะตัั ัะบะฐะทะฐะป:
-ะะฝั, ัะปััะฐะน. ะฏ ะฝะฐ ัะฒะพะตะน ััะพัะพะฝะต. ะขั ะฝะธ ะฒ ัะตะผ ะฝะต ะฒะธะฝะพะฒะฐัะฐ. ะญัะพ ะฒัั ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะถะตััั. ะขะตะฟะตัั ะฒะพะฝ ะดะพ ะฟะพะฑะพะตะฒ ะดะพัะปะพ. ะัะปะธ ัะตะฑะต ะฝัะถะฝะฐ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะฟะพะผะพัั, ััะฐะทั ัะบะฐะถะธ!
ะะฝั ะผะพะปัะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฒ ะฟะพะป.
-ะขั ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฟะพะดัะผะฐะน, ั ะฝะต ะฟะพะดะบะฐััะฒะฐั ะบ ัะตะฑะต.
ะะฐ ััะธั
ัะปะพะฒะฐั
ะะฝั ัะตะทะบะพ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะตะผั ะฒ ะณะปะฐะทะฐ, ะบัะธะฒะพ ัั
ะผัะปัะฝัะปะฐัั ะธ ะพัะพัะปะฐ. ะะตัั ัะผััะธะปะฐ ัะฐะบะฐั ัะตะฐะบัะธั. ะััะพะบะพะผะตัะฝะฐั ะธ ะทะปะฐั. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะพะฝ ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ะดะฐะถะต ะฒ ะผััะปัั
ะฝะต ะธะผะตะป ะบ ะฝะตะน ะฟะพะดะบะฐััะฒะฐัั. ะัะต ะฟะพะปะณะพะดะฐ ะฝะฐะทะฐะด ั
ะพัะตะป, ะฝะพ ะฑะพัะปัั, ะฐ ัะตะฟะตัั ะธ ะถะตะปะฐะฝะธะต ะฟัะพะฟะฐะปะพ.
ะ ัะตะฝััะฑัะต ะะตัะต ะฒัะตะณะดะฐ ะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะพะฝ ะฒะตัะฝัะปัั ั ะบะฐะฝะธะบัะป ะพะฑะฝะพะฒะปะตะฝะฝัะผ ะธ ะพะฑะพะณะฐัะตะฝะฝัะผ; ััะพ ะทะฐ ะปะตัะพ ะดะพััะฐัะพัะฝะพ ะฒััะพั, ะฝะฐััะธะปัั ะฑััั ัะฐะผะธะผ ัะพะฑะพะน ะธ ะพะฑััะป ะดะพะปะณะพะถะดะฐะฝะฝัั ัะฒะตัะตะฝะฝะพััั. ะ ะฝะฐัะฐะปะต ะบะฐะถะดะพะณะพ ััะตะฑะฝะพะณะพ ะณะพะดะฐ ะพะฝ ะฝะต ัะพะผะฝะตะฒะฐะปัั, ััะพ ัะถ ะฝะฐ ััะพั ัะฐะท ะบะปะฐัั ะฝะฐะบะพะฝะตั ะฒะพัะฟัะธะผะตั ะตะณะพ ะฒัะตัััะท. ะะพ ัะพ ะปะธ ะพะฝ ะพัะธะฑะฐะปัั ะฝะฐััะตั ัะตะฑั, ัะพ ะปะธ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะทะฐ ะปะตัะฝะธะต ะผะตัััั ัะพะถะต ััะฟะตะฒะฐะปะธ ัะธะปัะฝะพ ะธะทะผะตะฝะธัััั, ะฝะพ ะพะฝะธ ัะฝะพะฒะฐ ะพะบะฐะทัะฒะฐะปะธัั ะฝะฐ ะฟะฐัั ะฒะตััะบะพะฒ ะฒะฟะตัะตะดะธ ะะตัะธ. ะะตัะพะผ, ะทะฝะฐะบะพะผััั ั ะฝะพะฒัะผะธ ะปัะดัะผะธ, ะะตะทะฝะพัะพะฒ ัะฐะผ ัะตะฑะต ัะดะธะฒะปัะปัั: ะบะฐะบะธะผ ะพะฝ ะผะพะถะตั ะฑััั ัะฐัะบะพะฒะฐะฝะฝัะผ ะธ ะปัะณะบะธะผ. ะะพ ะฒ ัะบะพะปะต ััะฐััะต ัะฒัะทะธ ะฑัะฐะปะธ ัะฒะพั, ะธ ะฟะพะปััะฐะปะพัั, ััะพ ัะฐะท ะพัะฒะตะดะตะฝะฝะพะต ะตะผั ะผะตััะพ ัะปะธัะบะพะผ ะบัะตะฟะบะพ ะดะตัะถะธั ะตะณะพ.
ะะตัั ััะฟะตะป ะฟะพ-ะฝะฐััะพััะตะผั ะฟะพะปัะฑะธัั ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ. ะะดะตัั ะพะฝ ะฑัะฒะฐะป ัะถะต ะผะฝะพะณะพ ัะฐะท, ะฝะพ ะบะฐะบ ะฑั ััะฐัะตะปัะฝะพ ะฝะธ ะธััะปะตะดะพะฒะฐะป ะบะฐะถะดัะน ัะณะพะป, ะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะบะธะดะฐะปะพ ะพัััะตะฝะธะต, ััะพ ะพะฝ ััั ะฒะฟะตัะฒัะต. ะขัะธ ะฟัะพััะพัะฝัะต ะบะพะผะฝะฐัั ะฒะตัะฝะตะต ะฑัะปะพ ะฑั ะฝะฐะทะฒะฐัั ะทะฐะปะฐะผะธ. ะกัะดั ะฟะพ ะฒัะตะผั, ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะถะธะปะตั (ะพัะตั ะปะธ?) ะฟะพะบะธะฝัะป ะบะฒะฐััะธัั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะผะตัััะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด. ะฅะพะปะพะดะธะปัะฝะธะบ, ะตัะปะธ ะฝะต ััะธัะฐัั ะผัะผะธะธ ะปะธะผะพะฝะฐ ะฝะฐ ะดะฒะตััะต, ะฑัะป ะฟััั. ะะพะผะฟะปะตะบัั ะฑะตะปัั ะฐะบะบััะฐัะฝะพ ัะปะพะถะตะฝั ะฒ ัะบะฐัะฐั . ะัะพะผะต ะฟะฐัั ั ะฐะปะฐัะพะฒ ะธ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะพะฒัะธะฝะฝะพะณะพ ััะปัะฟะฐ, ะฝะธะบะฐะบะพะน ะพะดะตะถะดั ะฒ ะดะพะผะต ะฝะต ะพะบะฐะทะฐะปะพัั. ะ ะฒะฐะฝะฝะพะน ะฝะต ะฒะพะดะธะปะพัั ะฝะธ ะทัะฑะฝัั ัััะพะบ, ะฝะธ ัะฐะผะฟัะฝะตะน. ะขะตะผ ะฝะต ะผะตะฝะตะต, ะบะฒะฐััะธัะฐ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะปะฐ ัะพะฑะพะน ะฝะฐััะพััะธะน ะฟะฐะฝะพะฟัะธะบัะผ, ัะบะปะฐะด ัะฐะทะปะธัะฝัั ะดะธะบะพะฒะธะฝ. ะะตัะต ะฑััััะพ ะฝะฐัะบััะธะปะพ ัะฐะทะณะปัะดัะฒะฐัั ะฑะตััะธัะปะตะฝะฝัะต ัะพะผะฐ ั ะผะฐัะบะฐะผะธ. ะะฝ ััั ะธ ัะฐะผ ะฝะฐั ะพะดะธะป ััะพ-ัะพ, ะดะพ ััะพะณะพ ััะบะพะปัะทะฐะฒัะตะต ะพั ะตะณะพ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั. ะขะพ ัะบะปะตะตะฝะฝัั ะทะฐะฝะพะฒะพ ะบะธัะฐะนัะบัั ะฒะฐะทั. ะขะพ ัะปะพะฝะพะฒะธะน ะฑะธะฒะตะฝั ะฒ ััะตะบะปัะฝะฝะพะผ ัะฐัะบะพัะฐะณะต (ะฟัะธ ััะพะผ ะฒะฝัััะธ ะฑะธะฒะฝั ะฑัะป ะฒััะตัะตะฝ ัะตะปัะน ะณะพัะพะด: ััะฝะพัะฝะฐั ัััะพะปะพะบะฐ, ััะตะฝะบะฐ ััะดะฐ, ะบัะพ-ัะพ ะธะณัะฐะป ะฒ ัะฐัะบะธ, ะปะพะฒะธะป ััะฑั). ะะฐ ะพะดะฝะพะน ััะตะฝะต ะฒะธัะตะปะฐ ัะพัะพะณัะฐัะธั ะพััะฐ, ะฟะพะถะธะผะฐััะตะณะพ ััะบั ะผััั ะัะถะบะพะฒั ะฝะฐ ัะพะฝะต ะฝะพะฒะพะณะพ ัะพัะณะพะฒะพะณะพ ัะตะฝััะฐ, ะฝะฐ ะดััะณะพะน โ ะธะบะพะฝะฐ ะฒ ัะตัะตะฑััะฝะพะน ัะธะทะต. ะะฐะด ะฒั ะพะดะฝะพะน ะดะฒะตััั, ะฑะพะปััะต ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะฒัะตะน ัะตะทะฝะพะน ะฟะพััะฐะป ะฒ ะณะพัะธัะตัะบะธะน ัะพะฑะพั, ะบัะฐัะพะฒะฐะปะธัั ะดะฒะต ะฟะตัะตะบัะตัะตะฝะฝัะต ัะฐะฑะปะธ ะฒัะตะผะตะฝ ะฝะฐะฟะพะปะตะพะฝะพะฒัะบะธั ะฒะพะนะฝ. ะก ััะตัะพะฒ ัะฒะธัะฐะปะธ ัะธะฝะต-ะฑะตะปะพ-ะบัะฐัะฝัะต ะบะธััะพัะบะธ, ะฝะฐ ััะบะพััะบะฐั ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ัะฐะทะปะธัะธัั ะฑัะบะฒั N ะฒ ะพะฑัะฐะผะปะตะฝะธะธ ะปะฐะฒัะพะฒัั ะปะธัััะตะฒ. ะะฐะบะพะฝะตั ะฝะฐ ะณะปะฐะทะฐ ะะตัะต ะฟะพะฟะฐะปะฐัั ััะฐัะธะฝะฝะฐั ะณัะฐะฒััะฐ, ะบะพัะพััั ะพะฝ ัะฐะฝััะต ะฝะต ะทะฐะผะตัะฐะป. ะะฐ ะฝะตะน ะฑัะปะฐ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะฐ ัะตัะบะพะฒั. ะะฝะธะทั ะฒะธะปะฐัั ะฝะฐะดะฟะธัั: ยซะฆะตัะบะพะฒั ัะฒััะฐะณะพ ะขัะพัะธะผะฐ ะัะฐะบะปะธะพะฝัะบะพะณะพยป 1776. ะะตัั ัะถะต ะฑัะปะพ ะพัะฒะปัะบัั ะฝะฐ ัััะตะปะพ ััะฑั-ัะฐั, ะฝะพ ะฒะดััะณ ะพ ัะตะผ-ัะพ ะฟะพะดัะผะฐะป ะธ ัะฝะพะฒะฐ ัััะฐะฒะธะปัั ะฝะฐ ะณัะฐะฒััั. ะะฝ ัะบะปะพะฝะธะป ะณะพะปะพะฒั ะฒะปะตะฒะพ, ะฟะพัะพะผ ะฒะฟัะฐะฒะพ, ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปัั ะบ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธั, ะฟะพัะพะผ ะพัะพััะป ะฟะพะดะฐะปััะต. ะะฐ, ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธะบะฐะบะธั ัะพะผะฝะตะฝะธะน โ ััะฐ ัะตัะบะพะฒั ััะพัะปะฐ ะฝะฐ ะผะตััะต ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป. ะกะพะฑััะฒะตะฝะฝะพ, ะพะฝะฐ ะธ ะดะฐะปะฐ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะต ัััะผ ะฟัะธะปะตะณะฐััะธะผ ะบ ะฝะตะน ะฟะตัะตัะปะบะฐะผ.
ยซะคะธะณะฐัะต! โ ะฟัะพะธะทะฝะตั ะะตัั ะฒัะปัั . โ ะญัะพ ะถะต ะฝะฐั ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะน!ยป ะะฐ ะณัะฐะฒััะต ะฑัะป ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝ ะฒัะตะทะด ะฒะพ ะดะฒะพั ั ะฒััะพะบะธะผะธ ะฒะพัะพัะฐะผะธ. ะกะตะนัะฐั ะพั ะฝะธั ััะตะปะตะปะธ ัะพะปัะบะพ ะดะฒะฐ ััะพะปะฑะฐ. ะะฒัั ััะฐะถะฝัะน ะดะพะผะธะบ ััะดะพะผ ั ัะตัะบะพะฒัั ะฟัะธัะพั ะตัะต ะพะดะฝะธะผ ััะฐะถะพะผ. ะะตัะต ะดะฐะถะต ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะบะพัะพะฑะตะนะฝะธะบ ั ะฟััะฝัะผะธ ััะธัะฐะผะธ ะฒ ัะณะปั ะบะฐััะธะฝะบะธ โ ัะพัั-ะฒ-ัะพัั ะพั ัะฐะฝะฝะธะบ ะดัะดั ะกะฐัะฐ ะธะท ะธั ัะบะพะปั. ะ ะพััะฐะปัะฝะพะผ ัะทะฝะฐัั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะน ะะฐะปัะน ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะน ะฑัะปะพ ะฟะพััะธ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ. ะะตัั ะฟะปะพั ะพ ะทะฝะฐะป ะธััะพัะธั ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป. ะะฝ ััะพ-ัะพ ัะปััะฐะป ะฟัะพ ัะตัะบะพะฒั, ะบะพัะพัะฐั ััะพัะปะฐ ะฝะฐ ะผะตััะต ะฑัะดััะตะน ัะบะพะปั, ะฝะพ ะฟะพะฝััะธั ะฝะต ะธะผะตะป, ัะฝะตัะปะธ ะปะธ ะตะต ะฑะพะปััะตะฒะธะบะธ ะธะปะธ ะพะฝะฐ ัะฐะผะฐ ัะณะพัะตะปะฐ ะตัะต ัะฐะฝััะต.
ะ ะฐะทัะผะตะตััั, ะฟัะพะณัะณะปะธัั ะพะฝ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะผะพะณ โ ะฝะฐ ะตะณะพ Nokia ะฟัะพััะพ ะฝะต ะฑัะปะพ ะธะฝัะตัะฝะตัะฐ. ะะธ ะบะพะผะฟัััะตัะฐ, ะฝะธ ะฝะพััะฑัะบะพะฒ, ะฝะธ ะฟะปะฐะฝัะตัะพะฒ ะฒ ะบะฒะฐััะธัะต ะฝะต ะฒะพะดะธะปะพัั. ะั ะดะพัะฐะดั ะพะฝ ะฒัััะณะฐะปัั: ะดะฐะฒะฝะพ ัะถะต ะฟะพัะฐ ัะพะฑัะฐัััั ะธ ะบัะฟะธัั ะฝะพะฒัั ยซัััะฑัยป!
ะะตัั ะตัะต ั ะฟะพะปัะฐัะฐ ะฑัะพะดะธะป ะฟะพ ะบะฒะฐััะธัะต, ะธะทััะฐั ะบะฐะถะดัั ะผะตะปะพัั, ะบะฐะถะดัะน ะทะฐะบััะพะบ, ะฝะพ ะธะท ัะฐะทะฐ ะฒ ัะฐะท ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปัั ะบ ะณัะฐะฒััะต. ะะพััะฒัะธัั ะฒ ัะพะฝะพัะตะบะต, ะฟะพััะฐะฒะธะป ะฟะปะฐััะธะฝะบั The Doors, ะพัะบััะป ะฑะฐั ะธ ะฒัะฟะธะป ะฟะพะดััะด ััะธ ััะผะบะธ ะบะพะฝััะบั. ะงะตัะตะท ะดะตัััั ะผะธะฝัั ะะตัั ะฒ ะพะฒะตััะตะผ ััะปัะฟะต ะบััะถะธะปัั ะฟะพ ะบะฒะฐััะธัะต, ะฟะพะดะฟะตะฒะฐั ะะพััะธัะพะฝั: ยซIโm a backdoor manยป. ะะฝ ะฝะฐะฑัะฐะป ะดัะดะต ะคะตะดะพัั ะธ ะฟัะตะดะปะพะถะธะป ะตะผั ะฝะฐะบะพะฝะตั ะฟะพะดัะตั
ะฐัั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝัะน โ ะพัะผะพััะตัั ั
ะฐัั ะธ ะทะฐะพะดะฝะพ ะพัะฒะตะดะฐัั ะบะพะฝััะบะฐ (ยซะขะพะปัะบะพ ะบะพะปั ะทะฐั
ะฒะฐัะธ. ะะพัะผะฐะปัะฝัะน ะบะพะฝััะบ ะฑะตะท ะบะพะปั ะฝะต ะฟัััยป). ะะพะบะฐ ะดััะณ ะฑัะป ะฒ ะฟััะธ, ะะตัั ัะตัะธะป ะธััะปะตะดะพะฒะฐัั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะทะฐะณะฐะดะพัะฝัะน ะพัััะพะฒ ะฒ ะบะฒะฐััะธัะต โ ะพััะพะฒัะบะพะต ะฑััะพ. ะะดะฝั ะทะฐ ะดััะณะพะน ะพะฝ ะพัะบััะฒะฐะป ะฟะพะปะบะธ ะธ ะธะทะฒะปะตะบะฐะป ะธั
ัะพะดะตัะถะธะผะพะต. ะกัะพะฟะบะธ ััะฐััั
ัะพัะพะณัะฐัะธะน. ะะฐะบะพะน-ัะพ ะผะปะฐะดะตะฝะตั, ะฝะฐััะฟะธะฒัะธัั, ั
ะผััะพ ัะผะพััะธั ะฒ ะพะฑัะตะบัะธะฒ. ะะพัะพะผ ะผะฐะปััะธะบ ั ะฒัะฑัะธัะพะน ะผะฐะบััะบะพะน ะธ ะดะปะธะฝะฝะพะน ัะตะปะบะพะน ะฒะตัั
ะพะผ ะฝะฐ ะดะตัะตะฒัะฝะฝะพะผ ะบะพะฝะธะบะต. ะะฐ ัะปะตะดัััะตะผ ัะฝะธะผะบะต ัะถะต ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ัะณะฐะดะฐัั ะธ ะดะพะดัะผะฐัั ะฑัะดััะธะต ัะตััั ะพััะฐ. ะะพั ะผะฐะปะตะฝัะบะธะน ะะธัะธะปะป ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธั ะฝะฐ ะพะฑัะตะน ัะบะพะปัะฝะพะน ัะพัะพะณัะฐัะธะธ (ะฟัะธัะตะผ ะฟะพะฝะฐัะฐะปั ะะตัั ะฟัะธะฝัะป ะทะฐ ะฝะตะณะพ ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะณะพ ะฟะฐัะฝั ะธ ะดะฐะถะต ัะพะบะฝัะปัั ั ะฝะธะผ ััะผะบะพะน). ะ ััั ะพัะตั ะฒ ะฐัะผะธะธ, ะฒ ะฟะธะปะพัะบะต ะฝะฐะฑะตะบัะตะฝั, ัะฐัั
ะปัะฑะฐะฝะฝะพ ะพะฑะปะพะบะพัะธะปัั ะพ ะบะพัะฟัั ัะฐะฝะบะฐ. ะ ะทะดะตัั ะพะฝ ั ะปะพะฟะฐัะพะน, ั ะบะพััะฝะบะพะน, ะทะฐะฒัะทะฐะฝะฝะพะน ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒะต ัะทะตะปะบะฐะผะธ, ััะพะธั ะฟะพ ะฟะพัั ะฒ ัะผะต. ะงัะพ-ัะพ ะบะพะฟะฐะตั. ะคะพัะพะณัะฐัะธั ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะบัะฒัะธะฝะฐ, ะผะพะฝะตัั, ัะตัะตะฟะฐ. ะะฐัะตะผ ะฝะฐัะฐะปะธัั ะทะฐัะฒะตัะตะฝะฝัะต ะฟะพะปะฐัะพะธะดะฝัะต ัะฝะธะผะบะธ ะธะท 90-ั
. ะะพั ะพัะตั ะฒ ะบะฐะทะธะฝะพ, ะฟะพัะพะผ ะตัั ั ะบะตะผ-ัะพ ัะฐัะปัะบะธ. ะะฐะบะธะต-ัะพ ะดะตะฒะธัั ะปะธะฟะฝัั ะบ ะฝะตะผั ะฒ ะฝะพัะฝะพะผ ะบะปัะฑะต: ะปะธัะฐ ั ะฒัะตั
ะพัะตะฝั ัะฐะดะพััะฝัะต, ะฝะพ ะณะปะฐะทะฐ ะทะฐะบัััั ะพั ะฒัะฟััะบะธ.
ะะตัั ะฒัะดะฒะธะฝัะป ะดััะณัั ะฟะพะปะบั. ะขะฐะผ, ะฒ ะฑะพะปััะธั ะบะพะฝะฒะตััะฐั ะฑัะปะธ ัะปะพะถะตะฝั ัะฐะทะฝัะต ะทะฐะฟะธัะบะธ, ะฟะธััะผะฐ, ะฝะฐะณัะฐะดั ะทะฐ ะฟะตัะฒัะต ะผะตััะฐ ะฒ ะธััะพัะธัะตัะบะธั ะพะปะธะผะฟะธะฐะดะฐั ะธ ะณัะฐะผะพัั ะทะฐ ััะฐััะธะต ะฒ ะฐัั ะตะพะปะพะณะธัะตัะบะธั ัะบัะฟะตะดะธัะธัั . ยซะะธัััะฐ, ัะทะฝะฐั, ััะพ ัั ัะตะปะพะฒะฐะปัั ั ะะถะพะฒะพะน, โ ะพััะตะถั, ัะฐะผ ะทะฝะฐะตัั ััะพ!ยป ยซะะธัะฐ, ะพััะต ะบัะฟะธะป ะฒ ะะตะฝะณัะธะธ ะดะฒะพะนะฝะธะบ ะะถะธะทะฐั ะัะฐะนัั ะกัะฟะตัััะฐั, ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝ?ยป ะะฐ ะดััะณะพะผ ะบะปะพัะบะต ะฝะตัะฒะฝัะผ ะฟะพัะตัะบะพะผ ะฑัะปะพ ะฝะฐัะฐัะฐะฟะฐะฝะพ: ยซะกัะฐะฒั ะฝะฐ ะฟะธะบะธ, ะะธัะฐ, ะฝะต ััะฟะธ! 150 ะบะพัะฐัะตะนยป. ะะตัั ะฟะตัะตััะป ะฒะตัั ััะพะป: ะฒัะผะฟะตะปั, ะผะตะดะฐะปะธ, ะฐััะตััะฐัั ะธ ะดะธะฟะปะพะผั. ะะฐะบะพะฝะตั ะดะพะฑัะฐะปัั ะดะพ ะฑะปะพะบะฝะพัะพะฒ ะพััะฐ. ะัะฑัะฐะป ะทะฐะฟะธัะฝัั ะบะฝะธะถะบั ะทะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะณะพะด. ะัะบััะป ะฝะฐ ัััะฐะฝะธัะต, ะทะฐะปะพะถะตะฝะฝะพะน ัะตััะผะบะพะน, ะธ ะพะฑะพะผะปะตะป: ะฝะฐะธัะบะพัะพะบ ะบััะฟะฝัะผะธ, ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะพะฑะฒะตะดะตะฝะฝัะผะธ ะฑัะบะฒะฐะผะธ, ะฑัะปะพ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะพ: ยซะะพะทะฒะพะฝะธัั ะะฐัะต ะจะตัะณะธะฝั!!!ยป ะะฐะฟะธัั ะฑัะปะฐ ะดะฒะฐะถะดั ะฟะพะดัะตัะบะฝััะฐ.
ะะตัั ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ะฟัะพะปะธััะฐะป ะทะฐะฟะธัะฝัั ะบะฝะธะถะบั, ะฝะพ ะะฐัะฐ ะจะตัะณะธะฝ ะฑะพะปััะต ะฝะธ ัะฐะทั ะฝะต ัะฟะพะผะธะฝะฐะปัั. ะะฝ ะฒััะฐะป, ัะบะธะฝัะป ััะปัะฟ ะธ ะทะฐั
ะพะดะธะป ะฟะพ ะบะพะผะฝะฐัะต. ะะพัะตะผั ะะฝั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะพ ัะพะผ, ััะพ ะธั
ะพััั ะฑัะปะธ ะทะฝะฐะบะพะผั? ะะปะธ ะพะฝะฐ ัะฐะผะฐ ััะพะณะพ ะฝะต ะทะฝะฐะปะฐ? ะะต ะผะพะถะตั ะฑััั, ััะพะฑั ะฝะต ะทะฝะฐะปะฐ. ะะปะธ ััะพ ะฒะพะพะฑัะต ะพะดะฝะพัะฐะผะธะปะตั ะธ ะบ ะพััั ะะฝะธ ะพะฝ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะพัะฝะพัะตะฝะธั ะฝะต ะธะผะตะตั? ะั, ะตัะต ัะตะณะพ, ะฝะต ะธะผะตะตั! ะะตัั ัะฐะทะพะทะปะธะปัั ะฝะฐ ัะตะฑั ะทะฐ ัะพ, ััะพ ััะพะปัะบะพ ะฒัะฟะธะป ะธ ะณะพะปะพะฒะฐ ะพัะบะฐะทัะฒะฐะปะฐัั ัะฐะฑะพัะฐัั. ะััะฐะฒะฐะปะพัั ะดะพะถะดะฐัััั ะคะตะดั, ะธ ะฟะพะบะฐ ะพะฝ ะฝะต ะฒััะบะฐะถะตั ัะฒะพะธั
ะดะพะณะฐะดะพะบ ะพะฑะพ ะฒัะต ััะพะผ, ะบะพะฝััะบะฐ ะตะผั ะฝะต ะดะฐะฒะฐัั.
ะะตัั ะตัะต ัะฐะท ัะฐััะผะพััะตะป ะทะฐะฟะธัั ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพัะต. ยซะะพะทะฒะพะฝะธัั ะะฐัะต ะจะตัะณะธะฝั!!!ยป. ะัะตะดััะฐะฒะธะป ัะตะฑั ะดะตัะตะบัะธะฒะพะผ: ััะพ ัััะฐะฝะฝะพะณะพ ะพะฝ ัะผะพะณ ะฑั ะทะฐะผะตัะธัั ะฒ ััะพะน ััะฐะทะต? ยซะะฐ ะฒัั ััั ัััะฐะฝะฝะพะต!ยป โ ัะฐะผ ัะตะฑะต ะพัะฒะตัะธะป ะะตัั. ะั ะดะฐ, ะฝะต ยซะะฐะฒะตะปยป, ะฐ ะธะผะตะฝะฝะพ ััะพ ยซะะฐัะฐยป. ะะฝะฐัะธั, ะทะฝะฐะบะพะผััะฒะพ ะดะปะธัะตะปัะฝะพะต ะธ, ััะดั ะฟะพ ะฒัะตะผั, ะฒ ะฟัะพัะปะพะผ ะพัะฝะพัะตะฝะธั ะฑัะปะธ ะฟัะธััะตะปััะบะธะต. ะงัะพ ะตัะต? ะะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะพะฑะฒะตะดะตะฝะฝัะต ะฑัะบะฒั. ะะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต, ะผะพะถะตั ะฟะพะบะฐะทะฐัััั, ััะพ ะพัะตั ะพะฑะฒัะป ะธั
ะฝะต ะดะปั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ะพัะผะตัะธัั ะธั
ะฒะฐะถะฝะพััั, ะฐ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะดะตะปะฐะป ััะพ ะฝะฐ ะฐะฒัะพะผะฐัะต, ะดัะผะฐั ัะถะต ัะพะฒัะตะผ ะพ ะดััะณะพะผ. ะ ััะผ? ะััะปั ะะตัะธ ะดะฐะปััะต ะฝะต ัะปะฐ.
ะัั, ะฒัั ะฑัะปะพ ัััะฐะฝะฝะพ! ะะฐะบะพะฝะตั ะดะพะผะพัะพะฝ ะทะฐะปะธะปัั ััะตะปัั. ะญัะพ ะฑัะป ะคะตะดั.
— ะะพะดะฝะธะผะฐะนัั, ัะบะฐะถะธ ะบ ััะฝั ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ.
ะ ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท ะะตัั ะพัะบััะฒะฐะป ะณะพััั ะดะฒะตัั ัะฒะพะตะน ะบะฒะฐััะธัั. ะ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ะฒ ััะพั ะผะพะผะตะฝั ะพะฝ ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ะพัะพะทะฝะฐะป, ััะพ ััะพ ะตะณะพ ะดะพะผ; ััะพ ััะพ ะฝะต ัััะบะฐ ะธ ะฝะต ัะพะทัะณััั.
-ะั, ั ัะตะฑั ะพั ัะฐะฝะฐ ะถะตััะบะฐั ััั, ะฑะปะธะฝ.
-ะคะตะดั, ััั ัะฐะบะพะต ะดะตะปะพ! ะะต ะฟะพะฒะตัะธัั!
-ะฅะพัั ะฒะฟัััะธ ั ะพัะพะผั ะฟะพัะผะพััะตัั.
-ะะฐ ะทะฐั ะพะดะธ, ะบะพะฝะตัะฝะพ.
ะัะดั ะคัะดะพั ะฟะตัะตัััะฟะธะป ะฟะพัะพะณ ะธ, ะพะบะฐะทะฐะฒัะธัั ะฒ ะบะพัะธะดะพัะต, ะฑะตััััะฐััะฝะพ ะฟัะพะธะทะฝัั ะฟะพ ัะปะพะณะฐะผ:
-ะ.ะฅัะต.ะะตัั.
-ะขั ะฟะพะฝะธะผะฐะตััโฆ
-ะะพะฝะธะผะฐั. ะญัะพ ะถ, ะฑะปะธะฝ, ะฒะฐัะต.
-ะะตั, ั ะฝะต ะฟัะพ ััะพ!
-ะั ะฝะธ ั ัะตะฝะฐ ะถ ัะตะฑะต! โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั ะธ ะดะฐะถะต ะทะฐัะผะตัะปัั. ะขะฐะบะพะน ัะพัะบะพัะธ ะพะฝ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะพะถะธะดะฐะป.
ะะพะบะฐ ะคะตะดั ะพัะผะฐััะธะฒะฐะป ะบะพะผะฝะฐัั, ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฟััะฐะฝะฝะพ ะฟะตัะตัะบะฐะทัะฒะฐะป ะตะผั ัััั ะฟะพัะปะตะดะฝะธั ะพัะบัััะธะน.
-ะญัะพ ะถะต ัะตะฐะปัะฝัะต ะดะพัะฟะตั ะธ!
-ะะพ ั ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐั, ะฟัะธัะตะผ ััั ะพัะตั ะะฝะธ!
-ะััะฐััะบะธะต ัะฐะฑะปะธ! ะะฐะน ัััะป, ั ะพัั ะฟะพะดะตัะถะฐัั ะฒ ััะบะฐั !
-ะะฐ ะฟะพะดะพะถะดะธ! ะะปะธะฝ! ะญัะพ ะถะต ะฒัั ะฒะทะฐะธะผะพัะฒัะทะฐะฝะพ.
-ะะฐั! ะะธะฒะตะฝั ะผะฐะผะพะฝัะฐ! ะขะตะฑะต ััะดะฐ ะฑะธะปะตัั ะฝะฐะดะพ ะฟัะพะดะฐะฒะฐัั.
-ะกะปะพะฝะฐ! ะคะตะดั. ะะพะดะพะถะดะธ ัั.
-ะะตัะธ ััะผะบะธ. ะัะพ ะพะฑะตัะฐะป ะดะฐัั ะฑัั ะฝััั? โ ะดัะดั ะคัะดะพั ะพััะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐะปัั ะฟะตัะตะด ะบะฐะถะดัะผ ะฟัะตะดะผะตัะพะผ, ััะพะฑั ัะดะตะปะฐัั ัะตะปัะธ.
-ะะพัะผะพััะธ ะฝะฐ ััั ะณัะฐะฒััั! ะะพัะผะพััะธ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ!
ะคะตะดั, ะฝะฐั ะผััะธะฒัะธัั, ะฒะณะปัะดะตะปัั ะฒ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะธ ะฒะดััะณ ัะฐัะฟะปัะปัั ะฒ ัะปัะฑะบะต:
-ะั ะฐั ะฐั ะฐ! ะขะพัะฝะพ, ะผัะถะธะบ ั ััะฐะผะธ โ ะฒัะปะธััะน ะดัะดั ะกะฐัะฐ!
-ะะฐ ะฝะตั! ะขั ะฟะพัะผะพััะธ ะฝะฐ ัะตัะบะพะฒั! ะั ะธ ะฒะพะพะฑัะต, ััะพ ััั ะธ ะบะฐะบ!
-ะ! ะะพะดะพะถะดะธ-ะบะฐโฆ ะคะธะณะฐัะต! ะญัะพ ะถะต ะฝะฐ ะผะตััะต ะฝะฐัะตะน ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป. ะขะพัะฝะพ, ัะตัะบะพะฒั ะขัะพัะธะผะฐ. ะัััะพ. ะะพะพะฑัะต ะฒัั ะฟะพ-ะดััะณะพะผั.
-ะขั ะฒะพะพะฑัะต ะผะตะฝั ะฝะต ัะปััะธัั. ะะพะนะดะตะผ ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั, ั ัะตะฑะต ะตัั ัะฐะท ะฒัั ัะฐััะบะฐะถั.
-ะะปะธะฝ… ะัะพััะพ ะผัะทะตะน ั ัะตะฑั ััั ะบะฐะบะพะน-ัะพโฆ
ะััะทัั ะทะฐัะปะธ ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั, ะณะดะต ััะพัะปะพ ะฑััะพ.
-ะะะะ, ะะะะะ! ะ ัั ั ัะตะฑั ะฟะปะฐััะธะฝะบะฐ ััะผะธั? ะะตัะตะฒะตัะฝะธ.
ะะตัั ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะป, ััะพ ะฟะปะฐััะธะฝะบะฐ ัะถะต ัะฐั ะบะฐะบ ะฒั ะพะปะพัััั ัะธะฟะตะปะฐ ะฝะฐ ะฟัะพะธะณััะฒะฐัะตะปะต.
-ะะฐ ั ัะตะฝ ั ะฝะตะน! ะ ะพะฑัะตะผ, ััะพ-ัะพ ััั ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะปะฐะดะฝะพ ั ะพััะพะผ ะจะตัะณะธะฝะพะน.
-ะั ััะพ ะผั ัะถะต ะฒัะต ะธ ัะฐะบ ะดะฐะฒะฝะพ ะฑะตะท ัะตะฑั ะฟะพะฝัะปะธ.
-ะะตั!! ะะพะน ะพัะตั ะตะณะพ ะทะฝะฐะป!
-ะั ะฝะฐ ัะพะดะธัะตะปััะบะธั ัะพะฑัะฐะฝะธัั , ัะฐะทัะผะตะตััั, ะผะพะณ ะฒัััะตัะฐัััั.
-ะะฐ ะบะฐะบะธะต ัะพะฑัะฐะฝะธั, ะะพัะพั ะพะฒ! ะะปะธะฝ! ะฏ ะพััะฐ ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท ัะฒะธะดะตะป ะทะฐ ะฟััั ะผะธะฝัั ะดะพ ะตะณะพ ัะผะตััะธ.
-ะ, ะฝั ะดะฐ. ะัะพััะธ, ะทะฐะฑัะปโฆ
-ะ ะพะฑัะตะผ, ััั ะบะฐะบะฐั-ัะพ ัะฐะนะฝะฐ.
ะคะตะดั ะดะตะปะฐะฝะฝะพ ะฟัะธะฒััะฝะพ ะฒัะดะพั ะฝัะป, ะพะฟัะพะบะธะฝัะป ััะผะบั ะธ ัะบัะธะฒะธะปัั:
-ะฏ ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ ัะตะฑั ะฟะพะฝัะป, ััะพ ัะฝะพั ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป, ััะฐ ะบะฐััะธะฝะบะฐ ั ัะตัะบะพะฒัั, ัะฒะพะน ะฟะฐะฟะฐัะฐ ะธ ะฟะฐะฟะฐัะฐ ะจะตัะณะธะฝะพะนโฆ ััะพ ะฒัั ััะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฒะทะฐะธะผะพัะฒัะทะฐะฝะพ?
-ะะผะตะฝะฝะพ.
ะคะตะดั ะฒััะตั ัะปัะทั, ะฝะฐะฒะตัะฝัะฒัะธะตัั ะฟะพัะปะต ััะผะบะธ, ัะดะตะปะฐะป ะฑะพะปััะพะน ะณะปะพัะพะบ ะบะพะปั ะธ ัะฟัะพัะธะป ะดััะณะฐ:
-ะ, ะบััะฐัะธ, ะพั ัะตะณะพ ัะฒะพะน ะพัะตั ัะผะตั?
-ะ ัะผััะปะต?
-ะะฐ ัะฐะบ. ะัะธััะตะปั, ั ัะตะฑั ะบะฒะฐััะธัะฐ ะฝะต ะฟัะพัะปััะธะฒะฐะตััั?
-ะะฐ ะฝะตั, ะฒัะพะดะต. ะะต ะทะฐะผะตัะฐะป.
-ะ ะพะฑัะตะผ, ะฒะปะธะฟะปะธ ะผั ั ัะพะฑะพะน, ะะตััััะฐ, ะฒ ะธััะพัะธั. ะัะดะตะผ ะฒัะบะฐัะฐะฑะบะธะฒะฐัััั. ะะฝะต ะฝัะถะฝะพ ัะฒัะทะฐัั ะฒัะต ะฝะธัะพัะบะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั, ะผะฝะพะณะพะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพัะธัะฐั ะฟะตัะตะฝะพัะธัั, ั ะพัั ะพัะบะธ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฝะพัะธะป. โ ะฏัะฝะพ ะพะดะฝะพ: ััะพ ะฒะพะฟัะพั ะฑะพะปััะธั ะดะตะฝะตะณ ะธ ะตัะต ะฑะพะปััะตะณะพ ััะตัะปะฐะฒะธั.
-??
-ะะต ััั. ะัะดะตะผ ัะฐะทะฑะธัะฐัััั.
ะะปะฐะฒะฐ 4. ะญะดัะฐัะด ะะตัะบะธะฝ. ะ ะฐะทะณะพะฒะพั ะฝะฐ ะะฐะปะฐัะตะฒะบะต


โ Rakhmetoff, really!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฑััััะพ ััะพัะพะณัะฐัะธัะพะฒะฐะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะทะฐะผะตััะตะณะพ ั ะณะธััะผะธ ะฒ ะฟะพะทะต ะบะปะฐััะธัะตัะบะพะณะพ ัะธัะบะพะฒะพะณะพ ะฐัะปะตัะฐ.
โ ะฏ, ะฒ ัะผััะปะต, ััะพ ะพะฝ ัะพะถะต ะฝะต ะตะป ะฐะฟะตะปััะธะฝะพะฒ, โ ะฟะพััะฝะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ ะธ ััะพัะพะณัะฐัะธัะพะฒะฐะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ััะฐัะตะปัะฝะตะต.
ะัะฑะพัะบะธะน ััะพะฝะธะป ะณะธัะธ, ะฑะปะฐะณะพะฒะพัะฟะธัะฐะฝะฝะพ ะพััะฐะฝะพะฒะธะป ะธั
ะฟะฐะดะตะฝะธะต ะฒ ัะฐะฝัะธะผะตััะต ะพั ะฟะพะปะฐ ะธ ะพััะพัะพะถะฝะพ ัััะฐะฝะพะฒะธะป ะฝะฐ ัะฐะผะพะดะตะปัะฝัะน ะดะตัะตะฒัะฝะฝัะน ะฟะพะผะพัั.
โ ะฃ ะผะตะฝั ะฟัะพััะพ ะฝะฐ ัะธััััะพะฒัะต ะฐะปะปะตัะณะธั, โ ะฟะพััะฝะธะป ะัะฑะพัะบะธะน, ะฟะพัะธัะฐั ะทะฐะฟััััั. โ ะ ัั ะพัะบัะดะฐ ะฟัะพ ะ ะฐั
ะผะตัะพะฒะฐ ะทะฝะฐะตัั?
โ ะะฐะณะตัั ะธะฝัะตะปะปะตะบััะฐะปัะฝะพะณะพ ัะตะทะตัะฒะฐ, ะปะธัะตัะฐัััะฝะฐั ัะผะตะฝะฐ, ะพัััะด ะธะผะตะฝะธ ะะตัะถะฐะฒะธะฝะฐ, โ ะทะตะฒะฝัะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ยซะงัะพ ะดะตะปะฐัั?ยป, ยซะะฐะบ ะทะฐะบะฐะปัะปะฐััยป, ยซะ ะฒ ะณัะพะฑ ัั
ะพะดั…ยป, ะฝั ะธ ะฒะพะพะฑัะต, ัะฟะปะพัะฝะพะน ะฑะตัะพะฝ ะธ ะถะตะปะตะทะพะฑะตัะพะฝ, ะฒะตัั ะฐะฒะณััั ะผะธะผะพโฆ ะ ะผะฐััะตั ััั
ะปะพ ะบะพัะฟะปะตะธะป ะะฐััะตัะฐโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะพััััะฐะฝะตะฝะฝะพ ั
ะธั
ะธะบะฝัะปะฐ. ะัะฑะพัะบะธะน ะพะฟัััะธะป ััะบะธ ะฒ ะพะปะพะฒัะฝะฝัะน ัะฐะทะธะบ, ะพะฑะธะปัะฝะพ ะฒัะฟัะปะธะป ะผะฐะณะฝะตะทะธั, ัะฐััะตั ะผะตะถะดั ะฟะฐะปััะฐะผะธ, ะฟะพั
ะปะพะฟะฐะป ะฒ ะปะฐะดะพัะธ, ะฟัะธะฝัะปัั ะฒัะฐัะฐัั ะฟะปะตัะฐะผะธ, ัะฐะทะผะธะฝะฐั ะฟะตัะตะดะฝะธะต ะธ ััะตะดะฝะธะต ะดะตะปััั.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฒัััะฝัะปะฐ ะฝะพะณะธ ะธ ะฟะพััะฐะฒะธะปะฐ ะธั
ะฝะฐ ััะฐััะน ัะตะปะตะฒะธะทะพั.
โ ะะฝะฐะตัั, ัะฐะบะพะน ะผัะถะธัะพัะตะบ, ะปะตั ััะธะดัะฐัะธ, โ ะฑัะตะทะณะปะธะฒะพ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะะพะปะพัะตะฝะบะธ, ััะฐะฝะธัะบะธ ัะทะบะธะต, ะฑะพัะพะดะตะฝะบะฐ ะบะฐัะฐัะตะผ, ั
ะธะฟััะพัะฐ ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ะธ ัะฐะฟะพัะบะฐ ั ะฑัะบะพะฒะบะพะนโฆ
โ ะะตัะถะตะปะธ ยซะยป?
โ ะะต, ยซWยป, ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ยซWriterยป. ะขะฐะบ ะพะฝ ััั ัะฐะฟะพัะบั ะฟะพััะธัะฐะป, ะฒัะฒะตัะฝัะป ะธ ัะปััะฐะนะฝะพ ะฝะฐะดะตะป, ะบะฐะบ? ะะพะปะพะฒะฐ ะบััะณะพะผ ะพั ััะธั
ัะฐะทะฝะพัะธะฝัะตะฒโฆ
โ ะะฐ ัะถโฆ
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะดะฟััะณะฝัะป, ะปะตะณะบะพ ะฟะพะฒะธั ะฝะฐ ะฟะตัะตะบะปะฐะดะธะฝะต. ะะตะนะฝะตะฝ ัะธั
ะฝัะปะฐ.
โ ะ ัั ะทะฐัะตะผ ััะดะฐ ะตะทะดะธะปะฐ? โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะดััะฝัะปัั. โ ะขั ะถะต ะฒัะพะดะต ะฟะตัะตะดัะผะฐะปะฐ ะฒ ะฟะธัะฐัะตะปะธ?
โ ะะต ะฟะตัะตะดัะผะฐะปะฐ. ะะพัะพะผ, ัะฐะผ ะฒัะต ัะถะต ะฑัะปะธโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะดะพััะฐะปะฐ ะธะท ััะผะพัะบะธ ะฑะปะพะบะฝะพั ั ะะพะฝัะบะพะผ-ะะพัะฑัะฝะบะพะผ ะฝะฐ ะพะฑะปะพะถะบะต ะธ ะธะทะณััะทะฐะฝะฝัะน ะพัะฐะฝะถะตะฒัะน ะบะฐัะฐะฝะดะฐั.
โ ะฃ ะผะตะฝั ะพะฑะพัััะธะปัั ะบัะธะทะธั ะธะดะตะฝัะธัะฝะพััะธ, โ ะฟะพััะฝะธะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะะพ ัะตะฟะตัั ั ะธะทะปะตัะธะปะฐัั ะฑะตัะตะทะพะฒะพะน ะฟะพัะบะพะน.
โ ะ-ะบะฐัะฝะธัะธะฝ ัะพะถะต ะฟะพะผะพะณะฐะตั, โ ะทะฐะผะตัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะ-ะบะฐัะฝะธัะธะฝ ะธ ะบัะพัััะธั โ ะธ ะฒัะต ะบัะธะทะธััโฆ ะพััััะฟัั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะผัะณะบะพ, ั ะปะตะณะบะธะผ ั ัััะตะฒัะผ ั ััััะพะผ ะฒ ะปะตะฒะพะผ ะปะพะบัะต ะฟะพะดััะณะธะฒะฐัััั. ะะตะนะฝะตะฝ ัะธะดะตะปะฐ ะฒ ะบัะตัะปะต, ะปะธััะฐะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพั.
โ ะะพะตะน ะผะฐะผะต ะฟะพะผะพะณะปะธ ะฟะธัะฒะบะธ. ะะฝะฐะตัั, ัะฐะผ ะฝะฐ ัะณะปั ั ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะผ ะพัะบััะปะธ ััะดะตัะฝะพะต ะฟะธัะฒะพัะฝะพะต ะฑััะพโฆ
โ ะะผะตะฝะธ ะัััะผะฐัะฐ, โ ะฝะต ัะดะตัะถะฐะปัั ะัะฑะพัะบะธะน.
ะะธะทะฐ ะฟะพะณะปัะดะตะปะฐ ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฟะพัะธัะฐัะตะปัะฝะพ, ะฒััะบัั ะฟะพัะปะพััั ะพะฝะฐ ะฝะต ะฟะตัะตะฝะพัะธะปะฐ ั ะดะตัััะฒะฐ.
โ ะ ะฟะธัะฒะบะฐั
โ ะณะธััะดะธะฝ, โ ะฟะพะฟััะฐะปัั ะธัะฟัะฐะฒะธัััั ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ะฟะพะดััะฝัะปัั ะตัะต ัะฐะท.
โ ะั ะดะฐโฆ ะ ัั ัะปััะฐะป, ััะพ ะฒ ะฒะพัะตะผะฝะฐะดัะฐัะพะผ ะดะพะผะต ะธััะตะทะปะธ ะดะฒะต ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะบะธ?
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะผะพัะฐะป ะณะพะปะพะฒะพะน, ะฟะพะดััะฝัะปัั.
โ ะะฐ, ะธััะตะทะปะธ, โ ะฟะพะดัะฒะตัะดะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะกัะตะดั ะฑะตะปะฐ ะดะฝั ะดะฒะต ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะบะธ. ะกะปะพะฒะฝะพ ัะฐััะฒะพัะธะปะธััโฆะััะผะพ ะบะฐะบ ั ะขะฐัะบะพะฒัะบะพะณะพ ะฒ ยซะะตัะบะฐะปะตยป, ะฟะพะผะฝะธัั?
ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะผะตั ะฒ ะฝะตะณะฐัะธะฒะฝะพะน ัะฐะทะต ะดะฒะธะถะตะฝะธั, ะฟััะฐััั ะฒัะฟะพะผะฝะธัั ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะพะบ ะขะฐัะบะพะฒัะบะพะณะพ. ะะตะนะฝะตะฝ ัะฝะพะฒะฐ ัะธั ะฝัะปะฐ.
โ ะะฐะบ ะฒ ะธัะฝะต ัะพะฟะปะธั, ะฐะปะปะตัะณะธะธ ะผะฝะต ะฝะต ั ะฒะฐัะฐะปะพ, ััะพ ะทะฐ ะฟะพะณะพะดะฐโฆ ะ ะพะผะฐะฝ, ััะพ ะปะธ, ะฝะฐะฟะธัะฐััโฆ
ะะพะณะพะดะฐ ะดะตัะถะฐะปะฐัั ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะฐั, ะฑะฐะฑัะต ะปะตัะพ ะทะฐะฑะปัะดะธะปะพัั ะฒ ััะฐััั ะผะพัะบะพะฒัะบะธั ะฟะตัะตัะปะบะฐั , ะฟะพั ะพะถะต, ะฝะฐะดะพะปะณะพ, ะฒะพะดะฐ ะฒ ัะตะบะต ะทะฐัะฒะตะปะฐ ะธ ััะฐะปะฐ ะธะทัะผััะดะฝะพะน, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะผะฝะพะณะธะต ะณัะตัะธะปะธ ะฝะฐ ะธัะปะฐะฝะดัะตะฒ.
โ ะฏ ะดัะผะฐั, ััะพ ะฒัะต ะจะตัะณะธะฝ-ััะฐััะธะน, โ ะะตะนะฝะตะฝ ะฒััะผะพัะบะฐะปะฐัั ะฒ ะฟะปะฐัะพะบ. โ ะะณะพ ะผััะฐะฝัััะฒะพ.
โ ะะพั
ะธัะฐะตั ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะพะบ?
โ ะั, ะทะฐัะตะผ ะฟะพั
ะธัะฐะตั? ะัะพััะพ ะดะตะฝะตะณ ะธะผ ะดะฐะป ะธ ะฒัะฒะตะท ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะพ.
โ ะ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต โ ะฟัะธัะตะปััั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.
ะ ะฟะพะดััะฝัะปัั.
โ ะ ะฒัะต ะดัะผะฐัั, ััะพ ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะบะธ ะธััะตะทะปะธ, ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ัะฐะผ ะฟะพััะฐะปโฆ
ะะฐ ะฟะพััะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะต ะฝะฐัะตะป ััะพ ัะบะฐะทะฐัั, ะฒัะฟะพะผะฝะธะป ะฟัะพ ะพััะฐ ะธ ะะพัััะปัะณะธ, ะฟะพะดััะฝัะปัั ะผะพะปัะฐ.
โ ะ ััะพะฑั ะฝะตะดะฒะธะถะธะผะพััั ะฟะพะดะตัะตะฒะตะปะฐ, ะจะตัะณะธะฝ ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝัะตั ัะปัั
ะธ, โ ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพัะตัะฐะปะฐ ะปะพะฑ ะบะฐัะฐะฝะดะฐัะพะผ. โ ะะตะฝัะธะพะฝะตัะบะธ ะฟัะพะฟะฐะดะฐัั โ ััะพ ัะฐะท. ะะตะบะพัะพััะต ัะปััะฐั ะฒะพั ัะฐะบะพะน ะทะปะพะฒะตัะธะน ะทะฒัะบโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะฒัััะฝัะปะฐ ะณัะฑั ัะฒะธััะบะพะผ ะธ ะฟัะพััะถะฝะพ ะฟะพะณัะดะตะปะฐ. ะะฐ ะฑะฐะปะบะพะฝ ะฒะพัะฒะฐะปัั ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ะฒััะฒะธััะฐะฝะฝัะน ะะธะทะพะน ะฒะตัะตั, ะบะพะปัั
ะฝัะป ะพัะณะฐะฝะทั ััะพั, ะฒะทะฑะพะปัะฐะป ะผะฐะณะฝะตะทะธั ะธ ะถะตะปะตะทะพ, ะะธะทะฐ ัะธั
ะฝัะปะฐ ะฒ ััะตัะธะน ัะฐะท.
โ โฆััะพ ะดะฒะฐ. ะะตะบะพัะพััะผ ะทะฒะพะฝัั ะฒ ะดะฒะตัั, ัะตะปะพะฒะตะบ ะพัะบััะฒะฐะตั, ะฐ ัะฐะผ ะฟัััะพัะฐโฆ
โ ะะฝะต ัะฐะบ ะทะฒะพะฝะธะปะธ, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะฏ ะพัะบััะป โ ะฐ ัะฐะผ ะฟัััะพัะฐ.
โ ะ ะฝะฐ ัะตัะดะฐะบะฐั
ะบะฐะผะตะฝะฝะฐั ะฟะปะตัะตะฝั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะตะดะฒะฐ ะฝะต ัะพัะฒะฐะปัั ั ัััะฝะธะบะฐ ัะธัะผั ยซะฅะฒะฐั ะธ ะะพยป, ะฟะพััะฐะฒัะธะบะฐ ะธะฝะฒะตะฝัะฐัั ะดะปั ะฟะพะฝะธะผะฐััะธั ะฐัะปะตัะพะฒ.
โ ะะฐะผะตะฝะฝะฐั ะฟะปะตัะตะฝั? โ ััะพัะฝะธะป ะพะฝ.
โ ะั ะดะฐ. ะะฐะผะฝะตะตะดะฐ. ะะฝะฐ ะตัั ะบะธัะฟะธัะธ, ะฟัะตะฒัะฐัะฐั ะธั
ะฒ ะฟัะฐั
.
ะะตะนะฝะตะฝ ะดะพััะฐะปะฐ ัะตะปะตัะพะฝ, ะฑััััะพ ัะฒะตัะธะปะฐัั.
โ ะะฐ, ะตััั ัะฐะบะฐั. ะัะปะธ ะฒ ะดะพะผะฐั
ะทะฐะฒะพะดะธััั ัะฐะบะฐั ะฟะปะตัะตะฝั, ัะพ ะฒัะต โ ะฝะตะดะฒะธะถะธะผะพััั ะบะฐัะฐัััะพัะธัะตัะบะธ ะดะตัะตะฒะตะตั. ะกะบัะฟะฐะน โ ะฝะต ั
ะพัั.
โ ะะพะถะฐะปัะนโฆ
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะฒะธั ะฝะฐ ะปะตะฒะพะน ััะบะต, ะพัะดัั ะฐั ะธ ัะฐะทะผััะปัั ะพ ะฝะตัะพะผะฝะตะฝะฝัั ะฟัะตะธะผััะตััะฒะฐั ยซะผะตะบัะธะบะฐะฝะบะธยป, ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะพ ัะฐะทะฝะพัะธะฝัะฐั , ะพ ะจะตัะณะธะฝะต ะธ ะพ ะฟะปะตัะตะฝะธ.
โ ะจะตัะณะธะฝ ะฒัะฒะพะดะธั ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะพะบ ัะตัะตะท ะฟะพััะฐะป, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน, ะฟะตัะตะบะธะฝัะฒัะธัั ะฝะฐ ะฟัะฐะฒัั. โ ะงะตัะตะท ะฟะพััะฐะปโฆ ะ ะงะตััะฐะฝะพะฒะพ. ะขะฐะบ?
โ ะะฝ โ ะงะธัะธะบะพะฒ!
ะะตะนะฝะตะฝ, ัะธะดััะฐั ะฝะฐ ะฟะพะดะปะพะบะพัะฝะธะบะต ะผะพะฝัะผะตะฝัะฐะปัะฝะพะณะพ ะฒะธัะฝะตะฒะพะณะพ ะบัะตัะปะฐ, ัะฒะตัะทะธะปะฐัั ะพั ะฒะพััะพัะณะฐ ะฝะฐ ะฟะพะป. ะะต ะฟะพะดะฝะธะผะฐััั, ะฟัะธะฝัะปะฐัั ะฑััััะพ ะฟะธัะฐัั ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพั, ัะฝะตัะณะธัะฝะพ ะฟะธะฝะฐั ะฟััะบะพะน ััะณัะฝะฝัั ะดะฒัั
ะฟัะดะพะฒัั ะณะธัั.
ะะท ะผะตะฑะตะปะธ ะฒ ะบะพะผะฝะฐัะต ะธะผะตะปะพัั ะปะธัั ะบัะตัะปะพ, ััะฐัะธะฝะฝะพะต, ะบัะฐัะฝะพะน ะบะพะถะธ, ะธ ัะตะปะตะฒะธะทะพั, ัะพะถะต ััะฐัะธะฝะฝัะน, ะฒัะต ะพััะฐะปัะฝะพะต ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะพ ะทะฐะฝะธะผะฐะปะฐ ัะฟะพััะธะฒะฝะฐั ะบะพะปะปะตะบัะธั ะัะฑะพัะบะพะณะพ: ััะฐะฝะณะธ, ัะฒะตะดัะบะธะต ััะตะฝะบะธ, ะฑัะปะฐะฒั, ัะตะฟะธ, ะบะพะปะพัะฝะธะบะธ, ะบัะฒะฐะปะดั ะธ ะบะพะปะตัะฝัะต ะฟะฐัั ะฒะฐะณะพะฝะตัะพะบ, ััะฐะปัะฝัะต ัะธัะบะพะฒัะต ัะฐัั ะธ ัะฐะทะฝะพะฒะตัะฝัะต ะบัะฟะตัะตัะบะธะต ะณะธัะธ, ะพะดะฝั ะธะท ะบะพัะพััั
ัะฝะตัะณะธัะฝะพะน ะฟััะบะพะน ะฟะธะฝะฐะปะฐ ะฒ ัะพั ะฟะพะณะพะถะธะน ัะตะฝััะฑัััะบะธะน ะดะตะฝั ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
ะะฝะพะณะดะฐ, ะฒะธะดะธะผะพ, ะฒ ัะฐะณ ั ะผััะปัะผะธ, ะะธะทะฐ ะพัััะฒะฐะปะฐัั ะพั ะทะฐะฟะธัะตะน ะธ ัะผะพััะตะปะฐ ะฒ ะฟะพัะพะปะพะบ ั ะฒะธะดะพะผ ะฝะฐััะพะปัะบะพ ะธะทัะผะปะตะฝะฝัะผ, ััะพ ะัะฑะพัะบะธะน, ะฟัะพะดะพะปะถะฐะฒัะธะน ะฒะธัะตัั ะฝะฐ ัััะฝะธะบะต, ะพะฟะฐัะฐะปัั, ััะพ ะพะฝะฐ ะผะพะถะตั ัะบััะธัั ัะตะฑั ะทะฐ ััะบั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะพะทะพะฑะฝะพะฒะธะป ะฟะพะดััะณะธะฒะฐะฝะธะต ะธ ัะดะตะปะฐะป ัะตัััะต ะฟะพะดัะตะผะฐ.
โ ะงะธัะธะบะพะฒ ะฝะต ะจะตัะณะธะฝ, โ ะะตะนะฝะตะฝ ะพัะพัะฒะฐะปะฐัั ะพั ัะฐะทะดัะผะธะน. โ ะงะธัะธะบะพะฒ โ ัะฐะผะฐ ะจะตัะณะฐ!
โ ะะพัะตะผั? โ ัะฟัะพัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะญัะพ ะถะต ััะฝะพ โ ะพะฝะฐ ะปะตัะธะปะฐัั ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะธะทะฐ.
ะัะฑะพัะบะธะน ั ะพัะตะป ะฟะพัะตัะฐัั ะณะพะปะพะฒั, ะฝะพ ะฑัะปะธ ะทะฐะฝััั ััะบะธ.
โ ะะฐ ะปะฐะดะฝะพ, ััะพ ะถะต ะฒัะต ะทะฝะฐัั, โ ะะตะนะฝะตะฝ ะฟัะธะฝัะปะฐัั ะพะฑะผะฐั ะธะฒะฐัััั ะะพะฝัะบะพะผ-ะะพัะฑัะฝะบะพะผ. โ ะกะธะทัะน ะดะฐะฒะฝะพ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะป, ะตะณะพ ะฟะฐะฟะตะฝัะบะฐ ะฟัะพะฑะธะฒะฐะป, ะฐ ัั ะฒัะต ะผะธะผะพ. ะะฝะฐ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธั ัะตั ะฐะปะฐ ะฒ ะฒะพัะตะผั ะปะตั, ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะบะปะฐัั ั ะพะดะธะปะฐ. ะ ะฟัะธะตั ะฐะปะฐ โ ัะพะถะต ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะบะปะฐัั ะฟะพัะปะฐ, ัะพะถะต ะฒ ะฒะพัะตะผั ะปะตั. ะะดะต ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ?!
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป ัััะฐะปะพััั ะฒ ะฟัะตะดะฟะปะตัััั .
โ ะะพั ะธ ัะฐัััะถะดะฐะน. ะงัะพ ะพะฝะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะดะตะปะฐะปะฐ?
โ ะะตัะธะปะฐัั? โ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธะป ะะฝะดัะตะน.
โ ะะฐ ะพะฝะฐ ะทะดะพัะพะฒะฐั, ะบะฐะบ ะทะตะฑัะฐ! ะะตัะธะปะฐััโฆ ะะทะฒะตััะฝะพ, ะณะดะต ะพะฝะฐ ะปะตัะธะปะฐัั!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพัะตะปะบะฐะปะฐ ะทัะฑะฐะผะธ.
โ ะ ััะพ? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะฐะบ ััะพ? ะฏ ะถะต ะณะพะฒะพัั โ ััะพ ะฒัะต ะพะฝะฐ! ะะฝะฐ ัะฒะพะตะผั ะฟะฐะฟะพัะบะต ะฒ ััะธ ะฟะพะตั โ ะดะฐะฒะฐะน ัะฝะตัะตะผ ะะฐะปะฐัะตะฒะบั, ะดะฐะฒะฐะน ัะฝะตัะตะผ, ะฐ ั ะฒัะตั
ัะณะพะฒะพัั ััะตั
ะฐัั ะฒ ะะธะฑะธัะตะฒะพ!
ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะผะตั. ะะพะดััะณะธะฒะฐัััั ะธ ะดัะผะฐัั ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะฑัะปะพ ะฝะตะปะตะณะบะพ.
โ ะะฝะฐ ะฒัะพะดะต ะฝะต ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะฐ, โ ะทะฐะผะตัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพัะปะต ะฟะฐัะทั.
โ ะญัะพ ัะตะฑะต ัะฐะบ ะบะฐะถะตััั. ะั
, ั ะฝะต ะฟัะธ ะดะตะปะฐั
, ะฐั
, ััะพ ะผะพะน ะฟะฐะฟะฐ, ะฐ ัะฐะผะฐโฆ ะฐ ัะฐะผะฐโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ.
โ ะ ะบะฐะบ ะถะต ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะบะธ? โ ัะฟัะพัะธะป ะพััะพัะพะถะฝะพ ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะฐะบ ะถะต ะฟะปะตัะตะฝั?
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะผะตัะปะฐ, ะทะฐะดัะผะฐะฒัะธัั, ะฐ ะฟะพัะพะผ ั
ะปะพะฟะฝัะปะฐ ัะตะฑั ะฑะปะพะบะฝะพัะพะผ ะฟะพ ะปะฑั.
โ ะะต ะฟะพะดะผะตะฝะธะปะธ!
ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะผะตั ะฝะฐ ะฟะตัะตะบะปะฐะดะธะฝะต, ะฟะพะฟััะฐะปัั ะฟะพะดััะฝััััั, ะฝะต ัะผะพะณ. ะะฝ ััะผะฝะพ ะฒัะดะพั ะฝัะป ะธ ัะฟััะณะฝัะป ะฝะฐ ะฟะพะป.
โ ะกะพัะพะบ ะฒะพัะตะผั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะะธัะตะณะพ ัะฐะบ, ะฟะปัั ะฟััั ั ะธัะฝัโฆ
โ ะะฐะปะพ, โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะทะดะพั
ะฝัะป. โ ะัััะฐั ะพั ะณัะฐัะธะบะฐ ะฝะฐ ััะพ ะบะธะปะพะผะตััะพะฒ.
โ ะขั ััะพ, ะฒ ะบะพัะผะพะฝะฐะฒัั ะณะพัะพะฒะธัััั? โ ััะผะตั
ะฝัะปะฐัั ะะตะนะฝะตะฝ.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะต ะพัะฒะตัะธะป.
โ ะขั ัะปะธัะบะพะผ ะดะปะธะฝะฝัะน ะดะปั ะบะพัะผะพะฝะฐะฒัะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะะดะธ ะฒ ะฒะตััะพะปะตััะธะบะธ, ัะฐะผ ะดะปะธะฝะฝัะต ะฝัะถะฝั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะดะพัะตะป ะบ ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบั. ะะท ะทะฐะฟะฐะดะฝะพะณะพ ะพะบะฝะฐ ะพัะบััะฒะฐะปัั ัะฝัะปัะน ะฒะธะด ะฝะฐ ััะตะฝั ัะพัะตะดะฝะตะณะพ ะดะพะผะฐ, ะฒ ะพะบะฝะต ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ ัะธะดะตะปะฐ ะผัะฐัะฝะฐั ะฑะตะปะฐั ะบะพัะบะฐ.
โ ะฃ ะจะตัะณะธ ะฝะธะบะฐะบะธั ะผะพัะฐะปัะฝัั ัััะพะตะฒ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะะพะณั ะฟะพัะฟะพัะธัั โ ะพะฝะฐ ัะฐะผะฐ ัะฑะธะปะฐ ััั ะบัััั ะธะท ััะฐะฒะผะฐัะฐ!
ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะฐะดะตะป ัะธะฝัั ัะพะปััะพะฒะบั, ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ัะตะปะตัะพะฝ ะธ ะฝะฐะฑัะฐะป ะฝะพะผะตั ะะฝะฝั.
โ ะัะธะฒะตั, ะจะตัะณะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ะฝะตะฟัะธััะฝัะผ ััััะถะฝัะผ ะณะพะปะพัะพะผ. โ ะะฐ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ััะธะดัะฐัั ััะธ! ะ ะฐะบะตััะธะบะธ ะปะพัะฐะดั ะฒ ะพะฒัะฐะณะต ะดะพะตะดะฐัั! ะะต ะฑะปะฐะณะพะดะฐัะธโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะบะฐะทะฐะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะผั ัะทัะบ ะธ ะณัะพะผะบะพ ะฟัะพัะตะฟัะฐะปะฐ:
โ ะะต ะฟะพะดะผะตะฝะธะปะธ ะฝะฐ ัััะตะปะพ!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะดะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ะฝะพะณะธ.
โ ะะฐ, ะะฝั, ะฝะฐะผ ััะพ ะฝะต ะฝัะฐะฒะธััั! โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะขัั ัะปัั ะธ ะฝะตั ะพัะพัะธะต ั ะพะดััโฆ ะะฐ, ะดะฐ, ะฟัะพ ัะตะฑัโฆ ะ ะบะฐะบะพะผ ะฒะฐะณะพะฝะต?
ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ัะปััะฐะป ะฒ ัััะฑะบั. ะะตะนะฝะตะฝ ัะฝัะปะฐ ั ะฟะพะปะบะธ ัะตะทะธะฝะพะฒัะน ะถะณัั, ะฝะฐัััะฟะธะปะฐ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ะฝะพะณะฐะผะธ ะธ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ัะฐัััะฝััั.
โ ะะตั, ั ะผะพะณั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ั ะพัั ะฒ ััะฝะดั, ะฝะพ ัั ะฟะพะนะผะธ, ััะพ ะฝะต ะฒัั ะพะด!
ะัะฑะพัะบะธะน ัะตะป ะฝะฐ ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบ, ััะฐะป ัะปััะฐัั. ะัะฐัะฝะฐั ะบะพัะบะฐ ะฒ ะพะบะฝะต ะฝะต ัะตะฒะตะปะธะปะฐัั.
โ ะะพะฑะปะตั? โ ัะดะธะฒะปะตะฝะฝะพ ัะฟัะพัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพััั? ะกะฐะผะฐ, ะจะตัะณะฐ, ะทะฐะผะพัะฐะนัั!
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะฑัะปะฐ ะฟัะพ ัะฐัััะณะธะฒะฐัั ะถะณัั ะธ ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ.
โ ะะฐะบะพะน-ะบะฐะบะพะน? โ ะฟะพัะฐะถะตะฝะฝะพ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ. โ ะัะธ ัะตะผ ะทะดะตัั ะถะฐะฑัั? ะขั ะฟะพะณะพะดะธ ะฑััะธัั, ะฒะพั ะธ ะะธะทะฐ ัะพ ะผะฝะพะน ัะพะณะปะฐัะฝะฐโฆ
ะะณัั ะทะฒะพะฝะบะพ ัะปะตะฟะฝัะป ะะธะทั ะฒ ะปะพะฑ. ะะตะนะฝะตะฝ ะพะนะบะฝัะปะฐ ะธ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ.
โ ะกะฐะผะฐ ะบัััะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ะพัะบะปััะธะปัั.
ะะฝ ะพะทะฐะดะฐัะตะฝะฝะพ ะฟะพัะตั ะปะฐะดะพะฝะธ ะธ ะฟะพะปะพะถะธะป ัะตะปะตัะพะฝ ะฝะฐ ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบ.
โ ะกะบะฐะทะฐะปะฐ, ััะพ ะฒััะฒะตั ะณะปะฐะฝะดั, โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ.
ะะตัะบะพะปัะบะพ ัะตะบัะฝะด ะะธะทะฐ ัะธะดะตะปะฐ ั ะพะฑะธะถะตะฝะฝัะผ ะปะธัะพะผ, ะฟะพัะพะผ ะทะฐั
ะพั
ะพัะฐะปะฐ. ะัะฑะพัะบะธะน ัะพะถะต ะทะฐัะผะตัะปัั, ะธ ะพะฝะธ ะฝะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ัะผะตัะปะธัั ะฒะผะตััะต, ะะตะนะฝะตะฝ ะฟัะตะบัะฐัะธะปะฐ ะฟะตัะฒะพะน.
โ ะะฐ-ะดะฐ, ะะฝะดัััะตะฝัะบะฐ, ะปะพะฒะบะพ ัั, ะผะพะปะพะดะตั! โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะัััะฐ ะธะปะธ ะบะพััั! ะะต, ั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะทะฝะฐะปะฐ, ััะพ ัั ะฝะต ัะพัะผะพะท, ะฝะพ ัั ะฒะพะพะฑัะตโฆ ะะฐัะตะผ ัะตะฑะต ะฒ ะบะพัะผะพะฝะฐะฒัั, ะธะดะธ ะฒ ัะบะพะผะพัะพั
ะธ.
โ ะ ัะตะผ ัั?
โ ะกะดะตะปะฐะป ะฒะธะด, ััะพ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะป ะจะตัะณะต, ะฐ ัะฐะผ ะฝะต ะทะฒะพะฝะธะป! โ ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพั
ะปะพะฟะฐะปะฐ ะฒ ะปะฐะดะพัะธ. โ ะัะฐะฒะพ, ะฑััะฐัะธะฝะบะฐ, ะะตัะฝะฐัะด ะจะพั ะพะดะพะฑััะตั! ะะต ะทัั ะบ ัะตะฑะต ะทะฐัะปะฐ ัะตะณะพะดะฝั, ะฑัะดั ะฒะตัะตะปะธัััั. ะั-ะบะฐ, ะฟะพะผะพะณะธ ะบัะตัะปะพ ัะดะฒะธะฝััั!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟัะธะฝัะปะฐัั ะฒััะฐะปะบะธะฒะฐัั ะบัะตัะปะพ ะฝะฐ ะฑะฐะปะบะพะฝ. ะัะตัะปะพ ะฑัะปะพ ััะถะตะปะพะต, ัะพะปะบะฐะปะพัั ััะณะพ, ั ะพัั ะะธะทะฐ ััะฐัะฐะปะฐัั ัะฟะธัะฐัััั ะฝะพะณะฐะผะธ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฒ ะฟะพะป, ะฝะพ ะธ ะฒ ััะตะฝั. ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะผะพะณะฐัั ะฝะต ัะฟะตัะธะป.
โ ะ ะตัะปะธ ัะฐะบ? ะ ะตัะปะธ ะพะฝะธ ะฝะต ัะพัะณะพะฒัะน ัะตะฝัั ัััะพะธัั ัะพะฑะธัะฐัััั, โ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะขะพ ะตััั ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะฝะต ัะพัะณะพะฒัะน ัะตะฝัั, ะทะฐัะตะผ ะฒ ะะพัะบะฒะต ะตัะต ะพะดะธะฝ ัะพัะณะพะฒัะน ัะตะฝัั, ะธั
ะธ ัะฐะบ ะดะตะฒะฐัั ะฝะตะบัะดะฐโฆ
ะัะปะธ ะพะฝะธ ัะพะฑะธัะฐัััั ัััะพะธััโฆ โ ะะตะนะฝะตะฝ ัะฟะตัะปะฐัั ะฒ ััะตะฝั ะบัะตะฟัะต. โ ะฏ ะตะน ัะฐะผะฐ ะฒัะต ะณะปะฐะฝะดั ะฒััะฒั, ะบะพะทะตโฆ
ะัะตัะปะพ ัะดะฒะธะฝัะปะพัั ะธ ะทะฐััััะปะพ ะฟะพะฟะตัะตะบ ะฒัั
ะพะดะฐ, ะะตะนะฝะตะฝ ัะพะปะบะฝัะปะฐ ะตัะต ัะฐะท, ัััะฐะปะฐ, ะฑัั
ะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ัะธะดะตะฝะธะต, ะฒะตัะฝัะปะฐัั ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพั.
โ ะฃ ะจะตัะณะธะฝะพะน, ะบะฐะถะตััั, ะธััะตัะธะบะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะตัะตั ะฟะพัะฐะทะธัะตะปัะฝัะน ะฑัะตะด.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฒััะตั ััะบะธ ะฟะพะปะพัะตะฝัะตะผ, ัะฝะพะฒะฐ ะฟะพั
ะปะพะฟะฐะป ะฒ ัะฐะทะธะบะต ั ะผะฐะณะฝะตะทะธะตะน ะธ ะฟะพะดะฝัะป ั ะฟะพะปะฐ ัะตะฟั, ะฟัะพะฟัััะธะป ะตะต ะทะฐ ัะฟะธะฝะพะน ะธ ะฟัะธะฝัะปัั ัะพััะตะดะพัะพัะตะฝะฝะพ ัะฐัััะณะธะฒะฐัั.
โ ะะฝะฐะตัั, ะฟะพัะตะผั ั ั ัะพะฑะพะน ะดััะถั, ะัะฑะพัะบะธะน? โ ะฝะต ะพัััะฒะฐััั ะพั ะฑะปะพะบะฝะพัะฐ, ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ.
โ ะฏ ะฟะพะดะฐัะธะป ัะตะฑะต ะทะตะปะตะฝัะต ัะฐะฝะบะธ.
ะฆะตะฟั ะฝะฐััะฝัะปะฐัั.
โ ะขั, ะะฝะดัััะฐ, ะฝะต ัะบััะฝัะน. ะฅะพัั ะธ ัะฐะฝะบะธ ัะพะถะต. ะะฐะปั ะฑัะดะตั ั ัะพะฑะพะน ัะฐัััะฐะฒะฐัััั.
โ ะะพัะตะผั ัะฐัััะฐะฒะฐัััั?
โ ะขั ัะตะดะตัั ะฒ ะกะฒะธะฑะปะพะฒะพ ัะตะณะพะดะฝั, ะทะฐะฒััะฐ ะฒ ะัะฑะตััั ัะตะดั ั. ะจะตัะณะฐ, ะบะพัะพััั ะฟะพะดะผะตะฝะธะปะธ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ, ัะบัะฟะฐะตั ั ะถะธัะตะปะตะน ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ ะบะฒะฐััะธัั, ััะพะฑั ัะฝะตััะธ ะบะฒะฐััะฐะป ะธ ะฝะฐ ะตะณะพ ะผะตััะต ะฟะพัััะพะธัั ะฟะธัะฐะผะธะดัโฆ ะฃะฒั, ะผั ะฑะตััะธะปัะฝั ะฟะตัะตะด ะฟะพัััะฟัั ะณัะตะผััะตะณะพ ั
ะฐะพัะฐ.
ะัะฑะพัะบะธะน ัะฐัะฟัััะธะป ัะตะฟั, ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ.
โ ะะตะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ. โ ะกะพะฒัะตะผ ะธ ะฝะตะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะฟะธัะฐะผะธะดั. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ััะพ ะฑัะดะตั ะฝะตะฑะพัะบัะตะฑ. ะฏ ัะปััะฐะป, ัะพะฑะธัะฐัััั ะตะณะพ ะฟะพัััะพะธัั ะฒ ะฒะธะดะต ะพะณัะพะผะฝะพะน ัะฐะบะตัั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะฐะฟััะณัั, ัะตะฟั ะทะฐะทะฒะตะฝะตะปะฐ, ะฝะพ ะฝะต ะฟะพะดะดะฐะปะฐัั.
โ ะ ะฒะธะดะต ัะฐะบะตัั?
ะฆะตะฟั ะทะฒะตะฝะตะปะฐ, ะฝะพ ะฝะต ัะฒะฐะปะฐัั.
โ ะะพะน ะฟัะฐะดะตะด ะผะพะณ ะฟะพัะฒะฐัั, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะตัะฐะปัะฝะพ ะธ ะพะฟัััะธะป ัะตะฟั. โ ะะฝ ะฟัะตะฟะพะดะฐะฒะฐะป ะฒ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ.
โ ะะผะตะฝะธ ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั?
โ ะะผะตะฝะธ ะัะถะธะถะฐะฝะพะฒัะบะพะณะพ.
โ ะะพะฒะพััั, ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะดััะทััะผะธ.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฒะทัะปะฐ ะผะฐะปะตะฝัะบัั ะฑัััะปะพัะบั ั ะผะธะฝะตัะฐะปะบะพะน, ะพัะบััะปะฐ ะธ ััะฐะปะฐ ะผะตะปะบะพ ะฟะธัั.
โ ะจะตัะณะฐ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะต ะงะธัะธะบะพะฒ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะฟะตัะฐะปัะฝะพ ะะตะนะฝะตะฝ, โ ะดะพ ะงะธัะธะบะพะฒะฐ ะตะน ะดะฐะปะตะบะพ, ะฝะตั, ะพะฑััะฝะฐั ะดััะฐ ั ะฟะฐะฟะพะนโฆ ะะพะผะฝะธัั, ะพะฝะฐ ะผะฝะต ะบะปะธะบัั
ั ะฟัะธะดัะผะฐะปะฐ?
โ ะะต ะพัะตะฝัโฆ ะะตะปะบะฐ?
โ ะะพะฑั.
ะะตะนะฝะตะฝ ัะปัะฑะฝัะปะฐัั, ะัะฑะพัะบะธะน ะพัะผะตัะธะป, ััะพ ะฝะฐ ะฑะพะฑัะฐ ะพะฝะฐ ะฟะพั ะพะถะฐ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะฑะพะปััะต, ัะตะผ ะฝะฐ ะฑะตะปะบั, ะธ ัะฝะพะฒะฐ ะฝะฐััะฝัะป ัะตะฟั.
โ ะ ััะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ.
ะัะฑะพัะบะธะน ะดะพััะธะณ ะธะทะพะผะตััะธัะตัะบะพะณะพ ะฟะธะบะฐ, ะฒัััะธัะฐะป ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ัะตะบัะฝะด, ัะฐััะปะฐะฑะธะป ะผัััั.
โ ะ ั ะผะตะฝั ัะพะณะดะฐ ะบะฐะบ ัะฐะท ัะตัะฝะฐั ะฟะพะปะพัะฐ ะฝะฐัะฐะปะฐัั, ะธะท ั
ัะดะพะถะตััะฒะตะฝะฝะพะน ัะบะพะปั ะฒัะณะฝะฐะปะธ, ะฒัะต ะฒะพะบััะณ ะบะฐะบ ะพะทะฒะตัะตะปะธโฆ โ ะะตะนะฝะตะฝ ะฒัะฟะธะปะฐ ะฟะพะปะฑัััะปะบะธ. โ ะ ััั ะจะตัะณะฐ ะฟะพะดะพะนะดะตั ัะฐะบ ะธ ะณะพะฒะพัะธั ะฟะพัะธั
ะพะฝัะบั: ยซะญะน, ะะพะฑั! ะญะน, ะะพะฑั!ยป ะะพัะพะผ ะผะฝะต ะฟะพะปะณะพะดะฐ ัะฝะธะปะธัั, ะทะฝะฐะตัั, ัะฐะบะธะต ะผะพัะดะฐัััะต, ะฒัะต ั
ะพะดัั, ั
ะพะดัั, ั
ะพะดััโฆ
ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฟะพัะตััะป ะฝะธัั ัะฐะทะณะพะฒะพัะฐ ะธ ะฝะต ัะปะพะฒะธะป, ะบัะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ะฝะฐััะพะนัะธะฒะพ ัะฝะธะปัั ะะตะนะฝะตะฝ, ะฑะพะฑัั ะธะปะธ ะผะฐััะตัะฐ ั
ัะดะพะถะตััะฒะตะฝะฝัั
ะธัะบััััะฒ.
โ ะฏ ะถะต ัะตะฑะต ะถะฐะปะพะฒะฐะปะฐัั, โ ะฝะฐะฟะพะผะฝะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
โ ะฏ ะดัะผะฐะป, ะฟัะพ ะฑะพะฑัะพะฒ ัั ะธะฝะพัะบะฐะทะฐัะตะปัะฝะพ.
โ ะะตั, โ ะฟะพะบะฐัะฐะปะฐ ะณะพะปะพะฒะพะน ะะธะทะฐ. โ ะขั ะฝะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตัั, ะบะฐะบ ั ะฝะตะฝะฐะฒะธะถั ะฑะพะฑัะพะฒ. ะะฝะพะณะดะฐ ะผะฝะต ะบะฐะถะตััั, ััะพ ั ััะฒััะฒัั ะธั
ะทะฐะฟะฐั
โฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะฝัั ะฐะปะฐ ะฒะพะทะดัั , ะฟะพะผะพััะธะปะฐัั. ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะพะพััะถะธะปัั ัะตะทะธะฝะพะฒะพะน ะปะตะฝัะพะน. ะะพัะบะฐ ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะฝะต ัััะตะปะพะผ ะธ ะฟัะธะฝัะปะฐัั ัะผัะฒะฐัััั ะปะฐะฟะพะน.
โ ะะพะตะณะพ ะพััะฐ ะฒ ะดะตัััะฒะต ะฑะพะฑะตั ัะบััะธะป, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะ ัะตะนัะฐั ะธั ะตัะต ะฑะพะปััะต ััะฐะปะพโฆ
ะะธะทะฐ ะฟะธะปะฐ ะผะธะฝะตัะฐะปะบั. ะ ัะธัะพะบะธะต ะพะบะฝะฐ ัะตัะฒะตััะพะณะพ ััะฐะถะฐ ะทะฐะดัะฒะฐะป ัะตะฟะปัะน ะฒะตัะตั, ะฟััะฝะธัะฐ, ะธ ะฒ ัะบะพะปั ะทะฐะฒััะฐ ะฝะต ะฝะฐะดะพ, ะธโฆ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟัะพะฑะพะฒะฐะป ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐัั ัะฐะดะพััั ะพั ะฟัะตะดััะพััะธั
ะฒัั
ะพะดะฝัั
, ะฝะพ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฝะต ััะฒััะฒะพะฒะฐะป ะฝะธัะตะณะพ. ะะฐะฒััะฐ ะพะฝะธ ัะพะฑัะฐะปะธัั ะฒัััะตัะธัััั ั ะะพัะพั
ะพะฒะฐ ะธ ะพะฑััะพััะตะปัะฝะพ ะพะฑััะดะธัั ัะปะพะถะธะฒัะตะตัั ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต, ะฟะพัะพะผ ะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ัั
ะพะดะธัั, ะฟะพัะธะดะตัั, ะพัะดะพั
ะฝััั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะณะปัะดะตะป ะฒ ัะตะฒะตัะฝะพะต ะพะบะฝะพ ะฝะฐ ะบะฐััะฐะฝั. ะะฐััะฐะฝั ะณะพัะฐะทะดะพ ะปัััะต ะฒะตัะฝะพะน.
โ ะฏ ะบะฐะบ ะฒะธะถั ะจะตัะณะธะฝั, ัะฐะบ ั ะผะตะฝัโฆ ะะฐ ะฝั ะธั โฆ ะฏ ะดะฐะถะต ะฟะตัะตะฒะตััะธัั ะธะท ะฝะฐัะตะน ัะบะพะปั ั ะพัะตะปะฐ. ะัะพัะธะปะฐ ั ะผะฐะผัโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะดะพะฟะธะปะฐ ะฒะพะดั, ัะฒะธะฝัะธะปะฐ ะบัััะตัะบั, ะฟัะธะปะฐะดะธะปะฐ ะตะต ะฝะฐ ะปะตะฒัะน ะณะปะฐะท, ะบะฐะบ ะผะพะฝะพะบะปั, ะฒััะฐะปะฐ ะฒ ะบัะตัะปะต, ัััะฐะฒะธะปะฐัั ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ.
โ ยซะญัะพ ะปัััะฐั ะฐะฝะณะปะธะนัะบะฐั ัะบะพะปะฐ! โ ะฟัะพะฟะธัะฐะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะฒะธะดะธะผะพ, ะฟะตัะตะดัะฐะทะฝะธะฒะฐั ะผะฐัั. โ ะขัะดะฐ ะพัะตัะตะดั, ะบะฐะบ ะดะพ ะะปะฐะดะธะฒะพััะพะบะฐ! ะั
, ะะธะทะฐ, ะะตัะฝะฐัะด ะจะพั ั
ะพะดะธะป ะฟะพ ััะธะผ ะบะพัะธะดะพัะฐะผ! ะะฝ ะพะฟะธัะฐะปัั ะฝะฐ ััะธ ััะตะฝั ะธ ะพััะฐะฒะธะป ะฝะฐ ะฝะธั
ัะฒะพะน ะฐะฒัะพะณัะฐั! ะะดะตัั ะฒัะต ะดััะธั ะบัะปััััะพะน! ะะดะตัั ัะฒะพัะธะปะฐัั ะธััะพัะธั! ะะดะตััโฆยป
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ ะธ ะฒะดััะณ ะฟะพัะปะฐ ะบัะฐัะฝัะผะธ ะฟััะฝะฐะผะธ, ะัะฑะพัะบะธะน ะธัะฟัะณะฐะปัั ะธ ะฟะพะดะฐะป ะะธะทะต ะตัะต ะฑัััะปะพัะบั. ะะตะนะฝะตะฝ ะฒะตัะฝัะปะฐัั ะฒ ะบัะตัะปะพ ั ะฟัะพะฑะบะพะน ะฒ ะณะปะฐะทั.
โ ะขะพ ะตััั ัั ยซะทะฐยป? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะต ะทะฝะฐั. ะัะปะธ ะจะตัะณะธะฝะฐ ัะฝะตัะตั ะบะฒะฐััะฐะป โ ะฒ ััะฐััะธั
ะบะปะฐััะฐั
ั ะตะต ะฝะต ัะฒะธะถั. ะัะปะธ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฝะต ัะฝะตัะตั ะบะฒะฐััะฐะป โ ั ะฟะพัะฐะดัััั, ััะพ ะตะต ะฟะปะฐะฝั ัะฐััััะพะธะปะธัั.
โ ะ ั?
โ ะขะตะฑั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะถะฐะปั. ะะพโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะดะพะฟะธะปะฐ ะฒัะพััั ะฑัััะปะพัะบั, ะพัะบัััะธะปะฐ ะฟัะพะฑะบั, ะทะฐะถะฐะปะฐ ะตะต ะฟัะฐะฒัะผ ะณะปะฐะทะพะผ. ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะทัะป ะฟััะถะธะฝะฝัะต ะบะธััะตะฒัะต ััะฟะฐะฝะดะตัั.
โ ะฏ ะฑัะดั ะณััััะธัั ะพ ัะตะฑะต ะฒ ะััะธัะฐั
. ะัะฟะพะผะธะฝะฐัั, ะฟะธัะฐัั ััะธั
ะธ. ะญัะพ ั
ะพัะพัะพ ะดะปั ะดััะธ.
โ ะญัะพ ั
ะพัะพัะพ ะดะปั ะดััะธ?
โ ะญัะพ ั
ะพัะพัะพ.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะดะฝัะปะฐ ะฑัะพะฒะธ ะธ ััะพะฝะธะปะฐ ะฟัะพะฑะบะธ. ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะบััะป ััะฟะฐะฝะดะตัั.
โ ะะพ ะดะพ ะงะตััะฐะฝะพะฒะฐ ะฝะต ัะฐะบ ัะถ ะธ ะดะฐะปะตะบะพ, โ ั ัะพะผะฝะตะฝะธะตะผ ะทะฐะผะตัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะต ะฝะฐะดะพ! ะะตั, ะฝะตั, ััะพ ะฒัะตะปะตะฝะฝะฐั, ั ะฒ ะััะธัะฐั
, ัั ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต, ะผะตะถะดั ะฝะฐะผะธ ะะพัะบะฒะฐ, ะบะฐะบ ะฑะตะทะดะฝะฐ. ะขะพะปัะบะพ ัะฐะบ, ัะพะปัะบะพ ัะฐะบโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะดะพััะฐะปะฐ ัะตะปะตัะพะฝ, ะฝะฐะฑัะฐะปะฐ ะฝะพะผะตั, ะฟัะธะปะพะถะธะปะฐ ัััะฑะบั ะบ ัั ั ะธ ะฟัะธะณะพัะพะฒะธะปะฐ ะปะธัะพ. ะฃะปัะฑะฝัะปะฐัั, ะฒะตัั ะฝะธะต ะทัะฑั ัััั ะฟะพะดะฒััััะฟะธะปะธ ะธ ะฟะพะดะฝัะปะธ ะณัะฑั.
โ ะะฝะตัะบะฐ! ะะฐะบ ั ัะตะฑั ะทะดะพัะพะฒัะต?! ะะตั, ะฝะต ัะตัะตััั. ะะพั ะะฝะดัััะฐ ะัะฑะพัะบะธะน ัะตะฑะต ัะพะถะต ะฟัะธะฒะตัะบะธ ะฟะตัะตะดะฐะตัโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะบะฒะธัะธะบะฐะปะฐ ะฒ ัััะฑะบั. ะัะฑะพัะบะธะน ัะพััะตะดะพัะพัะธะปัั ะฝะฐ ััะฟะฐะฝะดะตัะฐั
.
โ ะะฐ-ะดะฐ, ะดะฐ-ะดะฐ, โ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะปะตะณะบะพะผััะปะตะฝะฝะพ ะฟะพะบะฐัะธะฒะฐั ะฝะพะณะพะน. โ ะะฐ-ะดะฐ, ะฟะพะดะฟััะณะฝัะปะฐ. ะกะฐะผะฑะธััั ะฒัะตะณะดะฐ ะฒ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะดะตโฆ ะะตั, ะฝะฐ ะธะดะธะพัะพะฒ ะฝะต ะฟะพั
ะพะถะธโฆ
ะัะฑะพัะบะธะน ัะตะปะบะฐะป ััะฟะฐะฝะดะตัะฐะผะธ.
โ ะงัะพ ะดะตะปะฐะตะผ? ะะฐ ะบะฐะบ ัะบะฐะทะฐััโฆ ะกััะฐะดะฐะตะผ. ะะฐ. ะฃ ะะฝะดัััะตะฝัะบะธ ะฑะฐะฑััะบะฐโฆ ะดะฐ-ะดะฐ, ัะฐ ัะฐะผะฐั โ ั ะฝะพัะบะฐะผะธ!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะดะผะธะณะฝัะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะผั.
โ ะญัะพ ัะพัะฝะพ, ะพะดะฝะพะน ะฝะพะณะพะน ะฒ ะะฐะปะณะฐะปะปะต, ะฝะพ ะตัะต ะพะณะพ-ะณะพ! ะะพัะพัะต, ะบะพะต-ะบะฐะบ ะดะตัะถะธััั. ะฅะพัะตั ะฟะพะผะตัะตัั ะฒ ัะฒะพะตะน ะฟะพััะตะปะธ, ะฐ ะตะต ะฟะพััะตะปั ะฒ ะดะพะผะต ะฝัะผะตั ััะธ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะณะพ ะฟัะพะตะทะดะฐ. ะงัะพ ะทะฝะฐัะธั โ ยซะั ะธ ััะพ?ยป ะขั ัะพะฒัะตะผ ััะฐัะพััั ะฝะต ัะฒะฐะถะฐะตัั?!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ัะดะตะปะฐัั ัััะพะณะธะน ะณะพะปะพั, ะฟะพะปััะธะปะพัั ััะพ-ัะพ ะฒัะพะดะต ะฑะพะปะณะฐัะบะธ, ะบะพัะบะฐ ะฒ ัะพัะตะดะฝะตะผ ะดะพะผะต ัะฑัะฐะปะฐัั ั ะพะบะฝะฐ.
โ ะะตั, ะบัััั ัะตะฑะต ะฝะต ะะตััะบะฐ ะฟะพะดะบะธะฝัะป, โ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะฐ ะฑะตัะตะดั ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะัััะฐ โ ััะพ ะฒัะพะดะต ะบะฐะบโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ, ัะปััะฐั.
โ ะกะฐะผะฐ ะบะพััะณะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ ัะตัะตะท ะผะธะฝััั ะธ ะพัะบะปััะธะปะฐัั.
ะฃ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฑะฐะฑััะบะธ, ัะตะผ ะฑะพะปะตะต ั ะฝะพัะบะฐะผะธ.
โ ะัะฒะตัะฝัะน ัะดะฐั? โ ัะฟัะพัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะขะพ ะตััั? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
โ ะกะดะตะปะฐะปะฐ ะฒะธะด, ััะพ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะปะฐ, ะฐ ัะฐะผะฐ ะฝะต ะทะฒะพะฝะธะปะฐ.
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะตะฒะฝัะปะฐ. ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะบััะป ััะฟะฐะฝะดะตัั.
โ ะญัะพ ะจะตัะณะฐ! ะกะดะตะปะฐะปะฐ ะฒะธะด, ััะพ ะตะต ัะพะฟัั, ะฐ ัะฐะผะฐ ะฝะธัััั ะฝะต ัะพะฝัะปะฐ!
โ ะขั ะดัะผะฐะตัั?
ะัะฑะพัะบะธะน ะพัะบััะป ััะฟะฐะฝะดะตัั ะธ ะทะฐะบะธะฝัะป ะธั
ะฒ ัะฐะทะธะบ ั ะผะฐะณะฝะตะทะธะตะน.
โ ะะพะปะพะดะตะถะฝัะน ัะตะฐัั ะธะผะตะฝะธ ะฝะตะธััะพะฒะพะณะพ ะขัะฑัััะธั, โ ะฟะพััะฝะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะะฝะฐ ัะฐะผะฐ ัะตะฑั ะฒััะตะบะปะฐ, ั ะฝะธั
ััะพ ะฟะพะฒัะตะผะตััะฝะพ.
โ ะะฐัะตะผ ะตะน ััะพ? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะฐะบะพะน ะธะผะตะฝะฝะพ ะตะน? ะ ะผะพะถะตั, ะธั
ะดะฒะต?
ะะตะนะฝะตะฝ ะฒััะฐะทะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพััััะฐะปะฐ ะฟะฐะปััะตะผ ะฟะพ ะฒะธัะบั.
โ ะะดะฝะฐ ั
ะพัะตั ัะฝะตััะธ ะะฐะปะฐัะตะฒะบั, ะฐ ะดััะณะฐั ั
ะพัะตั ัะฐะผะฐ ัะตะฑะต ะฟะพะผะตัะฐัั. ะั, ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ั ะฝะตะต ะผะตะฝัะฐะปัะฝะพะต ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะต. ะะฐะปะตัะธะปะธ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ. ะ ัะตะฟะตัั ะพะฝะฐ ะบะฐะบ ะฑั ัะฐะผะฐ ัะตะฑั ะบะฐะถะดัะน ะดะตะฝั ะฒััะตะบะฐะตั ะฝะฐ ะฟะพะดะผะพััะบะฐั
.
โ ะะต, โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะบะฐัะฐะป ะณะพะปะพะฒะพะน. โ ะ ะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะต โ ััะพ ะฑัะปะพ. ะฃ ะฒัะตั
ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะตโฆ
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพััะธัะฐะป ะฟะพ ะฟะฐะปััะฐะผ, ะฝะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฝะธั
ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ.
โ ะกะพ ััะตัะฐ ัะฑะธะปััโฆ ะะพัะพัะต, ัััะบ ะดะฒะฐะดัะฐัั ั ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะตะผ. ะะถะตะบะธะป, ะฅะฐะนะด, ะขะฐะนะปะตั ะััะดะตะฝโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพัะตัะฐะปะฐ ะณะพะปะพะฒั ะบะฐัะฐะฝะดะฐัะพะผ.
โ ะั, ะฝะต ะทะฝะฐั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะัะปะธ ะฝะต ะงะธัะธะบะพะฒ ะธ ะฝะต ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะต, ัะพ ััะพ?
โ ะะฐะณะพะฒะพั ัะฐะผะฟะปะธะตัะพะฒโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ั ะธั ะธะบะฝัะปะฐ.
โ ะะฐะณะพะฒะพั ะปะธะปะธะฟััะพะฒ, โ ะฟะตัะตะดัะฐะทะฝะธะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะะฝะฐะตัั, ะทะฐะณะพะฒะพัะพะฒ ัะฐะผะฟะปะธะตัะพะฒ ะฒ ัะพัะพะบ ัะฐะท ะฑะพะปััะต, ัะตะผ ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะน. ะ ัะตัะดัะต ะบะฐะถะดะพะณะพ ะณัะฐัะพะผะฐะฝะฐ ะฑะตัะตะฝะพ ััััะธั ะผะฐััะฝะธะบ ะคัะบะพ.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ะพะฝะฐ ะฝะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฒะฝะตัะปะฐ ััะฐะทั ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพั ะธ ะพัะดะตะปะธะปะฐ ะตะต ะพั ะฟัะพัะธั ะทะฐะฟะธัะตะน ะทัะฑัะฐััะผ ะทะฐะฑะพััะธะบะพะผ.
โ ะ ะฒะพะพะฑัะต ะฒะพะฑะปะตั ะธ ะบะพััั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะขะฐะบ ั ะฒัะต ะธ ะฝะฐะทะพะฒั: ยซะะพะฑะปะตั ะธ ะบะพัััยป. ะัะพะธะทะฒะตะดะตะฝะธะต ะปะธัะตัะฐัััั. ะะฝะธะณั! ะ ะพะผะฐะฝ!
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพััััะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพัะพะผ ะธ ะฟัะธัะธัะพะฒะฐะปะฐ ะะพะฝัะบั-ะะพัะฑัะฝะบั ะฝะฐ ะพะฑะปะพะถะบะต ะฑัะบะฒั ยซะยป.
ะัะฑะพัะบะธะน ัะฝัะป ั ะฟะพะปะบะธ ะถะตัััะฝัั ะฑะฐะฝะบั, ะฒััััั ะธะท ะฝะตะต ะฑะตะปะบะพะฒัะต ะฑะฐัะพะฝัะธะบะธ, ะฟัะตะดะปะพะถะธะป ะะตะนะฝะตะฝ ัะพ ะฒะบััะพะผ ะบะปัะบะฒั, ัะตะฑะต ะฒะทัะป ัะพ ะฒะบััะพะผ ัะตัะฝะธะบะธ. ะกัะฐะปะธ ะถะตะฒะฐัั.
โ ะ ะฟะพัะตะผั ัะตะฑะต ะฟะธัะฐะผะธะดะฐ ะฝะต ะฝัะฐะฒะธััั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะดะพะตะฒ ะฑะฐัะพะฝัะธะบ. โ ะะธัะฐะผะธะดะฐ โ ััะพ ะบัะฐัะธะฒะพ ะธ ะฝะตัะปััะฐะนะฝะพ.
โ ะะพ-ะผะพะตะผั, ัะบััะฝะพ, โ ะฒะพะทัะฐะทะธะป ะัะฑะพัะบะธะน, ัะพะถะต ะดะพะตะฒ ะฑะฐัะพะฝัะธะบ. โ ะะธัะฐะผะธะดั ะฒััะปะธ ะธะท ะผะพะดั ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ะฑะตัััะตะปะปะตัะพะฒ ะฝะฐะทะฐะด, ะฟัะธะดัะผะฐะน ัะตะณะพ-ะฝะธะฑัะดั, ัั ะถะต ะปะธัะตัะฐัะพั.
โ ะฅะพัะพัะพ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะะตะณะบะพ. ะกะปััะฐะน. ะ ะตัะปะธ ะฝะต ะฟะธัะฐะผะธะดะฐ? ะัะปะธ ะฑะฐัะฝั? ะะฝะฐะตัั, ะฟะพ-ะผะพะตะผั, ะฒ ะะพัะบะฒะต ะดะฐะฒะฝะพ ั
ะพัะตะปะธ ะฟะพัััะพะธัั ะฑะฐัะฝัโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพัะตัะปะฐ ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฒะธัะบะธ.
โ ะะฐัะฝั ะปะตะฝะธะฝัะบะพะณะพ ะบะพะผะผัะฝะธะทะผะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะขะฐะบ, ะบะฐะถะตััั?
โ ะััะด ะปะธ ัะตะนัะฐั ัะฐะบัั ะดะฐะถะต ะฒ ะบะฝะธะณะฐั
ัััะพะธัั ะฑัะดัั. ะะฐะบัั-ะฝะธะฑัะดั ะดััะณัั ะฟะพัััะพัั.
โ ะะฐัะฝั ะธะผะตะฝะธ ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั.
โ ะะตัะฝะฐัะด ะจะพั ะฑัะป ะผัะถะตะผ ะกะฐัั ะะตัะฝะฐั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ะฟัะพััะฝัะป ััะบั ะบ ะผะธัะบะต ั ะผะฐะณะฝะตะทะธะตะน. โ ะฃ ะฝะตะณะพ ะฑัะปะฐ ัะธัะพะบะฐั ัะฐะบัะพะฝัะบะฐั ะบะพััั, ะพะฝ ะผะพะณโฆ
ะะพะณะพะฒะพัะธัั ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะต ััะฟะตะป, ะณัะพะผัั
ะฝัะปะพ, ะฟะพะป ะฟะพะดะฟััะณะฝัะป, ะณะฐะฝัะตะปะธ, ะณะธัะธ ะธ ะฟัะพัะธะน ะธะฝััััะผะตะฝัะฐัะธะน, ะทะฝะฐะผะตะฝัััะธะน ะฟะพะปัะพัะฐ ััะพะปะตัะธั ัะฒะปะตัะตะฝะธั ัะตะผัะธ ะณะธะณะธะตะฝะธัะตัะบะพะน ะณะธะผะฝะฐััะธะบะพะน, ััะถะตะปะพ ะทะฒัะบะฝัะป. ะก ะฟะพะปะบะธ ะฝะฐ ััะตะฝะต ะพััะฟะฐะปะธัั ะผะตะดะฐะปะธ ะธ ะบัะฑะบะธ, ะทะฐะฒะพะตะฒะฐะฝะฝัะต ะฟัะตะดะบะฐะผะธ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฒ ัะฟะพััะธะฒะฝะพะน ะฑะพััะฑะต.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟัะธะบััะธะปะฐ ัะทัะบ ะธ ะทะฐัะธะฟะตะปะฐ, ะัะฑะพัะบะธะน ะถะต ะพะฟัะพะบะธะฝัะป ะผะฐะณะฝะตะทะธั ะฝะฐ ัะตะฑั.
โ ะงัะพ ะฑั ััะพ ะผะพะณะปะพ ะฑััั? โ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะัะฑะพัะบะธะน, ัะธั
ะฐั.
โ ะะทะพัะฒะฐะปะพัั, ะบะฐะถะตััั, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
ะะฝะฐ ะดะพััะฐะปะฐ ะทะตัะบะฐะปััะต ะธ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะปะฐ ะพะบัะพะฒะฐะฒะปะตะฝะฝัะน ะบะพะฝัะธะบ ัะทัะบะฐ. ะะฐ ัะปะธัะต ะพัะฐะปะธ ะฐะฒัะพะผะพะฑะธะปัะฝัะต ัะธะณะฝะฐะปะธะทะฐัะธะธ.
โ ะงัะพ ะผะพะณะปะพ ะฒะทะพัะฒะฐัััั? โ ะัะฑะพัะบะธะน ัะตั ะฝะพั.
โ ะะพั
ะพะถะต ะฝะฐ ะณะฐะทะพะฒัะน ะฑะฐะปะปะพะฝ, โ ะฟัะพัะฒะธะปะฐ ะพัะฒะตะดะพะผะปะตะฝะฝะพััั ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะฃ ะฝะฐั ะฝะฐ ะดะฐัะต ั ัะพัะตะดะตะน ะฒะทะพัะฒะฐะปัั โ ะฒะตัั ะฟะพะณัะตะฑ ัะฐะทะฒะพัะพัะธะปะพ.
ะ ะะฝะดัะตะน, ะธ ะะธะทะฐ ะฟะตัะตะฑัะฐะปะธัั ัะตัะตะท ะบัะตัะปะพ ะฝะฐ ะฑะฐะปะบะพะฝ. ะกะฝะธะทั, ัะพ ััะพัะพะฝั ะฟะตัะตัะปะบะฐ, ะฟะพะดะฝะธะผะฐะปะฐัั ะบะธะฟััะฐั ะฟัะปั.
โ ะงัะพ ััะพ? โ ะัะฑะพัะบะธะน ัะพัััะธะปัั.
โ ะะฝะฐ, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
ะฃ ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ัะตะปะตัะพะฝ, ะพะฝะฐ ะพัะฒะตัะธะปะฐ. ะะพะปัะฐะปะฐ ะฒ ัััะฑะบั.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป ะทะฐ ะฟัะปัั. ะัะปะตะฒะฐั ััะตะฝะฐ ะฟะพะดะฝัะปะฐัั ะดะพ ััะตััะธั
ััะฐะถะตะน ะธ ัะตะฟะตัั ะฟัะธะฑะปะธะถะฐะปะฐัั ะธ ะฑััะปะธะปะฐ, ะบะฐะบ ะฟัะธ ะฒะทััะฒะต ะัะฐะบะฐัะฐั ะธะปะธ ะะตะทัะฒะธั. ะะพ ะผะตััะพะฒ ะทะฐ ััะพ ะดะพ ะดะพะผะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ัััะฐ ะฒัะดะพั
ะปะฐัั ะธ ะพัะตะปะฐ, ะธ ััะฐะปะฐ ะฒะธะดะฝะฐ ัะปะธัะฐ. ะัะต ะดะพะผะฐ ะฑัะปะธ ะฝะฐ ะผะตััะต, ะฟัะธะฟะฐัะบะพะฒะฐะฝะฝัะต ะฒะดะพะปั ััะพััะฐัะพะฒ ะผะฐัะธะฝั ะฟะพัะตัะตะปะธ ะธ ะผะธะณะฐะปะธ ะฐะฒะฐัะธะนะบะฐะผะธ, ะฝะฐ ะฟะตัะตะบัะตััะบะต ะฒะพะทะฝะธะบ ะทะฐัะพั ะพั ะฟะพะณะฐััะตะณะพ ัะฒะตัะพัะพัะฐ, ะฝะพ ะปัะดะธ ะธะท ะผะฐัะธะฝ ะฝะต ะฒัั
ะพะดะธะปะธ, ะพะฟะฐัะฐััั ะฟัะปะธ, ะธ ะัะฑะพัะบะธะน ัะทะฝะฐะป ัััะฐะฝะฝะพะต ัะธัะพัะปะธะฒะพะต ััะฒััะฒะพ, ัะพัะฝะพ ัะผะตั ะผะธั ะธ ะพััะฐะปะธัั ัะพะปัะบะพ ะพะฝะธ ั ะะตะนะฝะตะฝ, ะฝะฐ ะฑะฐะปะบะพะฝะต, ะธ ะดะฐะถะต ะฟัะปั ะฝะต ะฟะพะดะฝัะปะฐัั.
ะะฝ ะพะณะปัะฝัะปัั ะฝะฐ ะะธะทั ะธ ัะธั
ะฝัะป ะฒ ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท ะทะฐ ััะพั ะดะตะฝั.
ะะตะนะฝะตะฝ ัะฟัััะฐะปะฐ ัะตะปะตัะพะฝ.
โ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะทะฒะพะฝะธะป, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ.
โ ะ ััะพ? โ ะพััะพัะพะถะฝะพ ัะฟัะพัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะพะดะพะบะฐัะบั ะฒะทะพัะฒะฐะปะธ. ะ ัะดะพะผ ั ะตะณะพ ะดะพะผะพะผ ััะฐัะฐั ะฒะพะดะพะบะฐัะบะฐ, ะฝั, ะฟะพะผะฝะธัั ะถะต, ั ะฑัะบะฒะฐะผะธ? ะะทะพัะฒะฐะปะธ. ะกะปะพะถะธะปะฐัั, ะบะฐะบ ัะฟะธัะตัะฝะฐั.
โ ะะฐ, โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพัะตั ะปะพะฑ. โ ะงัะพ ะฑั ััะพ ะทะฝะฐัะธะปะพ?
โ ะญัะพ ะจะตัะณะฐ, โ ัะฒะตัะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะะพััะปะฐะตั ะฝะฐะผ ะทะปะพะฒะตัะธะน ะทะฝะฐะบ.
โ ะะฐะบะพะน?
โ ะกะตะณะพะดะฝั ะฒะพะดะพะบะฐัะบะฐ โ ะทะฐะฒััะฐ ัั.
ะะตะนะฝะตะฝ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะฟะฐะปััะตะผ ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ. ะะพ ัะปะธัะต, ะฒะพะฟั ัะธัะตะฝะพะน ะธ ะผะพัะณะฐั ะผะธะณะฐะปะบะฐะผะธ, ะฟัะพะตั ะฐะปะฐ ะฟะพะถะฐัะฝะฐั ะผะฐัะธะฝะฐ. ะัะปั ัะฝะพะฒะฐ ะฟะพะดะฝัะปะฐัั, ะฝะตะฝะฐะดะพะปะณะพ.
โ ะ ะตัะตโฆ
ะะตะนะฝะตะฝ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ.
โ ะงัะพ ะตัะต?
โ ะขะฐะผ ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ััะตะฝั ะฝะฐัะฐะปะธ ัััะพะธัั.
โ ะะฐะบัั?
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะถะฐะปะฐ ะฟะปะตัะฐะผะธ. ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะฐั ะผััะธะปัั.
โ ะะฐะดะพ ะทะฐะฒััะฐ ะฒัะต ััะพ ัะตััะตะทะฝะพ ะพะฑััะดะธัั ะฝะฐ ัะพะฑัะฐะฝะธะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ัะธั
ะฝัะป.
โ ะะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ? โ ััะพัะฝะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. โ ะกัะตะฝั?
โ ะ ััะตะฝั ัะพะถะต. ะัะปะธ ะจะตัะณะฐ ะฒะทัะปะฐัั ะทะฐ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธโฆ
โ ะขั ัะตััะตะทะฝะพ? โ ะฟะตัะตะฑะธะปะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
โ ะะฑัะพะปััะฝะพ. ะะธััะปะตะฒะพ ะฝะต ะฟัะพะนะดะตั. ะะฐะดะพ ะพะบะฐะทะฐัั ะตะน ัะพะฟัะพัะธะฒะปะตะฝะธะต.
โ ะะณะฐโฆ โ ััะผะตั
ะฝัะปะฐัั ะะตะนะฝะตะฝ.
โ ะัะธะดะตัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฝะต ะพัะฒะตัะธะปะฐ. ะะฝะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะพะฑะตะทะปัะดะตะฒััั ัะปะธัั, ะฝะฐ ะทะฐะผะตััะธะต ะผะฐัะธะฝั ะธ ะฝะฐ ะฟัะปั. ะฃะปะธัั ะฝะฐะธัะบะพัั ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟะตัะตั ะพะดะธะปะฐ ัะพะปััะฐั ะปะตะฝะธะฒะฐั ัะพะฑะฐะบะฐ, ะฒ ะฟัะปะธ ะทะฐ ัะพะฑะฐะบะพะน ะพััะฐะฒะฐะปะธัั ะบััะณะปัะต ัะปะตะดั. ะะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะะธะทะต ััะฐะปะพ ัะธะปัะฝะพ ะณััััะฝะพ. ะะฑััะฝะพ ะณััััั ะฟัะธั ะพะดะธะปะฐ ะฑะปะธะถะต ะบ ะฝะพัะฑัั, ะฝะพ ะฒ ััะพะผ ะณะพะดั ัะปััะธะปะฐัั ัะฐะฝััะต. ะขะพ ะปะธ ะัะฑะพัะบะธะน ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ััะฟะฐะฝะดะตัะฐะผะธ, ัะพ ะปะธ ะฒะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ, ัะพ ะปะธ ัะธััะฐัะธั ั ะจะตัะณะธะฝะพะน, ะฝะพ ะะธะทะฐ ะทะฐะณััััะธะปะฐ. ะะฝะฐ ะฒะดััะณ ะฟะพะดัะผะฐะปะฐ, ััะพ ััะพ ะฝะฐะดะพะปะณะพ, ะฝะฐ ะณะพะด ะธ ะดะฐะปััะต, ะธ, ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฝะฐะฒัะตะณะดะฐ.
โ ะัะธั ะพะดะธ, โ ะพะฟััั ะฟัะตะดะปะพะถะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
ะะธะทะฐ ัะฝะพะฒะฐ ะฝะต ะพัะฒะตัะธะปะฐ. ะะฝะฐ ะฟะพัะดะพะฑะฝะตะต ะฟัะธัััะพะธะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพั ั ะะพะฝัะบะพะผ-ะะพัะฑัะฝะบะพะผ ะฝะฐ ะฟะตัะธะปะฐ ะฒะตัะฐะฝะดั ะธ ััะฐะปะฐ ะฟะธัะฐัั.

ะะปะฐะฒะฐ 5. ะะธะฝะฐ ะะฐัะตะฒัะบะฐั. ะั ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ ะบ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผั


โ ะั ัั ะธ ะฝะฐะบัััะธะป, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ. โ ะขั ััะพ, ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฒะพ ะฒัั ััะพ ะฒะตัะธัั?
โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฒัะฐัั ะฝะต ะฑัะดะตั, โ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะะตัั, โ ะดะฐ ะธ ะดัะดั ะคัะดะพั…
โ ะคะตะดั ะฒะตัะฝะพ ัััะพะธั ะธะท ัะตะฑั ัะฐะผะพะณะพ ัะผะฝะพะณะพ. ะ ัะฒะพะน ะะฝะดัะตะน ะฒะพะพะฑัะต ะฒะพะทะพะผะฝะธะป ัะตะฑั ัะฒะตัั
ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ, ะพั ะฝะตะณะพ ัะถะต ัะตะปะตัะพะฝ ะผะพะถะฝะพ ะทะฐััะถะฐัั.
ะะฝะธ ัะปะธ ั ะะตัะตะน ะฟะพ ัะทะบะพะผั, ะฒ ะฝะตัะพะฒะฝะพะน ะฟะปะธัะบะต, ััะพััะฐัั. ะะฐะฒัััะตัั ัะปะฐ ะฝะต ััะฐัะฐั ะตัั ัััะบะฐ, ัะฟะพัะบะฝัะปะฐัั, ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ ะฟัะธะฒััะฝะพะต ยซะณะพัะธ ะฒ ะฐะดัยป ะฒ ะฐะดัะตั ะฝัะฝะตัะฝะตะณะพ ะผััะฐ. ะกะพัะตะดะฝะธะน ะดะพะผ ั ะทะฐะฑะธััะผะธ ะพะบะฝะฐะผะธ (ะฟะพะด ัะฝะพั) ะทะฐัะตะฟะธะป ะะตัั ะทะฐ ะบะฐะฟััะพะฝ ะฑะพะปัะฐััะธะผะธัั ะฟัะพะฒะพะดะฐะผะธ. ะะฐัะฐัะฐ ะพัะฒะพะฑะพะดะธะปะฐ ะตะณะพ, ะพะณะปัะฝัะปะฐัั โ ััะณะฐัะตะปัะฝะฐั ัััะบะฐ ะธัะฟะฐัะธะปะฐัั, ะบะฐะบ ะฟัะธะฒะธะดะตะฝะธะต.
โ ะะพั ะฒะธะดะธัั! โ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปัั ะะตัั, โ ะทัะฑ ะดะฐั, ะพะฝะฐ ัะถะต ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต. ะัะฑะพัะบะธะน ะทัั ะฝะต ัะบะฐะถะตั.
โ ะะตัั! ะขะฒะพะน ะะฝะดัะตะน, ะบะฐะบ ะฒัะตะณะดะฐ, ัััะพะธั ัะตะพัะธะธ ะทะฐะณะพะฒะพัะฐ, ะฐ ัั ะฒะตะดััััั!
ะะตัั ั
ะผัะบะฝัะป. ะฃ ะะฐัะฐัะธ ะะฐัะฐะนัะตะฒะพะน ะฑัะปะฐ ะฝะตะถะฝะฐั ะฟัะธะฒััะบะฐ ะฝะฐะทัะฒะฐัั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ ะฟะพ ะธะผะตะฝะฐะผ, ะดะฐะถะต ะจะตัะณะฐ ะฒะพ ะฒัะตะผั ะฑะพะนะบะพัะฐ ั ะฝะตั ะพััะฐะฒะฐะปะฐัั ะะฝะตะน. ะะพะพะฑัะต ะะตัั ะฝะต ัะพะฑะธัะฐะปัั ะฝะธะบัะดะฐ ะธะดัะธ ั ะะฐัะฐัะตะน, ะพะฝะฐ ะฝะต ะบะฐะทะฐะปะฐัั ะตะผั ะธะฝัะตัะตัะฝะพะน. ะะฐัะฐัะฐ ะฑัะปะฐ ัะฐะผะฐั ะผะปะฐะดัะฐั ะฒ ะบะปะฐััะต ะธ โ ะพัะบัะพะฒะตะฝะฝะพ ะณะพะฒะพัั โ ะธะฝัะตะปะปะตะบัะพะผ ะฝะต ะฑะปะธััะฐะปะฐ. ะ ัะบะพะปะต ัััััั ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ัะพะปัะบะพ ะธะท-ะทะฐ ัะฒะพะธั
ะทะฒัะทะดะฝัั
ะพััะพะฒ, ะฝะพ ััะฐััะฐั ะกะพะฝั ะฑัะปะฐ ัะฟัััะฐั, ัะตััะพะปัะฑะธะต ะฝะต ะฟะพะทะฒะพะปัะปะพ ะตะน ััะธัััั ั
ัะถะต ะดััะณะธั
. ะะฐะปะตะฝัะบะฐั ะถะต ะะฐัะฐัะฐ ั
ะฒะฐัะฐะปะฐ ัะฒะพะธ ััะพะนะบะธ, ั
ะปะพะฟะฐะปะฐ ัััะฝัะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะธ ะฝะต ัะฐััััะฐะธะฒะฐะปะฐัั. ะะพั ะธ ัะตะนัะฐั ะพะฝะฐ ะทะฐะผะฐั
ะฐะปะฐ ััะบะฐะผะธ, ะบะฐะบ ัะพะปัะบะพ ะะตัั ะฟะพะฟััะฐะปัั ั
ะพัั ะบะฐะบ-ัะพ ะฟัะพะฐะฝะฐะปะธะทะธัะพะฒะฐัั ัะธััะฐัะธั.
โ ะัะฑะพัะบะธะน, ะผะพะถะตั, ะธ ัััะพะธั ัะตะพัะธะธ ะทะฐะณะพะฒะพัะฐ, ะฐ ะฒะพะดะพะบะฐัะบั ะฒะทะพัะฒะฐะปะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะะตัั โ ะฝะต ะฒะตัั, ะฐ ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะพะบะฐะถะตัััั ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต, ะบะฐะบ ะธััะตะทะฐััะธะต ะฟะตะฝัะธะพะฝะตัะบะธ. ะ ะฟะพัะพะผ ะธ ะฟะพะดะฐะปััะต.
ะะฐัะฐัะธะฝะฐ ะฑะตััะพะปะบะพะฒะพััั ะฝะฐัะธะฝะฐะปะฐ ะตะณะพ ัะฐะทะดัะฐะถะฐัั. ะะพั ััะพ ะตะต ยซะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฑัะดะตั, ะฐ ะตัะปะธ ะธ ะฑัะดะตั โ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะธะทะผะตะฝะธัั, ะฐ ั ัะฐะบ ะธ ะฑัะดั ั
ะปะพะฟะฐัั ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ั
ะพัั ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต, ั
ะพัั ะฒ ะััะพะฒะตยป.
โ ะงะตะณะพ ัั ะฟัะธะฒัะทะฐะปัั ะบ ะงะตััะฐะฝะพะฒั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ. โ ะะพัะผะฐะปัะฝัะน ัะฐะนะพะฝ… ะฃ ะผะตะฝั ัะฐะผ ะฑะฐะฑััะบะฐ ะถะธะฒะตั.
โ ะะพั ะธ ะฟะพะตะทะถะฐะน ะฒ ัะฒะพั ะงะตััะฐะฝะพะฒะพ, โ ะพะณััะทะฝัะปัั ะะตัั. ะ ะฒะพะพะฑัะต, ะะฐะปะฐััะฒะบั ะพะฝะธ ัะถะต ะฟัะพัะปะธ, ัะตะณะพ ะฒะพั ะะฐัะฐัะฐ ะทะฐ ะฝะธะผ ัะฐัะธััั, ะดะพะผะพะน ะฝะต ะธะดัั? ะะต ะพะฑะธะดะตะปะฐัั, ะฝั ะธ ะปะฐะดะฝะพ. ะััะฝัะปะธ ะฒะพ ะดะฒะพัั, ะณะดะต ะฒะพะทะปะต ะบะธะฝะพัะตะฐััะฐ ัะพั ััะฐััะน ะดัะฑ.
โ ะัะฑ ะฒะตะดั ัะพะถะต ัะฟะธะปัั? ะะฐะปะบะพ… ะ ะผั ััั ั ะะฝะดัะตะตะผ ะฒะพ ะฒัะพัะพะผ ะบะปะฐััะต ะถัะปัะดะธ ัะพะฑะธัะฐะปะธ, โ ะฝะพััะฐะปัะณะธัะตัะบะธ ะฟัะพะธะทะฝะตัะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ. โ ะะฝ ะฟะพัะพะผ ะฒ ะผะตะฝั ั ะฑะฐะปะบะพะฝะฐ ะบะธะดะฐะปัั…
ะะตัั ะฝะฐ ัะตะบัะฝะดั ะฟัะตะดััะฐะฒะธะป ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะธะฝัะตัะตััััะตะณะพัั ะถะตะปัะดัะผะธ. ะฅะผัะบะฝัะป. ะ ะฒะพะพะฑัะต ะะฐัะฐัะฐ ััะผะฐััะตะดัะฐั, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะัะฑ ะตะน ะถะฐะปะบะพ, ะฐ ะดะพะผะฐ ััะพ, ะฝะต ะถะฐะปะบะพ?
ะขัะตะฝัะบะฝัะป ัะตะปะตัะพะฝ. ะกะพะพะฑัะตะฝะธะต ะพั ะัะฑะพัะบะพะณะพ:
ยซะขะฐะนะฝะฐั ะฒะตัะบะฐ ะผะตััะพ. ะะฐะณะพะฒะพั ั
ะฐะผะพะฒะฝะธะบะพะฒ?ยป
ะะฐะบะธะต ะบ ัะตััั ะตัั ะฅะฐะผะพะฒะฝะธะบะธ, ััะพ ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะฐั ััะพัะพะฝะฐ; ััะพ ะพะฝะธ, ะฒัั ะะพัะบะฒั ะฝะฐะบััะปะธ, ััะพ ะปะธ? ะ ะฒ ะฅะฐะผะพะฒะฝะธะบะฐั
ะดะฐะฒะฝะพ ะตััั ะผะตััะพ, ะบัะฐัะฝะฐั ะฒะตัะบะฐ… ะคััะฝะทะตะฝัะบะฐั. ะะฐัะบ ะัะปััััั. ะงะตะณะพ ัะฐะผ ะตัั… ะฝะฐ ะะฆะ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ััะฐะฝัะธั…
ยซะะฐะณะพะฒะพั ั
ัะฐะผะพะฒะฝะธะบะพะฒยป, โ ะธัะฟัะฐะฒะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน. ะ, ัะฐะผะฟะปะธะตัั. ะัะฑะพัะบะธะน ะฒ ัะฒะพัะผ ัะตะฟะตัััะฐัะต. ะะพั… ะธะท-ะทะฐ ะพะดะฝะพะน ะฟะพัะตััะฝะฝะพะน ะฑัะบะฒั ะฒะตัั ัะผััะป… ั
ะพัั ะบะฐะบะพะน ััั ะฒะพะพะฑัะต ัะผััะป. ะะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฟะพะนะผััั, ะัะฑะพัะบะธะน ััะพ ะฒัะตัััะท ะธะปะธ ะพะฝะธ ั ะะตะนะฝะตะฝ ะฟัะธะดัะผัะฒะฐัั ัะฐะผ ะฒััะบัั ะฟััะณั. ะฅะพัั โ ั ะดััะณะพะน ััะพัะพะฝั โ ะฝะต ัะฐะท ัะถะต ะฒัั
ะพะดะธะปะพ, ััะพ ะฟััะณะฐ ะฐะฒัะพัััะฒะฐ ะทัะฑะฐััะพะน ะะตะนะฝะตะฝ ะพะบะฐะทัะฒะฐะปะฐัั ะฑะปะธะถะต ะฒัะตะณะพ ะบ ะธััะธะฝะต.
ะะตัะตั ะณะฝะฐะป ะฝะฐะฒัััะตัั ะฟััััั ะฟะธะฒะฝัั ะฑะฐะฝะบั, ะะตัั ะฝะฐัััะฟะธะป ะฝะฐ ะฝะตั, ัะผัะป โ ะธ ะฑะฐะฝะบะฐ ะฑัะดัะพ ะพะฑะฝัะปะฐ ะตะณะพ ะบะพะฝะฒะตัั, ะฟัะธัะตะฟะธะปะฐัั ะธ ั
ััััะตะปะฐ ะฟัะธ ะบะฐะถะดะพะผ ัะฐะณะต. ะะตัั ะทะฐะฟััะณะฐะป ะฝะฐ ะพะดะฝะพะน ะฝะพะณะต, ะพััะตะฟะปัั ะตะต, ะะฐัะฐัะฐ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั:
โ ะะฐะบะพะน ะถะต ัั ะะตัั… ะฒ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต!
ะะพะพะฑัะต, ะตะน ะฝัะฐะฒะธะปะฐัั ะะตัะธะฝะฐ ะฝะตะปะพะฒะบะพััั, ะดะฐ ะธ ะฒะตัั ะะตัั. ะฅะพัั, ะฝะฐะดะพ ะฟัะธะทะฝะฐัััั, ะะฐัะฐัะต ะฝัะฐะฒะธะปะธัั ะฒัะต. ะ ะขะพะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ, ะฟะพั
ะพะถะธะน ะฝะฐ ะฐะบัะตัะฐ ะะฐะผะฑะตัะฑัััะฐ, ะธ ะคะตะดั ะะพัะพั
ะพะฒ, ะธ โ ะบะฐะบ ะฑั ะฝะต ั
ะพัะตะปะพัั ัะบัััั ััะพ ะพั ัะฐะผะพะน ัะตะฑั โ ัะฒะตัั
ัะตะปะพะฒะตะบ ะัะฑะพัะบะธะน. ะะพ ะฒัะต ะพะฝะธ ะฒะธะดะตะปะธ ะฒ ะฝะตะน ะฒ ะฟะตัะฒัั ะพัะตัะตะดั ะดะพัั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ. ะะพะฝะตัะฝะพ, ะฒ ยซะะฒะตะฝะฐัะบะตยป ั ะผะฝะพะณะธั
ะฑัะปะธ ะทะฒัะทะดะฝัะต ัะพะดะธัะตะปะธ, ะฝะพ ะฝะต ั ะฒัะตั
ะถะต ััะพ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะพ ะฟััะผะพ ะฝะฐ ะปะธัะต, ะฐ ะปะธัะพ ะฝะต ัะฟัััะตัั. ะะพั ะถะต ัะณะพัะฐะทะดะธะปะพ โ ะะฐัะฐัะฐ ะฑัะปะฐ ัะถะฐัะฝะพ ะฟะพั
ะพะถะฐ ะดะฐะถะต ะฝะต ะฝะฐ ะพััะฐ, ะฐ ะฝะฐ ะดัะดั ะะตะฝั, ะบะพัะพััะน ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะปัะดะตะน ั ะบะฐะถะดะพะน ะฒัะพัะพะน ะบะธะฝะพะฐัะธัะธ. ะะฐัะฐัะฐ ะฟะพั
ะพะดะธะปะฐ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ะดะฐะถะต ะฑะพะปััะต, ัะตะผ ะกะพะฝั, ะตะณะพ ัะพะดะฝะฐั ะดะพัั. ยซะั
, ะฒั ะดะพัั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ?ยป โ ัะปััะฐะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ, ัะบะพะปัะบะพ ัะตะฑั ะฟะพะผะฝะธะปะฐ, ะธ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะพัะฒะตัะฐัั, ััะพ ะดะฐ, ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ… ะดะฐ ะฝะต ัะพะณะพ. ะะฐัะฐัะธะฝ ะพัะตั ะฒัะตะณะดะฐ ะถะธะป ะฒ ัะตะฝะธ ะฑัะฐัะฐ, ะฐ ะฟะพัะพะผ ะตัั ะฝะตะปะตะฟะฐั ัะผะตััั ะะฒะณะตะฝะธั, ะดะพ ัะธั
ะฟะพั ะบะพัะผััะฐั ะถััะฝะฐะปะธััะพะฒ ะถะตะปััั
ะธะทะดะฐะฝะธะน… ะะฐัะฐัะฐ ัะถะต ะฟัะธะฒัะบะปะฐ ะบ ะทะฐะณะพะปะพะฒะบะฐะผ ยซะจะพะบ! ะกะผะตััั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ ะธ ะฑะฐะฝะดะฐ ัััะฝัั
ะฐัั
ะตะพะปะพะณะพะฒ!ยป ะะธะฝะพะฒะฐัั ะฑัะปะธ ัะพ ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธ, ัะพ ัะตะบัะฐะฝัั, ัะพ ัะฟะตััะปัะถะฑั, ัะพ ะธะฝะพะฟะปะฐะฝะตััะฝะต; ะถััะฝะฐะปะธััั ะธะทะพัััะปะธัั ะฒ ะดะพะณะฐะดะบะฐั
. ะะฐะบะพะฒะพ ะฑัะปะพ ะกะพะฝะต โ ะปัััะต ะฝะต ะดัะผะฐัั. ะะพ ะกะพะฝั ัะผะตะปะฐ ัั
ะพะดะธัั ะพั ะฟะตัะตะถะธะฒะฐะฝะธะน ะธ ััะธัััั, ััะธัััั, ะบะฐะบ ะฟัะธั
. ะ ะะฐัะฐัะฐ ะพัะบะปััะฐัั ัะผะพัะธะธ ะฝะต ัะผะตะปะฐ. ะ ะฒะพะพะฑัะต, ะฑััั ะฒ ะฟะตัะฒัั ะพัะตัะตะดั ะดะพัะตััั ะธ ะฟะปะตะผัะฝะฝะธัะตะน ะตะน ะธะทััะดะฝะพ ะฝะฐะดะพะตะปะพ.
ะะพััะพะผั ะตะน ัะฐะบ ะปะตะณะบะพ ะฑัะปะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ั ะะตัะตะน, ะบะพัะพััะน ะพะดะฝะฐะถะดั ัะฟัะพัะธะป: ยซะะฐัะฐะนัะตะฒ? ะ ััะพ ะบัะพ ะฒะพะพะฑัะต?ยป
ะะฝะธ ะฒัะฝััะฝัะปะธ ะฝะฐ ััะผะฝัะต ัะปะธัั ะฑะปะธะถะต ะบ ัะตะฝััั, ะฑัััััะผ ัะฐะณะพะผ ะฟะตัะตัะปะธ ะพะฑะฐ ะผะพััะฐ ะธ ะดะฒะธะฝัะปะธัั ะดะฐะปััะต. ะะปั ะะตัะธ ััะพ ะฑัะป ะฟัะธะฒััะฝัะน ะฟััั โ ะพะฝ ะปัะฑะธะป ะพะฑั
ะพะดะธัััั ะฑะตะท ะผะตััะพ, ะบะตะดั ะฑัะดัะพ ัะฐะผะธ ะฒัััะธะปะธ ะฟััั ะดะพ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะณะพ. ะะพัะบะฒะฐ ัะพ ัะฐะทะฒะพัะฐัะธะฒะฐะปะฐัั ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ โ ัะตัะตะท ะผะพััั ะดะพ ัะฐะผะพะณะพ ะฃะฝะธะฒะตััะธัะตัะฐ, ัะพ ะพะฟััั ัะฒะพัะฐัะธะฒะฐะปะฐัั ัะทะบะธะผ ะฅะพั
ะปะพะฒัะบะธะผ ะฟะตัะตัะปะบะพะผ.
โ ะงัะพ ััะพ, ะพัะณะฐะฝ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ.
ะะตัั ะบะธะฒะฝัะป:
โ ะะฐ, ััะพ ะฒ ยซะะตััะต ะธ ะะฐะฒะปะตยป ัะตะฟะตัะธัััั.
ะััะตัะฐะฝัะบะธะน ัะพะฑะพั ัะพ ัะฒะพะธะผ ะพัะณะฐะฝะพะผ, ะพะทะฒััะธะฒะฐะฒัะธะน ะบัะธะฒัะต ะผะพัะบะพะฒัะบะธะต ัะปะธัั, ะฒัะทัะฒะฐะป ั ะะตัะธ ะปัะณะบะพะต ะบััะถะตะฝะธะต ะณะพะปะพะฒั.
ะะฐ ััะตะฝะต ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฑัะป ะฒััะตะทะฐะฝ ะบััะพะบ ัััะบะฐัััะบะธ, ะพะฑะฝะฐะถะธะปัั ะบะฒะฐะดัะฐั ะบัะฐัะฝะพะน ะบะธัะฟะธัะฝะพะน ะบะปะฐะดะบะธ. ะะฐัะฐัะฐ ะฟะพััะพะณะฐะปะฐ ะบะธัะฟะธั ะธ ัะตััะต ะฟััะฝะฐ ะฝะฐ ะฝัะผ:
โ ะกะผะพััะธ… ะ ััะฐัั ะธ ะดัะฐะบะพะฝ. ะขั ะฒะธะดะธัั?
ะะตััะบะธะน ัะฐะด… ะะตัั ะฒะณะปัะดะตะปัั ะฒ ะฟััะฝะฐ ะพััะฐะฒัะตะนัั ัััะบะฐัััะบะธ, ะฝะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ัะฒะธะดะตะป.
โ ะะฐะบะพะน ะตัั ัััะฐัั?
โ ะั, ะฝะต ะทะฝะฐั. ะขะฐะผะฟะปะธะตั.
ะะตัั ะฒะทะดัะพะณะฝัะป. ะะฐัะฐัะฐ ะฒะดััะณ ะฒััะฐัะธะปะฐ ะผะฐัะบะตั ะธ ะฟะพะดะฟะธัะฐะปะฐ ะฟััะผะพ ะฝะฐ ััะตะฝะต: ยซะ ััะฐัั ะฒะตัั
ะพะผ ะฝะฐ ะดัะฐะบะพะฝะตยป.
ยซะะพ ะดะฐัั. ะฃ ัะตะฑั ะฑั ะฝะฐ ััะตะฝะฐั
ะฟะธัะฐะปะฐยป, โ ั ะฝะตัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะตะผ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั. ะัั
ะพะดะธั, ะพะฝ ัะถะต ััะฒััะฒัะตั ัะตะฑั ะทะดะตัั ัะฒะพะธะผ? ยซะกะฝะตััั ะะฐะปะฐัะตะฒะบั โ ะพััะฐะฝััั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผยป, โ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฟะพะดัะผะฐะป ะพะฝ.
ะะฝ ััะป, ะฑัะดัะพ ัะพะฒัะตะผ ะบ ัะตะฑะต ะดะพะผะพะน. ะขะฐะผ ัะธั
ะพ… ะผะพะถะฝะพ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะฟะพะดัะผะฐัั… ะขะพะปัะบะพ ะะฐัะฐัะฐ-ัะพ ะตะผั ะทะดะตัั ะทะฐัะตะผ?
โ ะะธัะตะณะพ, ััะพ ั ั ัะพะฑะพะน ะธะดั ะฒะดััะณ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ. ะะตัั ะฒะทะดัะพะณะฝัะป ะธ ะฑัะดัะพ ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป ัะตะฑั ะฒะธะฝะพะฒะฐััะผ. ะ ััั ะถะต ะปัะฟะฝัะป:
โ ะ ั ะผะตะฝั, ะบััะฐัะธ, ััั ะบะฒะฐััะธัะฐ.
โ ะงะตะณะพ? โ ะพะฟะตัะธะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ. โ ะะฐะบะฐั ะตัั ะบะฒะฐััะธัะฐ?
โ ะั, โ ะะตัั ะทะฐะผัะปัั, โ ััะพ… ะัะตั ะพััะฐะฒะธะป. ะะฐัะปะตะดััะฒะพ.
ะะฐัะฐัะฐ ะฟัะธัะฒะธััะฝัะปะฐ, ะบะฐะบ ะฟะฐัะฐะฝ:
โ ะะธัะตะณะพ ัะตะฑะต. ะขะพ ะตััั ััะพ ะฟัะฐะฒะดะฐ, ััะพ ะปะธ? ะขะฒะพะน ะพัะตั ะพะปะธะณะฐัั
? ะฏ ะดัะผะฐะปะฐ, ะฒััั ะฒัะต…
โ ะะพั ะฒะธะดะธัั. ะะฝะพะณะดะฐ ัะฐะผัะต ะฝะตะฒะตัะพััะฝัะต ัะตะพัะธะธ ะพะบะฐะทัะฒะฐัััั ะฟัะฐะฒะดะพะน, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ะะตัั (ะพะฝ, ะบััะฐัะธ, ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฝะต ัะผะตะป ัะฒะธััะตัั). โ ะะฐะนะดััั?
ะะพะฝััะตัะถ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะตัั ะฝะตะพะดะพะฑัะธัะตะปัะฝะพ, ะฝะพ ะฟัะพะผะพะปัะฐะป. ะะฐัะฐัะฐ ะฒะดััะณ ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะฐ:
โ ะงัะพ ะพะฝ ะฟัะพ ะฝะฐั ะฟะพะดัะผะฐะป?
โ ะััะฝะดะฐ, โ ะพัะผะฐั
ะฝัะปัั ะะตัั: ะตะณะพ ะณะพะปะพะฒะฐ ะฑัะปะฐ ะทะฐะฝััะฐ ะดััะณะธะผ.
ะะฝ ะฒะฝัััะตะฝะฝะต ะฟะพะผะพััะธะปัั, ะฟัะตะดะฟะพะปะฐะณะฐั ะะฐัะฐัะธะฝั ะฒะพััะพัะณะธ ะฟะพ ะฟะพะฒะพะดั ะบะฒะฐััะธัั. ะะพั ะถะต ะดััะฐะบ, ะฝะต ัะผะพะณ ะพัะฒัะทะฐัััั. ะะพ ะะฐัะฐัะฐ ะฝะธัะตะณะพ ัะฐะบะพะณะพ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะฝะต ัะบะฐะทะฐะปะฐ, ะฐะบะบััะฐัะฝะพ ัะฝัะปะฐ ะบัะพััะพะฒะบะธ (ะะตัั ะถะต ั
ะพะดะธะป ะฟััะผะพ ะฒ ะบะพะฝะฒะตััะฐั
ะธ ะฝะต ะฟะฐัะธะปัั) ะธ ััะฐะทั ะฑัะพัะธะปะฐัั ะบ ัะพัะพะณัะฐัะธะธ ะฝะฐ ะบะฝะธะถะฝะพะน ะฟะพะปะบะต:
โ ะะน, ะบะฐะบะพะน ะบะพัะธะบ!
ะะฐ ัะฝะธะผะบะต ะะธัะธะปะป ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธั ะบะพัะฟะปะตะธะป ะธะทะฒะตััะฝัั ัะพัะพะณัะฐัะธั ะฐะบะฐะดะตะผะธะบะฐ ะะฝะพัะพะทะพะฒะฐ, ะณะดะต ัะพั ัะพะถะต ะฑัะป ะธะทะพะฑัะฐะถัะฝ ั ะบะพัะพะผ. ะญัะพะณะพ ะบะพัะฐ, ะบััะฐัะธ, ะะฝะพัะพะทะพะฒ ะฟััะฐะปัั ะบะฐะบ-ัะพ ะฟัะพัะฐัะธัั ะฒ ัะพะฐะฒัะพัั ะฝะฐััะฝะพะน ััะฐััะธ. ะะพัะฐ ะถะต ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ ะะตัั ะฝะต ะทะฝะฐะป. ะั
ะฝะต ะทะฝะฐะบะพะผะธะปะธ.
โ ะขะฒะพะน ะพัะตั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ, ะธะทััะฐั ัะพ ัะพัะพะณัะฐัะธั, ัะพ ะะตัะธะฝะพ ะปะธัะพ, โ ะดะฐ, ะฒัะพะดะต ะฝะฐ ัะตะฑั ะฟะพั
ะพะถ…
ะะตัั ะฐะถ ะฟะพะฟะตัั
ะฝัะปัั: ะปะธัะพ ะฝะฐ ัะพัะพะณัะฐัะธะธ ะธะผะตะปะพ ะดะพะฒะพะปัะฝะพ ะธะฝัะตัะฝะฐะปัะฝะพะต ะฒััะฐะถะตะฝะธะต… ัะตะณะพ ัะฐะผ ะฟะพั
ะพะถะตะณะพ?
โ ะ ั ะตะณะพ ะทะฝะฐั ะฒะพะพะฑัะต, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะฒะดััะณ ะะฐัะฐัะฐ.
โ ะะฐะบ ะทะฝะฐะตัั?! ะัะบัะดะฐ?
โ ะั, ั ะฟะฐะฟั ะฒะตัะฝะพ ะฝะฐัะพะดั ัะพะปัะตััั, ะพะฝ ะปัะฑะธั ะณะพััะตะน… ั
ะพะดะธั ะบัะพ ะฟะพะฟะฐะปะพ, ัะพ ะตััั… ะธะทะฒะธะฝะธ. ะัะพััะพ ั ะฝะฐั ะฝะต ะดะพะผ, ะฐ ะฟัะพั
ะพะดะฝะพะน ะดะฒะพั. ะะฐะฟะฐ ะณะพะฒะพัะธั, ััะพ ะดะปั ะฟัะพัะตััะธะธ ะฝัะถะฝะพ. ะะณัะฐะตัั ะฟัะพัะตััะพัะฐ ัะธะทะธะบะธ โ ะพะฑัะฐะตัััั ั ัะธะทะธะบะฐะผะธ. ะะฐะฝะดะธัะฐ โ ั ะฑะฐะฝะดะธัะฐะผะธ…
โ ะะฐะผะฟะธัะฐ โ ะธัะตัั ะบะพะฝัะฐะบัั ั ะฟะพััััะพัะพะฝะฝะธะผ ะผะธัะพะผ, โ ะฟะพะดะบะพะปะพะป ะะตัั (ะฐ ะณะพะฒะพัะธะป, ะฝะต ะทะฝะฐะตั, ะบัะพ ัะฐะบะพะน ะะฐัะฐะนัะตะฒ!).
ะะฐัะฐัะฐ ัะตัะฟะตัั ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ัะธะปัะผ, ะณะดะต ะพัะตั ะธะณัะฐะป ะฒะฐะผะฟะธัะฐ, ะฟะพััะพะผั ะฟะพัะฟะตัะธะปะฐ ะฟัะพะดะพะปะถะธัั:
โ ะัั
ะตะพะปะพะณะฐ โ ั ะฐัั
ะตะพะปะพะณะฐะผะธ… ะดะฐ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะฟัะพััะพ ะฟะฐะฟะฐ ะปัะฑะธั ัััะพะฒะฐัััั, ะฟัะธะฝะธะผะฐัั ะณะพััะตะน. ะฅะพะดัั, ั
ะพะดัั… ัะฐััะพ ะทะฝะฐะบะพะผัะต ะปะธัะฐ, ะฐ ะฟะพัะพะผ ะธ ะฝะต ะฟะพะนะผััั, ะณะดะต ะฒะธะดะตะปะฐ โ ัะพ ะปะธ ะฝะฐ ยซะะพะถะดะตยป, ัะพ ะปะธ ะฒ ัะตะบะปะฐะผะต ะะฐะบะดะพะฝะฐะปัะดัะฐ.
โ ะขะฐะบ ัะฒะพะน ะพัะตั ัะฐะทะฒะต ะฝะต ัะผะตั? โ ะปัะฟะฝัะป ะะตัั.
โ ะญัะพ ะกะพะฝะธะฝ ะถะต ัะผะตั, โ ะะฐัะฐัะฐ ัะตะบัะฝะดั ะดัะผะฐะปะฐ, ััะพะธั ะปะธ ะตะน ะพะฑะธะถะฐัััั, ะฝะพ, ะฒ ะพะฑัะตะผ, ััั ั ะฝะตั ะพะดะฝะพะน ะฑัะป ะถะธะฒะพะน ะพัะตั, ัะฐะบ ััะพ ะฝะตัะตะณะพ. โ ะ… ะฟะพััะพะน… ะบะฐะถะตััั, ะฝะฐ ะฟะพั
ะพัะพะฝะฐั
ะดัะดะธ ะะตะฝะธ ะบะฐะบ ัะฐะท ะฒะพั ััะพั ัะฒะพะน ะธ ะฟัะธั
ะพะดะธะป… ัะพัะฝะพ, ะพะฝ ะฑัะป!
ะะตัั ะบัะพ-ัะพ ะฑัะดัะพ ะดััะฝัะป ะทะฐ ัะทัะบ, ะธ ะพะฝ ัะฟัะพัะธะป:
โ ะ ะจะตัะณะธะฝัะบะพะณะพ ะพััะฐ ัะฐะผ ัะปััะฐะนะฝะพ ะฝะต ะฑัะปะพ?
โ ะะฝะธะฝะพะณะพ? ะะพะฝะตัะฝะพ. ะะฝะธ ะฒะพะพะฑัะต ั ะดัะดะตะน ะะตะฝะตะน ะดััะถะธะปะธ.
ะะตัะธะฝ ัะตะปะตัะพะฝ ัะฝะพะฒะฐ ะดััะฝัะปัั. ะกะผั:
ยซะะฐ ะผะตััะต ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ ะพะฑะฝะฐััะถะตะฝ ัะฐะนะฝัะน ั
ะพะด. ะะฐะปะพะถะตะฝ ะบะธัะฟะธัะพะผยป.
ะะพั ะถะต ะัะฑะพัะบะธะน, ะฝะตัะณะพะผะพะฝะฝะฐั ัะฐะฑะพัะฐ ะผััะปะธ…
ะกัะพะฟ.
ะญัะพ ะฝะต ะัะฑะพัะบะธะน. ะกะผั ะฟัะธัะปะพ ะพั ะะพัะพั
ะพะฒะฐ.
ะขะฐะนะฝัะน ั
ะพะด. ะขะฐะผะฟะปะธะตัั. ะะฐัะฐัะฐ… ะฝะตั, ะะตัั ะฒัะพะดะต ะฑั ะตัั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะธะป… ะะตะปัะทั, ะฝะตะพะฑั
ะพะดะธะผะฐ ััะฝะพััั ะผััะปะธ.
โ ะ ัะฒะพะน ััะพั… ะดัะดั ะะตะฝั, โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั, โ ะพะฝ ะณะดะต ัะฝะธะผะฐะปัั? ะะฐะบัั ัะพะปั ะธะณัะฐะป, ะฟะพัะปะตะดะฝัั? ะั, ั ะบะตะผ ะพะฑัะฐะปัั?
โ ะะฐ ะพะฝะธ ั ะฟะฐะฟะพะน ะฒะผะตััะต… ัะฐะผ ัะตัะธะฐะป ะบะฐะบะพะน-ัะพ, ะธััะพัะธัะตัะบะธะน. ะะฝะธ ัะพะณะดะฐ ัะฐะบ ะทะฐะณััะทะธะปะธัั ะธััะพัะธะตะน, ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธะตะน… ัะตัั ะทะฝะฐะตั, ะดะพะบัะผะตะฝัั ะบะฐะบะธะต-ัะพ ะธัะบะฐะปะธ ะฟัะพ ะฝะฐั ะบะฒะฐััะฐะป.
โ ะัะพ ะะฐะปะฐััะฒะบั? โ ะฑััััะพ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั. ะะฝ ัะผััะฝะพ ะฟะพะผะฝะธะป, ััะพ ัะผะตััั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ ะฑัะปะฐ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฝะตะฟัะพััะพะน, ัะฒัะทะฐะฝะฝะพะน… ั ัะตะผ? ะ ัะตะปะพ ัะพ ะปะธ ะฝะฐัะปะธ, ัะพ ะปะธ ะฝะตั…
โ ะะพะถะตั, ัะฒะพะธ ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะธะท-ะทะฐ ััะพะณะพ ะพะฑัะฐะปะธัั ั ะผะพะธะผ ะพััะพะผ? โ ััะฐะป ะดัะผะฐัั ะพะฝ. โ ะะฝ ัะพะถะต ะฒัะพะดะต… ะธััะพัะธะตะน ัะฒะปะตะบะฐะปัั. ะขะพะถะต… ะฟัะพ ะะฐะปะฐััะฒะบั ะตััั ะดะพะบัะผะตะฝัั…
โ ะะตัั, โ ัะฐะบ ะถะต ะฑััััะพ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ. โ ะ ัะฒะพะน ะพัะตั. ะะฝ ะฒะพะพะฑัะต… ัะผะตั ะพั ัะตะณะพ?
โ ะั ััะฐัะพััะธ, โ ะพัะผะฐั
ะฝัะปัั ะะตัั.
โ ะงะตะณะพ-ัะพ ะผะฝะต ะฝะต ะฝัะฐะฒะธััั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ, โ ะบะพะณะดะฐ ะปัะดะธ ัะผะธัะฐัั. ะัะพะฑะตะฝะฝะพ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ.
โ ะัะพััะธ, โ ะะตัั ัะฝัะป ะพัะบะธ, ะฟะพััั ะฟะตัะตะฝะพัะธัั, โ ะผะฝะต ะฝัะถะฝะพ ะทะฐะดะฐัั ัะตะฑะต ะธะดะธะพััะบะธะน ะฒะพะฟัะพั. ะ ัะฒะพะตะณะพ ะดัะดั ะะตะฝั… ะฒะพะพะฑัะต ะฝะฐัะปะธ?
โ ะะฐ… ัะพะปัะบะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะตะฟะพะฝััะฝะพ. ะขะพ ะปะธ ะพะฝ… ัะพ ะปะธ… ะ ััะพ?
โ ะ ัะพ. ะ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต ะธัะบะฐัั ะฝะต ะฟัะพะฑะพะฒะฐะปะธ?
ะะปะฐะฒะฐ 6. ะะปะตะบัะตะน ะกะฐะปัะฝะธะบะพะฒ
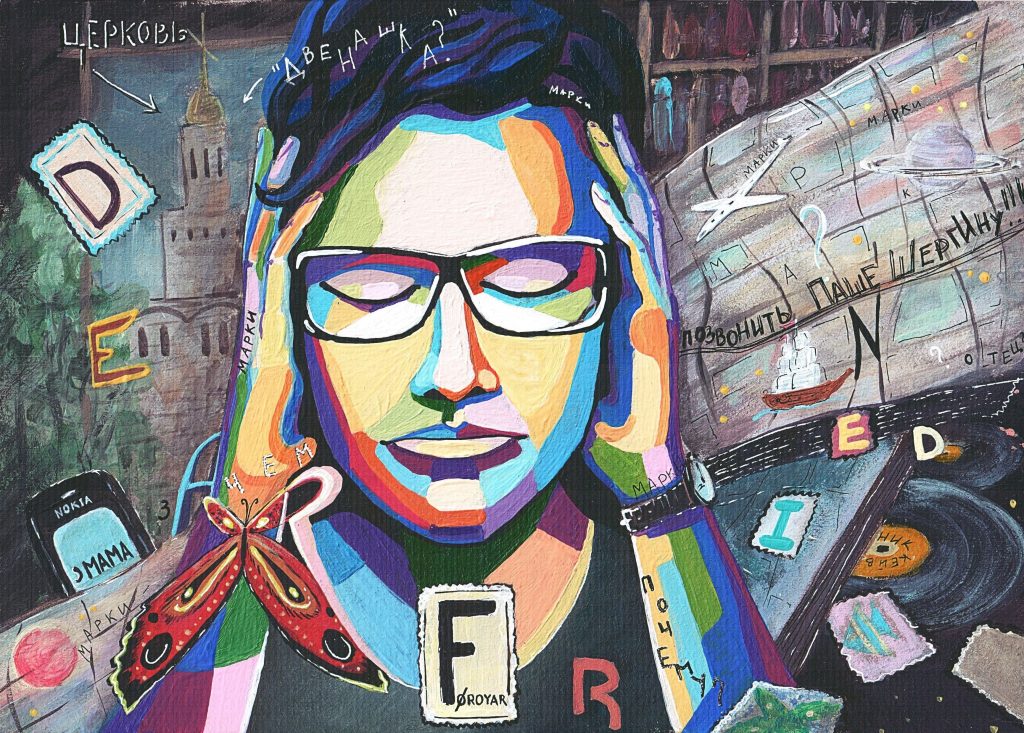

ะััะพั ะฝะฐ ะผะตััะต ัะฝะตัะตะฝะฝะพะน ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ัะฐััะธััะธะปะธ, ัะฐะผะพ ะผะตััะพ ะพะณะพัะพะดะธะปะธ ะบัะฐัะฝัะผะธ ะธ ะฑะตะปัะผะธ ะฟะปะฐััะธะบะพะฒัะผะธ ัะตะบัะธัะผะธ, ัะตะผ-ัะพ ะฟะพั ะพะถะธะผะธ ะฝะฐ ะณะธะณะฐะฝััะบะธะต ะดะตัะฐะปะธ LEGO. ะะพ ะฟััะธ ะฒ ัะบะพะปั ะธ ะดะพะผะพะน ะัะฑะพัะบะธะน ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ะทะฐะณะปัะดัะฒะฐะป ะฒ ัะผั, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ะธะผะตะปะพัั ะตัะต ะพะดะฝะพ ัะณะปัะฑะปะตะฝะธะต, ะณะดะต ะบะธัะฟะธัะฝัั ะบะปะฐะดะบั ัะฑัะฐะปะธ, ะฟัะตะดะฒะบััะฐั, ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ะฟะพะดะทะตะผะฝัะน ั ะพะด ะธะปะธ ััะฝะดัะบ ั ัะพะบัะพะฒะธัะตะผ. ะะดะฝะฐะถะดั ะฒะตัะตัะพะผ ะะฝะดัะตะน ะดะฐะถะต ัะฟัััะธะปัั, ััะพะฑั ะฟะพัะผะพััะตัั, ััะพ ัะฐะผ, ั ะพัั ะฒัะต ะธ ัะฐะบ ะทะฝะฐะป ะธะท ะฝะพะฒะพััะตะน. ะััะฐัะบะธ ะฟะตัะบะธ, ะผะตัะปะฐ, ัะณะพะปัะฝะฐั ะฟัะปั ะฝะฐ ะฟะพะปั โ ะฒะพั ะธ ะฒัะต ะดะพะฑัะพ, ััะพ ัะฐะผ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะพัั. ะะฝะดัะตะน ััะฒััะฒะพะฒะฐะป ะฝะตะปะพะฒะบะพััั, ะบะพะณะดะฐ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะป ะพ ัะพะผ, ะบะฐะบ ะฝะฐะดะตัะปัั ะฝะฐ ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะต, ััะพะฑั ัะฐะผ ะฑัะปะฐ ะฝะฐั ะพะดะบะฐ (ััะพ ะทะฐ ะฝะฐั ะพะดะบะฐ, ะะฝะดัะตะน ะฝะต ะผะพะณ ะฟัะธะดัะผะฐัั), ะบะพัะพัะฐั ะฑั ะฟะพะผะตัะฐะปะฐ ัััะพะนะบะต.
ะะฝ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะป, ะบะฐะบ ัะตะปะตะฒะตะดััะธะน, ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฝะตะพัะปะธัะธะผัะน ะพั ะดััะณะธั ัะตะปะตะฒะตะดััะธั ะผะตััะฝะพะณะพ ะบะฐะฝะฐะปะฐ, ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะฝะตัะทะฝะฐะฒะฐะตะผัะน ะฒ ัะพะปะฟะต, ะบะพะณะดะฐ ะพะบะฐะทัะฒะฐะปัั ะฒะฝะต ัะบัะฐะฝะฐ, ั ะปะตะฝะธะฒัะผ ัะฐะทะพัะฐัะพะฒะฐะฝะธะตะผ ะฒ ะณะพะปะพัะต ะพัะฒะตัะฐะป ัะพ, ะบะฐะบ ะปะพะผะฐะปะธ ะบะปะฐะดะบั. ะัะฑะพัะบะธะน ะดะพะณะฐะดะฐะปัั ะฝะต ัะพะฒะฐัััั ะบ ัะตะปะตะบะฐะผะตัะต, ะฝะพ ะทะฐัะตะผ, ะบะพะณะดะฐ ััะถะตั ะฟะพะฟะฐะป ะฝะฐ ััััะฑ, ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฟะตัะตัะผะพััะตะป ะตะณะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท, ะฟััะฐััั ะทะฐัะตะผ-ัะพ ัะฐะทะปะธัะธัั ัะฒะพะต ะฟัะธัััััะฒะธะต ะทะฐ ะบะฐะดัะพะผ. ะะฐะผะตัะฐ ะฟะพััะธ ะฟะพะฒัะพััะปะฐ ะฒะทะณะปัะด ัะพะณะดะฐัะฝะตะณะพ ะะฝะดัะตั โ ะพะณะปัะดัะฒะฐะปะฐ ัะตะฒะตะปะตะฝะธะต ะฝะตะผะฝะพะณะพัะธัะปะตะฝะฝัั ะปัะฑะพะฟััััะฒัััะธั ะธ ะผะตัะฝัะต ะฒะทะฑะปะตัะบะธ ะผะตัะฐะปะปะธัะตัะบะพะณะพ ะปะพะผะฐ, ะบะพัะพััะผ ะพั ะฐะถะธะฒะฐะปะธ ะบะปะฐะดะบั ะฟะพะทะฐะดะธ ัะตะปะตะบะพััะตัะฟะพะฝะดะตะฝัะฐ.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะต ะทะฝะฐะป ัะฒะตัะดะพ, ะฝะพ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะปัั, ััะพ ัะตะฐะปัะฝะพััั ัะพัะบะฐะฝะฐ ะฒัะต ะถะต ะฝะต ะธะท ัะพะฟะพัะฝัั ั ะพะดะพะฒ, ััะพ ะฝะฐ ะปัะฑะพะต ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะพะต ะดะตะนััะฒะธะต ั ะถะธะทะฝะธ ะธะผะตะตััั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฝะตะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผัะน ะพัะฒะตั. ะะฝะฐัะต ะบะฐะถะดัะน ะฒัะฟััะบะฝะธะบ ะธะฝััะธัััะฐ ััั ะถะต ัะตะป ะฑั ะฝะฐ ะปัะฑะธะผัั ัะฐะฑะพัั, ะณะดะต ะดะพ ััะฐัะพััะธ ะฟัะพะดะฒะธะณะฐะปัั ะฟะพ ะบะฐััะตัะฝะพะน ะปะตััะฝะธัะต ะบ ัะฒะพะตะผั ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธั, ะฐ ะปัะฑะพะน ะฐะบัะตั, ัะปะตะดัั ัะตัะตะฟัั ะฟัะตะดัะดััะธั ะฐะบัะตััะบะธั ะฟะพะบะพะปะตะฝะธะน, ััะฐะฝะพะฒะธะปัั ะฑั ะทะฒะตะทะดะพะน ัะตะฐััะฐ ะธะปะธ ะบะธะฝะพ. ะญัะพ ะฑัะป ัััะฐะฝะฝัะน ะปะพะณะธัะตัะบะธะน ะฒัะฒะพะด, ะบะพัะพััะน, ะฟะพั ะพะถะต, ะพััะฐััะธ ะพะฟะธัะฐะปัั ะฝะฐ ะฒัะต ัะต ัะปััะฐะธ, ะบะพะณะดะฐ ะะฝะดัะตะน ะฑัะป ะดะพัะบะพะปัะฝะธะบะพะผ, ะฐ ะบัะพ-ะฝะธะฑัะดั ะธะท ัะพะดะธัะตะปะตะน ะฟัะธะฝะพัะธะป ะดะพะผะพะน ััะตะดะพะฑะฝัั ะตััะฝะดั, ะดะฐ ัะต ะถะต ยซะบะธะฝะดะตััยป, ะธ ัะพะพะฑัะฐะป, ััะพ ััะพ ะะฝะดัััะต ะฟะตัะตะดะฐะป ะทะฐะนัะธะบ, ะฒัััะตัะตะฝะฝัะน ะฟะพ ะดะพัะพะณะต. ะ ะปัะฑะพะผ ัะปััะฐะต ััะฐ ะฝะตัะดะฐัะฐ ั ะฝะฐะนะดะตะฝะฝะพะน ะฟัะธ ัะฝะพัะต, ะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะทะฐะณะฐะดะพัะฝะพะน ััะตะฝะบะพะน ะฒ ะฟัััะพะน ะบะฐะผะพัะบะต, ะฝะตะบะพัะพััะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ ะฒะทะฑะพะดัะธะปะฐ ะะฝะดัะตั. ะะธะทะฝั ะบะฐะบ ะฑั ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะผั: ยซะะพั ัะตะนัะฐั ะตัะปะธ ัะดะฐัััั, ะฑะพะปััะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฑัะดะตั, ะฐ ะตัะปะธ ะฝะต ัะดะฐัััั โ ั ะผะตะฝั ะตััั ะฝะพะฒัะต ัััะฟัะธะทัยป. ะงัะพะฑั ะพะฑัััะฝะธัั ะฒัั ััั ะผััะปั ะฝะต ััะพะปัะบะพ ะดััะณะธะผ, ัะบะพะปัะบะพ ัะฐะผะพะผั ัะตะฑะต, ะพะฝ ัะตัะธะป ัะพะฑัะฐัั ะฒัะตั ยซะฟะตัะตัะตะปะตะฝัะตะฒยป ะธะท ะบะปะฐััะฐ ะธ ะฟะพะณะพะฒะพัะธัั ะพะฑ ััะพะผ.
ะ ะตัะตะฝะพ ะฑัะปะพ ะฒัััะตัะธัััั ะฒ ะบะพัะตะนะฝะต ะฝะตะฟะพะดะฐะปะตะบั ะพั ัะบะพะปั, ะฝะพ ั ะะธะทั ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะธัั ะดะตะปะฐ, ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะถะต ัะปะธะปะธัั ะดััะณะธะผ, ะฑะพะปะตะต ะดะพั ะพะดัะธะฒัะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ โ ะฟัะพััะพ ะฟะพัะปะฐะปะธ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฟะพะดะฐะปััะต ะธ ะฝะธะบะฐะบ ััะพ ะฝะต ะพะฑัััะฝะธะปะธ, ัะพะปัะบะพ ัััั ะฟะพะทะถะต ะฒะบะธะฝัะปะธ ะฒ ะณััะฟะฟั ัะฒะพะธ ัะตะปัะธ ะธะท ะบะธะฝะพัะตะฐััะฐ.
ะกะปะตะณะบะฐ ะทะฐััะพะฟะพัะธะปะธัั ั ะดะฒะตัะตะน ะบะพัะตะนะฝะพะณะพ ะทะฐะฒะตะดะตะฝะธั, ะฟะพัะบะพะปัะบั ะคะตะดั, ะฝะต ะพัััะฒะฐััั ะพั ัะตะปะตัะพะฝะฐ, ัะดะตะปะฐะป ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฟะพะฟััะพะบ ัััะตะปัะฝััั ัะธะณะฐัะตัั ั ะฟัะพั ะพะถะธั . ะะพ ัะต ะฝะฐ ะณะปะฐะท ะพะฟัะตะดะตะปัะปะธ ะตะณะพ ะฒะพะทัะฐัั ะธ ะพัะผะฐั ะธะฒะฐะปะธัั.
— ะขั ะฑั ั ะพัั ะฒะตะนะฟะธะป, ััะพ ะปะธ, โ ั ะดะพัะฐะดะพะน ัะบะฐะทะฐะป ะตะผั ะะฝะดัะตะน, ะฝะพ ะคะตะดะพั ะพัะผะฐั ะฝัะปัั ะพั ะฝะตะณะพ ัะฐะบ ะถะต, ะบะฐะบ ะพั ัะฐะผะพะณะพ ะคะตะดะพัะฐ ะพัะผะฐั ะธะฒะฐะปะธัั ะฟัะพั ะพะถะธะต.
ะะฐะบะพะฝะตั ะคะตะดะต ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ัะดะฐัะฐ: ะฝะตะบะธะน ะถะตะปััะน ะธ ั ัะดะพะน ะณัะฐะถะดะฐะฝะธะฝ, ะฟะพั ะพะถะธะน ะฝะฐ ั ะพะดัััั ะฐะณะธัะบั ะฐะฝัะธัะฐะฑะฐัะฝะพะน ะบะฐะผะฟะฐะฝะธะธ, ะฒ ะถะตะปััั ะพั ะฝะธะบะพัะธะฝะฐ ะฟะฐะปััะฐั ะฟัะพััะฝัะป ะะพัะพั ะพะฒั ะฟะพะปัะฟััััั ะพัะบััััั ะฟะฐัะบั.
— ะขะฐะบะพะต ะฑัะฐัั, โ ัะฝะพะฒะฐ ะฝะต ัะดะตัะถะฐะปัั ะัะฑะพัะบะธะน, ะบะฐะบ ัะพะปัะบะพ ัะตะดััะน ะผัะถัะธะฝะฐ ัะดะฐะปะธะปัั ะฝะฐ ะฝะตะบะพัะพัะพะต ัะฐัััะพัะฝะธะต, โ ััะพ ะถ ััะฑะตั ั ะพะดััะธะน, ะบะฐะฟะตั, ะพะฝ ััะดะฐ ััะบะฐะผะธ ะปะฐะทะธะป, ะฐ ัั ะฒะพะฝ ััะตัั.
— ะะน, ะธะดะธ ะปะตัะพะผ, โ ะพัะฒะตัะฐะป ะคะตะดั, ะฝะต ะฒัะฟััะบะฐั ะดัะผััะตะนัั ัะธะณะฐัะตัั ะธะทะพ ััะฐ. โ ะะฐ ะะฝัะบะธะฝัั ัััะพะฒะบะฐั ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพ ะบะฐะบะธะผะธ ััะบะฐะผะธ ััะพ ะฟัะธะฝะพััั, ะธ ะฝะธัะตะณะพ, ะฝะธะบะฐะบะธั ะฒะพะฟัะพัะพะฒ, ั ะพัั ะฒ ะดะพะผะต ัะพะฒัะตะผ ััะถะธะต ะปัะดะธ, ะผะพะถะฝะพ ัะบะฐะทะฐัั, ะธ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพ, ะบะฐะบ ะพะฝะธ ะบ ะะฝัะบะต ะพัะฝะพััััั, ะบ ะตะต ะผะฐัะตัะธ ะธ ะบ ะตะต ะพััั, ะบ ะตะต ะณะพัััะผ. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ััะพ ะฒะพะฒัะต ะฑะตะท ะปัะฑะฒะธ.
ะัะต ััะพะต ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะธ ยซะะพะนัะพะฒัะบะธะน ะบะปัะฑยป ะธ ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปะธัั.
— ะ ะฒะพั ะทะฐะฑะฐะฒะฝะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั ัะถะต ั ััะพะนะบะธ, โ ะฟะพัะตะผั ะฒ ะบะพัะตะนะฝัั ะฒัะตะณะดะฐ ัะธั ะพ ะธ ะบะพะปะพะบะพะปััะธะบ ะทะฒะตะฝะธั ั ะฒั ะพะดะฐ, ะฐ ะฒ ะฟะฐะฑะฐั ะฒัะตะณะดะฐ ะพั, ะธ ะฒะพะพะฑัะต, ะฒ ัะฐััััะดะฐั ะผัะทัะบะฐ ะฝะฐ ะฒัั ะบะฐัััะบั, ะฐ ะฒ ะบะพัะตะนะฝัั โ ะฝะตั.
— ะะพะถะฝะพ ะฟะพะดัะผะฐัั, ัั ะฑัะป ะฒ ะฟะฐะฑะฐั , โ ะฟะพะดะดะตะป ะัะฑะพัะบะธะน.
— ะะพะถะฝะพ ะฟะพะดัะผะฐัั โ ะฝะตั, โ ะฟะพะดะดะตะป ะตะณะพ ะฒ ะพัะฒะตั ะคะตะดั.
— ะะฐะฒะฐะน ะตัะต ัะฐััะบะฐะถะธ, ะบะฐะบ ัั ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ะดััะทััะผะธ โ ะณะธะบะฐะผะธ, ะฟะพะบะปะพะฝะฝะธะบะฐะผะธ ัััะตัะพะฒ ะธ ัะฟะณ โ ะทะฐะฒะฐะปะธะปัั ะฒ ะฟะธะฒะฝัั ะธ ะดัะฐะบั ััััะพะธะป ั ัััะฑะพะปัะฝัะผะธ ัะฐะฝะฐัะฐะผะธ.
ะะพัะพั ะพะฒ ะดะพัะฐะดะปะธะฒะพ ะบััะบะฝัะป, ะฝะพ ะฝะต ะฝะฐ ัะฐัะบะฐะทะผ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะฐ ัะพะผั, ััะพ ะฟัะพะธะทะพัะปะพ ะฝะฐ ัะบัะฐะฝะต ัะผะฐัััะพะฝะฐ. ะะดะฝะฐะบะพ ะฟะตัะตัะบะพัะธะป ะฝะฐ ะดััะณัั ัะตะผั:
— ะ ะตัะต ัะดะธะฒะปััั ััะธ ะปัะดะธ ั ะฝะพััะฐะผะธ, ะบะพัะพััะต ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ ัะธะดัั, ะบะฐะบ ะฑั ัะฐะฑะพัะฐัั ะฝะฐะด ัะตะผ-ัะพ, ะฝะพ ะฝะธ ัะฐะทั ะฝะต ะฒะธะดะตะป, ััะพะฑั ะบัะพ-ัะพ ะฝะฐะฟััะถะตะฝะฝะพ ััะพ-ัะพ ะฟะธัะฐะป, ัะพะปัะบะพ ะฒ ัะบัะฐะฝ ะฟัะปัััั ะฟะพ ะฝะตัะบะพะปัะบั ัะฐัะพะฒ โ ะธ ะฒัะต. ะฏ ะพะดะธะฝ ัะฐะท ะฟัะพััะพ ะธะท ะธะฝัะตัะตัะฐ ัะตะป ะทะฐ ัะฟะธะฝะพะน ะพะดะฝะพะณะพ ัะฐะบะพะณะพ ะบะฐะดัะฐ, ัะฐะบ ะพะฝ ะฟัะพััะพ ยซะะบะพะฝัะฐะบัยป ะปะธััะฐะป, ะฝะพ ั ะฒะธะดะพะผ, ะฑัะดัะพ ะทะฐะฝัั ะพัะตะฝั ะฒะฐะถะฝัะผ ะดะตะปะพะผ.
— ะะพะถะตั, ะธ ะฒะฐะถะฝัะผ.
— ะะฐะถะตััั, ััะพ ะฒะฐะถะฝัะผ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ั ะบะฐะถะดะพะณะพ ัะฐะบะพะณะพ ัะฐัั ะฝะฐ ัะตะต ะฒ ะฒะธะดะต ะฟะตัะปะธ, ัะปะพะฒะฝะพ ะพะฝ ัะตะนัะฐั ะฟะพะนะดะตั ะธ ััะบะธ ะฝะฐ ัะตะฑั ะฝะฐะปะพะถะธั, โ ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฝะต ะทะฐะดัะผัะฒะฐััั, ััะฐะทั ะถะต ะพัะฑัะตั
ะฐะปัั ะคะตะดั.
— ะฏ ะฟะพะฝัะป, ะณะดะต ะผั ะพัะธะฑะปะธัั, ะบะพะณะดะฐ ัะตัะธะปะธ ะดะพ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะดะพััััะฐัััั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพัะปะต ะฝะตะบะพัะพัะพะณะพ ะทะฐัะธััั ะฒ ัะฐะทะณะพะฒะพัะต, ะฒัะทะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะฟะพะธัะบะพะผ ัะฒะพะฑะพะดะฝะพะณะพ ะผะตััะฐ ััะตะดะธ ะผะฝะพะถะตััะฒะฐ ะฟััััั ััะพะปะพะฒ, ััะพ ะฑัะปะพ ะตัะต ัะปะพะถะฝะตะต, ัะตะผ ะตัะปะธ ะฑั ะบะพัะตะนะฝั ะฑัะปะฐ ะทะฐะฑะธัะฐ ะดะพ ะพัะบะฐะทะฐ.
ะคะตะดะพั ั ะผัะบะฝัะป, ะดะฐ ัะฐะบ ัะธะปัะฝะพ, ััะพ ะฟะพััะธ ะดะตัะฝัะปัั ะพั ัะฒะพะตะณะพ ัะผะตัะบะฐ:
— ะะดะต ะพัะธะฑะปะธัั, ะณะดะต ะพัะธะฑะปะธัั. ะะดะต ัะพะดะธะปะธัั, ัะฐะผ ะธ ะพัะธะฑะปะธัั.
— ะะพั ะธะผะตะฝะฝะพ, โ ะฒัะตะฟะธะปัั ะฒ ะฝะตะณะพ ะัะฑะพัะบะธะน, ะพะฑะพะดัะตะฝะฝัะน ัะพะณะปะฐัะธะตะผ ั ัะตะผ, ััะพ ะพะฝ ะตัะต ะดะฐะถะต ะฝะต ะฟัะพะธะทะฝะตั. โ ะั ะธัั ะพะดะธะปะธ ะธะท ัะพะณะพ, ััะพ ะตะผั ะฝะต ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ. ะะฐะบ ะธัั ะพะดะธะผ ะธะท ัะพะณะพ, ััะพ ะผะตะถะดั ะฒะทัะพัะปัะผะธ ัะฐะผ ะฝะฐะฒะตัั ั ะตััั ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะพะณัะพะผะฝะฐั ัะฐะทะฝะธัะฐ. ะงัะพ, ะณััะฑะพ ะณะพะฒะพัั, ะฟัะพะฟะฐััั ะผะตะถะดั ะณะปะฐะฒะฝัะผะธ ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะตัะฐะผะธ ะธ ัะตะผะธ, ั ะบะพะณะพ ัะตะนัะฐั ะฒะปะฐััั, ะฝะต ัะฐะบะฐั ัะธัะพะบะฐั, ะบะฐะบ ะผะตะถะดั ะฝะฐะผะธ ะธ ะณะปะฐะฒะฝัะผะธ ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะตัะฐะผะธ. ะ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต, ะฟัะธ ะฒัะตะผ ะผะพะตะผ ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะผ ะธ ะดััะณะธั ะฟะพะฑััะบััะบะฐั , ะผะฝะต, ะบะฐะบ ะฑั ั ะฝะธ ั ะพัะตะป, ะฑะปะธะถะต ะดะฐะถะต ะฒะพั ัะพั ััััะพะบ, ะบะพัะพััะน ัะตะฑะต ัะธะณะฐัะตัั ะดะฐะป, ัะตะผ ะปัะฑะพะน ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปั ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะฝะพะน ัะปะธัั. ะั ะผะตะฝั ะปัะฑะพะน ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปั ะปัะฑะพะน ะธะท ัะปะธั ะดะฐะปะตะบ ะฐัััะพะฝะพะผะธัะตัะบะธ, ั ะฝะต ะผะพะณั ั ะฝะตะณะพ ัะธะณะฐัะตัั ัััะตะปัะฝััั, ะฒะตะดั ัะฐะบ?
ะะตัั ะทะฐะผะตัะฝะพ ะฟะพะบัะฐัะฝะตะป, ะฐ ะะพัะพั ะพะฒ ะทะฐะผะตัะธะป:
— ะะธัะตะณะพ ัะตะฑะต ัะตะฑั ะฟะตัะตะบะพะฒะฐะปะพ.
— ะัะพััะพ ั ะฝะต ะฒะธะถั ะฝะธะบะพะณะพ ะฒ ััะฑะธัะต, ะทะฝะฐะตัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะญัะพ ะบะฐะบ ะผะพั ะผะฐะผะฐ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะดะตัััะฒะพ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะปะฐ, ััะพ ะพัะตะฝั ะทะฐะฒะธะดะพะฒะฐะปะฐ ัะตะผัะต ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐ, ัะพะดะธัะตะปะธ ะบะพัะพัะพะณะพ ะผะพะณะปะธ ะตะผั ะดะถะธะฝัั ะบัะฟะธัั ะฟะพ ะผะตัะต ะฝะฐะดะพะฑะฝะพััะธ, ะฝะต ะฒัะบัะฐะธะฒะฐั ะฝะธัะตะณะพ ะธะท ะฑัะดะถะตัะฐ, ะฐ ะฟัะพััะพ ัะปะธ ะธ ะฟะพะบัะฟะฐะปะธ, ะบะฐะบะธะต ะฝัะถะฝะพ, ัััั ะปะธ ะฝะธ ะฒ ัะพั ะถะต ะดะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะฝัะถะฝั. ะ ััั ัะฐะบ ะถะต. ะฃ ะฝะธั ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ (ะฟะพะฝััะฝะพ, ััะพ ั ะฟัะพะฒะปะฐััะฝะพะน ะตัะต ะฟัะพัะต) ะฒัะต ะทะฐะผะตัะฐัะตะปัะฝะพ. ะะพะบะฐ ะบะฐะบะพะน-ะฝะธะฑัะดั ััะดะพะฒะพะน ัะบะพะปะพััะพะฝ ั ัะตะฟะตัะธัะพัะพะฒ ะฟัะพะธะทะฝะพัะตะฝะธะต ะพััะฐะฑะฐััะฒะฐะตั, ั ะฝะธั ัะถะต ัะทัะบะพะฒะฐั ะฟัะฐะบัะธะบะฐ ะทะฐ ะณัะฐะฝะธัะตะน, ะฐ ะบัะพ-ัะพ ัะฐะผ ะฒะพะพะฑัะต ัะฐััะตั ั ัะพะถะดะตะฝะธั. ะ ะดะฐะถะต ะตัะปะธ ัะปััะธััั ะฒะพั ััะพ ะฒะพั, ั ะฑะฐััะธะบะฐะดะฐะผะธ, ัะปะฐะณะฐะผะธ ะธ ะพัะตัะตะดะฝัะผ ััะธัะผัะพะผ ะฒะพะปะธ, ะพะฝะธ ะถะต ะดััะณ ั ะดััะณะพะผ ะดะฐะฒะฝะพ ะทะฝะฐะบะพะผั, ััะธ ัะตะฑััะฐ, ะธ ะดะตัะธ ะธั , ัะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ะดััะทัั โ ะฝะต ัะฐะทะปะตะน ะฒะพะดะฐ. ะญัะพ ะฝะต ะธั ะธะท ัะฝะธะฒะตัะฐ ะฟะพะฟััั ะฒ ัะปััะฐะต ัะตะณะพ, ัะฐะบ ััะพ ะฝะธะบัะพ ะฟะพัะพะผ ะธ ะฝะต ะฒัะฟะพะผะฝะธั, ะฐ ะบะพะณะพ-ะฝะธะฑัะดั ะธะท ะฝะฐั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฝะฐัะธ ะฟัะตะดะบะธ ัะถะต ะพัะฟััะณะฐะปะธัั, ะธั ััะฐััั, ั ะผะฝะพะณะธั ัะถะต, ะดะฐะฒะฝะพ ยซัะบัยป. ะั ัะตะนัะฐั ะฒ ะพะบััะถะตะฝะธะธ ััะธั ะฟะตัะตัะปะบะพะฒ ะบะฐะบ ะฟะพะผะตัะธะบะธ, ะบะพัะพััั ัะถะต ะบัะฟัั ัะผะตััะธะปะธ, ัะตะณะพ-ัะพ ะตัะต ััะตะฟัั ะฐะตะผัั, ะฐ ััะพ ะะฐัะธะฝ ะฑะฐัั, ััะพ ะจะตัะณะธะฝัะบะธะน โ ะธะทะฒะตััะฝะพ, ััะพ ะพะฝะธ ะผะพะณัั ัะฒะพะธะผ ะดะตััะผ ัะบะฐะทะฐัั.
— ะ ััะพ ะถะต ะพะฝะธ ะผะพะณัั ะธะผ ัะบะฐะทะฐัั? โ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะคะตะดั.
— ะะดะธะฝ ัะบะฐะถะตั, ะตัะปะธ ัะฐะผะพะณะพ ะะฐัะธ ััะพ ะบะฐัะฐัััั ะฝะต ะฑัะดะตั, ะฟัะพ ะทะฐะบะพะฝ, ะบะพัะพััะน ัััะพะฒ, ะฝะพ ััะพ ะทะฐะบะพะฝ. ะััะณะพะน ะทะฐะผะตัะธั, ััะพ, ะฒ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะฝะธะบัะพ ะถะธะปัั ะฝะต ะปะธัะฐะตััั, ััะพ ััะพ ะฟัะพััะพ ะฟัะธั ะพัั โ ะถะตะปะฐะฝะธะต ะถะธัั ะฒ ะพะฟัะตะดะตะปะตะฝะฝะพะผ ัะฐะนะพะฝะต, ััะพ ัะพะดะธัะตะปะธ ะบะฐะถะดะพะณะพ ะธะท ะฝะฐั ะผะพะณะปะธ ัะฐะบะถะต ะทะฐั ะพัะตัั ะฟะตัะตะตั ะฐัั, ะธ ะผั ะฝะต ััะฐะปะธ ะฑั ัะฟะพัะธัั, ะฒะพั ะธ ะฒัะต. ะั ะธ ะตัะต ะบะฐะบัั-ะฝะธะฑัะดั ัะตะปะตะณั ะฑั ะทะฐะดะฒะธะฝัะป ะฟัะพ ััะฐััั, ะฟัะพ ัะพ, ััะพ ะตัะปะธ ัะผะพะถะตั ะทะฐัะฐะฑะพัะฐัั, ัะพ ะฝะต ะฒัะต ะฑัะดะตั ััะฐัะธัั ะฝะฐ ัะตะฑั, ะฐ ัะฐััั ะฝะฐ ะฑะปะฐะณะพัะฒะพัะธัะตะปัะฝะพััั ะฟะพะนะดะตั ะฒ ะปัะฑะพะผ ัะปััะฐะต. ะ ะพั ััะพะณะพ ะฟะพะปัะทะฐ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฝะฐะผ ะฝะตัะบะพะปัะบะธะผ, ะฐ ะดะตัััะบะฐะผ ะดััะณะธั ะดะตัะตะน ะธ ะฒะทัะพัะปัั . ะงัะพ-ัะพ ัะฐะบะพะต, ะฒ ะพะฑัะตะผ. ะ ะดะพะฒะตะดะธัั ะฝะฐะผ ั ะฝะธะผ ะปะธัะฝะพ ะฟะตัะตัะตัััั ะฒะพั ัะตะนัะฐั, ะพะฝ ะฑั ะฝะฐัะธะผ ัะณะพะธะทะผะพะผ ะฝะฐะผ ะฑั ะตัะต ะธ ะฝะฐััะบะฐะป ะฒ ะฝะพั, ัะฐะบ ััะพ ะผั ะฑั ะตัะต ะธ ะบัะฐัะฝะตะปะธ, ััะพ ัะพะดะธะปะธัั ะฝะต ะฒ ัะพ ะฒัะตะผั ะธ ะฝะต ะฒ ัะพะผ ะผะตััะต.
— ะ ััะพ ะดะตะปะฐัั ัะพะณะดะฐ? โ ัะฟัะพัะธะป ะคะตะดะพั.
— ะงะตัััะต ะฒะฐัะธะฐะฝัะฐ ะดะตะนััะฒะธะน ะตััั, ะฝะพ ะพะดะธะฝ ะพั ะฝะฐั ะฟะพััะธ ะฝะต ะทะฐะฒะธัะธั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ัะฒะธะดะตะป, ะบะฐะบ ั ะะพัะพั ะพะฒะฐ ะดะตัะฝัะปะฐัั ะพั ะปัะฑะพะฟััััะฒะฐ ะฑัะพะฒั.
— ะะตัะฒัะน ะฒะฐัะธะฐะฝั โ ัะตััะพั, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะัะฑะพัะบะธะน, ะธ ะพะฑะฐ ะตะณะพ ัะพะฒะฐัะธัะฐ ัะฐััะปะฐะฑะปะตะฝะฝะพ ัะฐะทะฒะฐะปะธะปะธัั ะฝะฐ ัััะปััั , ะฟะตัะตะถะธะฒะฐั ะฒะพะปะฝั ัะบะตะฟัะธัะฐ.
— ะั, ะดะฐ, ะดะฐ, โ ะทะฐัะพัะพะฟะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพะฝะตัะฝะพ, ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพ ััะพ ะดะฐะถะต ะธ ะพะฑััะถะดะฐัั. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ะผั ะฑะพะปััะต ะณัะผะฐะฝะธัะฐัะธะธ, ัะตะผ ั ะธะผะธะบะธ, ะตัะปะธ ะฑัะฐัั ัะฐะผัะน ะฟัะธะผะธัะธะฒะฝัะน ะฒะธะด ัะตััะพัะฐ, ะธ ะตัะปะธ ะดะฐะถะต ะฝะฐัะฐัั ะณัะณะปะธัั ััะพ ะฒัะต, ัะพ ะดะฐะถะต ะฑััััะตะต, ัะตะผ ะฟะปะฐะฝะธััะตะผ, ะฟะตัะตะตะดะตะผ ะฝะฐ ะฝะพะฒะพะต ะผะตััะพ, ัะพะปัะบะพ ััะพ ะฑัะดะตั ะดะฐะปะตะบะพ ะฝะต ะบะฒะฐััะธัะฐ ะฒ ะฝะพะฒะพะผ ัะฐะนะพะฝะต, ะฟะพััะพะผั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ััะพั ะฒะฐัะธะฐะฝั ะพัะฟะฐะดะฐะตั.
— ะัะพัะพะน ะฒะฐัะธะฐะฝั โ ัะฐะฝัะฐะถ, โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ัะฒะธะดะตะป, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะปะธัะฐั ะดััะทะตะน ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะฒัะฟัั ะธะฒะฐะตั ะฑะตะณััะฐั ัััะพะบะฐ: ยซะะฐ ัั ะธะทะดะตะฒะฐะตัััั, ะัะฑะพะบยป.
— ะะพะฝััะฝะพ, ััะพ ะธ ััะพ ะพัะฟะฐะดะฐะตั ะบะฐัะตะณะพัะธัะตัะบะธ, โ ะพัะผะตะป ะะฝะดัะตะน ะฒะพะทะผะพะถะฝัะต ะฒะพะทัะฐะถะตะฝะธั. โ ะขะพะปัะบะพ ะตัะปะธ ั ะบะพะณะพ-ะฝะธะฑัะดั ะธะท ะฝะฐั ะฝะตั ัะตะณะพ ะฝะฐ ะจะตัะณั-ััะฐััะตะณะพ, ะฐ ะฟะพะฝััะฝะพ, ััะพ ะฝะตั, ะธะฝะฐัะต ัะถะต ะดะฐะฒะฝะพ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะฒะฐะปะธ ะฑั ะตะผั ั ะปะตะฒะพะน ัะธะผะบะธ ะธ ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ัะฐะผ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะปะธ. ะ ะตัะปะธ ัะถ ะฑัะฐัั ะดะฒะต ัะฐัะธ ะฒะตัะพะฒ, ะฝะฐ ะพะดะฝะพะน ะธะท ะบะพัะพััั ััะพ-ัะพ, ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัะบะตะปะตั ะฒ ัะบะฐัั, ะฐ ะฝะฐ ะดััะณะพะน โ ััะผะผะฐ ะฒะพั ััะพะน ะทะฐัััะพะนะบะธ, ัะพ, ะดัะผะฐั, ััะพ ยซััะพ-ัะพยป ะดะพะปะถะฝะพ ะฑััั ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ัะตะผ-ัะพ ะทะฐะฟัะตะดะตะปัะฝัะผ. ะขะฐะบะพะน ะถะตััะบะธะน ะปัััะน ััะตัะฐะบ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฒ ะธะฝะพะผ ัะปััะฐะต ััะพ ัะฒะฝะพ ะฝะต ััะฐะฑะพัะฐะปะพ ะฑั. ะัะดะพะตะดะพะผ ะพะฝ ะดะพะปะถะตะฝ ะพะบะฐะทะฐัััั, ะฝะต ะทะฝะฐั, ะัััะพะผ ะฃัะนะฝะพะผ.
— ะัะปะพ ะฑั ะบัััะพ, โ ะฟัะธะทะฝะฐะปัั ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะฏ ะฑั ัะพะณะดะฐ ัะปัะฑะบั ะฝะฐ ะปะธัะต ะฝะฐะผะฐะปะตะฒะฐะป ะธ ั ะพะดะธะป ะฝะฐ ะฒัััะตัะธ ั ะฝะธะผ ะฒ ะฑะตะปะพะผ ะณัะธะผะต.
— ะะน, ะบะพะณะพ ัั ะพะฑะผะฐะฝัะฒะฐะตัั. ะะตะฝัะธะฝะพะน-ะบะพัะบะพะน ัั ะฑั ะฝะฐััะถะฐะปัั! โ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.
ะะฝะธ ัะฐะดะพััะฝะพ ะฟะพัะถะฐะปะธ, ะดะฐะถะต ะคะตะดั.
— ะขัะตัะธะน ัะฟะพัะพะฑ ัะฐะผัะน ะฝะตะพัััะตััะฒะธะผัะน, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะพััะผะตัะปะธัั. โ ะะพะดะบัะฟ. ะะพัะพะผั ััะพ, ะตัะปะธ ะฟะตัะฒัะน, ะฒ ะฟัะธะฝัะธะฟะต, ะฟัะธ ัะธะปัะฝะพะผ ะถะตะปะฐะฝะธะธ ะฝะฐะบะพัััะธัั, ะตัะต ััะดะฐ-ััะดะฐ, ั ััะธะผ ะดะฐะถะต ะพัะฑะธััะต ัะตะฑััะฐ ัะฟัะฐะฒะปััััั ะฟัะธ ะผะธะฝะธะผะฐะปัะฝะพะน ะฟะพะดะณะพัะพะฒะบะต (ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะธ ัะตะทัะปััะฐั ะธะทะฒะตััะตะฝ, ะธ ะพะฝ ะฟะพััะธ ะฝะฐ ััะพ ะฟัะพัะตะฝัะพะฒ โ ะฝะต ัะพ, ัะตะณะพ ะฑั ั ะพัะตะปะพัั), ะธ ะฒัะพัะพะน ะฒะฐัะธะฐะฝั ะตัะต ะฒะฟะพะปะฝะต ะฑัะดะถะตัะฝัะน. ะขะพ ััั, ะทะฝะฐะตัะต, ัะพะฒัะตะผ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะตั ัะผััะปะฐ ะพะฑััะถะดะฐัั. ะะพัะพะผั ััะพ ะตัะปะธ ะฑั ั ะฝะฐั ะฑัะปะธ ะดะตะฝัะณะธ, ััะพะฑั ััะฝััั ะฝะฐ ะปะฐะฟั ัะพะผั, ะบัะพ ะทะฐ ััะพ ะฒัะต ะฒะทัะปัั, ัะพ ะผั ะฑั ััะฟะพ ะผะพะณะปะธ ะถะธะปัะต ะบัะฟะธัั ะฒัะตะผ, ััะตะณะพ ะพััะตะทะดะฐ ะผั ะฑั ะฝะต ั ะพัะตะปะธ โ ะธ ะฒัะต.
ะะตัั ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะตัะต ัะฐะท ะฟะพะบัะฐัะฝะตะป, ััะพ ะฝะต ัะบััะปะพัั ะพั ะะพัะพั ะพะฒะฐ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะพะฝ ะทะฐะผะตัะธะป:
— ะะพั ััะพะณะพ ะฒะพั ะฝะต ะฝัะถะฝะพ, ะะตะทะฝะพั. ะฏ ะปัััะต ะฟะพะด ะทะฐะฑะพัะพะผ ัะดะพั ะฝั. ะงะตััะฝะพะต ัะปะพะฒะพ.
ะ, ัะถะต ะบ ะะฝะดัะตั ะพะฑัะฐัะฐััั, ะพัะพัะฒะฐะปัั ะพั ัะผะฐัััะพะฝะฐ:
— ะงัะพ ัะตัะฒะตััะพะต?
— ะงัะดะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.
ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะธ ะะพัะพั ะพะฒ ะฟัะพะผะพะปัะฐะปะธ, ะทะฐะผะตัะฝะพ ัะพััะฒััะฒัั ะธะฝัะฐะฝัะธะปะธะทะผั ะัะฑะพัะบะพะณะพ.
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะฟััะฐะปัั ัะฐััะธััะพะฒะฐัั ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัะต ัะปะพะฒะฐ, ะธ ัะตะผ ะดะฐะปััะต ะพะฑัััะฝัะป, ัะตะผ ะฑะพะปััะต ะฑัะปะพ ะฒ ะฝะตะผ ัะฒะตัะตะฝะฝะพััะธ:
— ะะฐะบ ั ะผะตะฝั ะดัะดั ะณะพะฒะพัะธั, ะฒ ะฝะฐัะต ะฒัะตะผั ะผะพะถะฝะพ ะฝะต ัะพ ััะพ ะฒะทัะพัะปัั ะทะฐะบะฐัะฐัั ะฒ ะบัััะทะบั ะฟะพ ะปัะฑะพะผั ะฟะพะฒะพะดั ะธ ะฒัะฟัััะธัั ะพะฟััั ะถะต ะฟะพ ะปัะฑะพะผั ะฟะพะฒะพะดั, ะฝะพ ะดะฐะถะต ะณััะฟะฟั ะดะตััะบะพะณะพ ัะฐะดะฐ ะฒ ยซะัะตัััยป ะทะฐะบัััั ะฑะตะท ะพะฑัััะฝะตะฝะธั ะฟัะธัะธะฝ. ะั, ะฒัะนะดะตั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ััััั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฝั ะพะณัะตะฑัั ะพั ะบะพัะผะพะฝะฐะฒัะพะฒ, ะทะฐัะตะผ ะตัะต ะฒัะนะดัั ะปัะดะธ, ะพะฟััั ะพะณัะตะฑัั, ะฝะฐ ััะพะผ ะฒัะต ะธ ะบะพะฝัะธััั. ะ ะฒ ะฝะฐัะตะผ ัะปััะฐะต ะดะฐะถะต ััะพะณะพ ะฝะต ะฑัะดะตั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะบะฒะฐััะธัั ะดะฐัั, ะฒัะต ะฒัะพะดะต ะฑั ะฒ ะฟะพััะดะบะต, ัะพ ััะพัะพะฝั ััะพ ะฒัะณะปัะดะธั, ะฑัะดัะพ ะผั ั ะถะธัั ะฑะตัะธะผัั, ััะพ ะฑั ะผั ะฝะต ะฟัะตะดะฟัะธะฝะธะผะฐะปะธ. ะะพะฝะธะผะฐะตัะต? ะขัั ัะตะฐะปัะฝะพ ะฝัะถะฝะพ ััะพ-ัะพ ะฐะฑัะพะปััะฝะพ ะธััะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝะพะต. ะงะตะณะพ ะฝะต ะถะดะตัั ะฐะฑัะพะปััะฝะพ.
— ะ ะบะฐะบ ััะพ ัะดะตะปะฐัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะคะตะดั. โ ะ ัะบัััะฐัะตะฝัะฐะผ ะธ ะณะฐะดะฐะปะบะฐะผ ัั ะพะดะธัั?
— ะะตั, ััะพ ะบะฐะบ ัะฐะท ัะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝะพ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ััะธ ัะตะฑััะฐ ะฒะฟะพะปะฝะต ัะตะฑะต ัะตะฐะปะธััั ะธ ะฟัะฐะบัะธะบะธ, ะพะฝะธ ะฟัะพััะพ ะดะตะฝัะณะธ ะฑะตััั ะทะฐ ัะตะฐะฝัั ัะฒะพะตะพะฑัะฐะทะฝะพะน ะฟัะธั ะพัะตัะฐะฟะธะธ. ะะฝะธ, ะผะพะถะตั, ะธ ะฟะพะพะฑะตัะฐัั ััะตัะตะฝะธะต, ะฝะพ ัะฐะผะพะณะพ ััะตัะตะฝะธั ะฝะต ะฑัะดะตั, ะดะฐ ะฝะฐะผ ะธ ะฝะต ััะตัะตะฝะธะต ะฝัะถะฝะพ, ะฐ ะฝะตะบะธะน ัะตะทัะปััะฐั. ะะฐะผ ะฝัะถะฝะพ, ััะพะฑั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะบะพัะพััะน ะดะตัะณะฐะตั ะจะตัะณั ะธ ะดััะณะธั ัะฐะบะธั ะถะต ะบัะบะพะป ะทะฐ ะฝะธัะพัะบะธ, ะฟะตัะตะดัะผะฐะป ััะพ ะดะตะปะฐัั, ะฒะพะพะฑัะต ะพัะบะฐะทะฐะปัั ะพั ัะฒะพะตะน ะธะดะตะธ. ะ, ะบะฐะถะตััั, ะฒะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ ะธ ัะพ, ััะพ ะทะฐ ะบะธัะฟะธัะฝะพะน ะบะปะฐะดะบะพะน ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ะบัะพะผะต ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะตััะฝะดั, โ ััะพ ะฟะตัะฒะพะต ัะฒะปะตะฝะธะต ัะพะณะพ ัะฐะผะพะณะพ ััะดะฐ.
***
ะะตัั ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะฒัะดะฐะป ัะตะฑั, ะฝะต ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะพะผั, ััะพ ัะฐะผ ะดัะผะฐะตั ะพ ัะพะผ ะถะต, ั ะพัั ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะดัะผะฐะป ะฟัะธะผะตัะฝะพ ะพ ัะพะผ ะถะต. ะะฝ ะดะฐะฒะฝะพ ัะถะต ััะธ ัะฐะทะฐ ะพะฑัะฐัะธะป ะพััะพะฒัะบัั ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะฟะพะธัะบะฐั ะบะฐะบะพะน-ะฝะธะฑัะดั ะฟะพะดัะบะฐะทะบะธ, ะดะฐะถะต ะฟะตัะตัััั ะฝัะป ะบะพะฝะฒะตััั ั ะฟะปะฐััะธะฝะบะฐะผะธ, ะฟัะพะปะธััะฐะป ะฒัะต ะบะฝะธะณะธ, ะฟะตัะตะฑัะฐะป ะฐัั ะธะฒ ะฟะธัะตะผ, ะฑะตะณะปะพ ัะธัะฐั ะบะฐะถะดะพะต, ะฝะพ ะฒ ะพัะฝะพะฒะฝะพะผ ัะฐะผ ะฑัะปะธ ะณะปัะฟะพััะธ, ะฟะพะดัะฐั ะพัััะพัะผะฝัะต, ะฟะพะดัะฐั ะณััะฑัะต ัะตะฟะปะธะบะธ ััะฐััั ะดััะทะตะน, ะบะพัะพััะต ะธะผะตะฝะพะฒะฐะปะธ ะดััะณ ะดััะณะฐ ะฝะต ะธะฝะฐัะต ะบะฐะบ ยซัะตััะธยป ะธะปะธ ยซัะฒะพะปะพััยป, ะดะพะฟัััะธะผ, ะฒ ะพะฟะธัะฐะฝะธะธ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฝะฐััะฝะพะน ะบะพะฝัะตัะตะฝัะธะธ ะฑัะปะธ ัะปะพะฒะฐ ยซัะพะฑัะฐะปะธ ัะฐะผ ะฝะฐั, ะฐัั ะธะฒะธััะพะฒ, ะฟะฐะปะตะพะฝัะพะปะพะณะพะฒ ะธ ะฟัะพััั ัะฒะพะปะพััยป. ะะพ ะฑัะปะธ ะธ ะดััะณะธะต ะฟะธััะผะฐ, ั ะผะฝะพะณะพัะธัะปะตะฝะฝัะผะธ ะฟัะตะดะฒะฐัะธัะตะปัะฝัะผะธ ะธ ัะธะฝะฐะปัะฝัะผะธ ัะฐััะฐัะบะธะฒะฐะฝะธัะผะธ, ะฟะพะปะฝัะต ะฒะฝัััะธ ะปะฐััะฝัั, ััะฐะฝััะทัะบะธะผ, ะฐะฝะณะปะธะนัะบะธะผ, ะฝะตะผะตัะบะธะผ, ัััะปะบะฐะผะธ ะฝะฐ ัะตะบััั ะธ ัั ะตะผะฐะผะธ.
ะะปั ะฟะธัะตะผ ะธะผะตะปัั ะพัะดะตะปัะฝัะน ะบะฐัะฐะปะพะณ. ะะฐัะฐะปะพะณ ะธะผะตะปัั ะธ ะดะปั ะบะฝะธะณ ะธ ะฟะปะฐััะธะฝะพะบ. ะ ะบะฝะธะถะฝะพะผ ะบะฐัะฐะปะพะณะต ะฝะฐัะตะปัั ะพัะดะตะปัะฝัะน ะบะฐัะฐะปะพะณ ะผะฐัะพะบ, ะณะดะต ะะตัั ะพะฑะฝะฐััะถะธะป ะผะฐะปะพะฟะพะฝััะฝะพะต ะพะฟะธัะฐะฝะธะต, ะบะฐะบ ะพะฝ ะฟะพะฝัะป, ะบะฐะถะดะพะน ะผะฐัะบะธ, ัะพะฟัะพะฒะพะถะดะฐะตะผะพะต ะฒะตัะตะฝะธัะตะน ัะธัะตะป. ะัะต ะฑัะปะพ ัะฟะพััะดะพัะตะฝะพ. ะ ัะพะปัะบะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะบะปัััะตัะพะฒ ะฝะต ะฑัะปะพ ัััะตะฝะพ. ะ ััะธั ะฐะปัะฑะพะผะฐั ะผะฐัะบะธ ะฑัะปะธ ัะฐััะพะฒะฐะฝั ะบะฐะบ ะฟะพะฟะฐะปะพ, ะฑัะดัะพ ะธั ัะบะปะฐะดัะฒะฐะปะธ ะฒัะพัะพะฟัั . ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะะตัั ะฟัะธะฝัะป ััะธ ะบะปัััะตัั ะทะฐ ัะฒะพะตะพะฑัะฐะทะฝัะน ะทะฐะฟะฐั ะผะฐัะพะบ ะฝะฐ ะพะฑะผะตะฝ ะธะปะธ ัะบะปะฐะด ะดัะฑะปะธะบะฐัะพะฒ, ะบะพัะพััะต ะฝะต ะฑัะปะพ ัะผััะปะฐ ะฟะพะผะตัะฐัั ะฒ ะฟัะธัะตัะฐะฝะฝัะต ะบะฐัะฐะปะพะณะธะทะฐัะธะตะน ะฐะปัะฑะพะผั.
ะะพัะปะต ัะฐะทะณะพะฒะพัะฐ ั ะัะฑะพัะบะธะผ ะะตัั ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะตัะปะธ ะณะดะต ะธ ะธัะบะฐัั ััะดะพ ะธะปะธ ะฝะตะบัั ะบ ะฝะตะผั ะฟะพะดะฒะพะดะบั, ัะพ ะปะธัั ะฒ ััะธั ะฑะตะทัะผะฝัั ะฐะปัะฑะพะผะฐั .
ะะตัะฒัะผ ะดะตะปะพะผ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะพะณะปัะดะตะป ะบะฐะถะดัั ะผะฐัะบั ั ะพะฑัะฐัะฝะพะน ััะพัะพะฝั, ะฝะพ ัะฐะผ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ, ะบัะพะผะต ัะปะฐะดะบะพะฒะฐัะพะณะพ ะบะปะตั (ะดะฐ, ะะตัั ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฟะพะฟัะพะฑะพะฒะฐะป ะพะดะฝั ะผะฐัะบั ัะทัะบะพะผ), ะฝะธะบะฐะบะธั ะฟะพะดัะบะฐะทะพะบ ะฝะต ะธะผะตะปะพัั ะธ ะฟะพะด ะผะฐัะบะฐะผะธ โ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะฒัะดะฐะฒะธะป ะฝะธะบะฐะบะธั ะฑัะบะฒ ะฝะฐ ะฟะพะดะฐัะปะธะฒะพะผ ะบะฐััะพะฝะต ะบะปัััะตัะพะฒ, ั ะพะดะฝะพะณะพ ะธะท ะฐะปัะฑะพะผะพะฒ ะธะผะตะปะฐัั ััะตะผะฝะฐั ะพะฑะปะพะถะบะฐ, ะฝะพ ะฝะธ ะฟะพะด ะฝะตะน, ะฝะธ ะฒ ะฝะตะน ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ. ะะตัั ะฟะพะดัะผะฐะป ะฑัะปะพ, ััะพ ะฑะฐะฑะพัะบะฐ, ะผะฐัะบ, ะฟะฐะฝะดะฐ, ะถะฐะฑะฐ, ะทะผะตั, ัะฐะผะพะปะตั ะฝะฐ ะฟะตัะฒะพะน ัััะฐะฝะธัะต ะพะดะฝะพะณะพ ะธะท ะบะปัััะตัะพะฒ ะผะพะณัั ัะพััะฐะฒะธัั ะบะฐะบะพะต-ัะพ ัะปะพะฒะพ, ะตัะปะธ ัะธัะฐัั ัะพะปัะบะพ ะฟะตัะฒัะต ะฑัะบะฒั, ะฝะพ ััั ะถะต ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะฝะตั โ ะฝะต ะผะพะณัั, ะดะฐะถะต ะตัะปะธ ะฑัะฐัั ะธั ะฐะฝะณะปะธะนัะบะธะต ะฐะฝะฐะปะพะณะธ, ะฝะต ะฟะพะปะตะฝะธะปัั ะธ ะดะพััะฐะป ััััะบะพ-ััะฐะฝััะทัะบะธะน ะธ ััััะบะพ-ะฝะตะผะตัะบะธะน ัะปะพะฒะฐัะธ, ะฝะพ ะฒัะต ะฑัะปะพ ะฑะตะท ัะพะปะบั, ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ะฟะพะปััะฐะปัั ั ะะตัะธ ััะด ะฝะธะบะพะธะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ ะฝะตัะธัะฐะตะผัั ัะพะณะปะฐัะฝัั .
ะัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะฒ ัะฐะณะต ะพั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ัะดะฐัััั, ะพะฝ ัะตะป ะฒะพะทะปะต ะบะฐะผะธะฝะฐ, ะณะพัะพะฒัะน ะฑัะพัะธัั ะฒ ะพะณะพะฝั ะฑะตัะฟะพะปะตะทะฝัะต, ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝัะต ะฐะปัะฑะพะผั, ะฝะฐะฟะพะปะฝะตะฝะฝัะต ะดััะฐัะบะธะผะธ ะผะตะปะบะธะผะธ ะฑัะผะฐะถะบะฐะผะธ, ะบะฐะถะดะฐั ะธะท ะบะพัะพััั ะบะฐะบ ะฑั ัะตัะธะปะฐัั ัะฒะพะธะผะธ ะผะตะปะบะธะผะธ ะทัะฑัะธะบะฐะผะธ ะฟะพ ะบัะฐั.
ะ ะทะฐัะตะผ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฝะฐ ะฟะตัะฒะพะน ัััะฐะฝะธัะต ะพะดะฝะพะณะพ ะธะท ะฐะปัะฑะพะผะพะฒ ะฝะฐัะปะธัั ะฑัะบะฒั, ัะปะพะถะธะฒัะธะตัั ะฒ ะดะฒะฐ ัะปะพะฒะฐ: ยซdะตarยป ะธ ยซfriendยป. ยซะขะฐะบ, ัะฐะบ, ัะฐะบ, ััะพะฟ, ััะพะฟ, ััะพะฟ, ะบะฐะบ ััะพ ะฟะพะปััะธะปะพัั?ยป ะฝะต ััะฐะทั ะฟะพะฝัะป ะะตัั, ะฒะณะปัะดัะฒะฐััั ะฒ ะผะฐัะบะธ ั ัะพะฑะฐะบะพะน, ะฑะฐะฑะพัะบะพะน, ะฝะฐััะพะปัะฝะพะน ะปะฐะผะฟะพะน ะธ ะบะพัะพะปะตะฒะพะน ะะฝะณะปะธะธ, ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะฟะพะฝัะป, ััะพ ัะปะพะฒะพ ยซdearยป ะพะฑัะฐะทัะตััั ะธะท ะฟะตัะฒัั ะฑัะบะฒ ะฝะฐะดะฟะธัะตะน. ะขะพ ะตััั ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ะฝะฐ ะบะฐััะธะฝะบะธ ัะผะพััะตัั, ะฐ ะฝะฐ ัะปะพะฒะฐ: ยซdobermannยป, ยซEarias cloranaยป, ยซAnglepoise Lampยป ะธ ยซRed Cross Centenary Congressยป.
ยซFriendยป ะฝะฐัะธะฝะฐะปะฐ ะผะฐัะบะฐ ัะพ ัะปะพะฒะพะผ ยซFOROYARยป, ะณะดะต ะฟะตัะฒะฐั ยซะพยป ะฑัะปะฐ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะทะฐัะตัะบะฝััะฐ.
ะะต ััะฟะตะป ะะตัั ะฟัะธัััะฟะธัั ะบ ััะตะฝะธั, ะบะฐะบ ัะตะปะตัะพะฝ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ัะฐะทะดัะฐะถะฐััะต ะทะฐะฒะธะฑัะธัะพะฒะฐะป, ะฐ ะทะฐัะตะผ ะฝะต ะผะตะฝะตะต ัะฐะทะดัะฐะถะฐััะต ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะผะฐะผะฐ, ะบะพัะพััั ะพััััััะฒะธะต ััะฝะฐ ะฝะฐัะฐะปะพ ัะดะธะฒะปััั, ะทะปะธัั ะธ ะฟะตัะฐะปะธัั. ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฟะพััะฐัะธะป ะบะฐะบะพะต-ัะพ ะฒัะตะผั, ััะพะฑั ะพะฑัััะฝะธัั ะตะน, ััะพ ะฝะธัะตะณะพ ัััะฐัะฝะพะณะพ ะฝะต ะฟัะพะธัั ะพะดะธั, ััะพ ะพะฝ ะฝะต ะฒ ะฝะฐัะบะพะผะฐะฝัะบะพะผ ะฟัะธัะพะฝะต, ะฒ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะดะฐ, ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ัะพัะฝะพ ะฝะต ะฒ ะฟัะธัะพะฝะต, ะธ ะฝะตั, ะฝะต ะฟัะตั, ะฝะต ะบััะธั, ะธ ะดะฐะถะต ะณะพััะตะน ั ะฝะตะณะพ ัะตะณะพะดะฝั ะฝะตั. ะัะปะตะด ะทะฐ ะผะฐะผะพะน ะฟะพะทะฒะพะฝะธะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ััะฐะทั ะถะต ััะฐะป ัะผะตััััั ะฒ ัััะฑะบั.
— ะะปะธะฝ, ะฝั ัะตะณะพ ัั ะฝะพัะผะฐะปัะฝัะน ัะตะปะตัะพะฝ ะฝะต ะทะฐะฒะตะดะตัั? โ ะฝะฐัะฐะป ะพะฝ ััะฐะทั. โ ะขัั ัะฐััั ยซะฟะตัะตัะตะปะตะฝัะตะฒยป ะฝะฐ ััะฐั ััะพัั.
— ะฏ ัะพะถะต ะบะพะต-ััะพ ะฝะฐัะตะป, โ ะฝะฐัะฐะป ะฑัะปะพ ะะตัั, ะฝะพ ะะฝะดัะตะน ะตะณะพ ะฟะตัะตะฑะธะป.
— ะะพ ััะฐะฒะฝะตะฝะธั ั ัะตะผ, ััะพ ะะธะทะฐ ัะตะณะพะดะฝั ะฝะฐั ะพะดะธะปะฐ ะฟะพ ัะปะธัะฐะผ, โ ััะพ ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะฟััััะบะธ.
— ะัะต ะฝะต ะทะฝะฐั, โ ะพัะฒะตัะธะป ะะตัั.
— ะขะพะณะดะฐ ัะปััะฐะน, ััั ะฟัะพััะพ ััะพ-ัะพ ั ัะตะผ-ัะพ.
ะะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะะธะทั ะทะฐัะตะฟะธะปะฐ ะฝะพะฒะพััั ะฟัะพ ะธััะตะทะฝัะฒัะธั ััะฐัััะตะบ, ะธ ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ, ะฒะพะทะฒัะฐัะฐััั ะดะพะผะพะน, ัะฒะธะดะตะปะฐ ะตัะต ะพะดะฝั ะฟะฐัะพัะบั ะฑะฐะฑัะปะตะบ, ัะพ ัะตัะธะปะฐ ะฟะพัะผะพััะตัั โ ะฟัะพะฟะฐะดัั ะพะฝะธ ะธะปะธ ะฝะตั. ะ ะพะฝะธ ะฟัะพะฟะฐะปะธ: ะทะฐัะปะธ ะฒ ยซะััะณะตั-ะบะธะฝะณยป ะดะฐ ัะฐะบ ะฑะพะปััะต ะธ ะฝะต ะฟะพัะฒะธะปะธัั, ัะบะพะปัะบะพ ะะธะทะฐ ะธั ะฝะธ ะถะดะฐะปะฐ. ะงัะพะฑั ะฝะต ะฟัะพัะปััั ััะผะฐััะตะดัะตะน, ะพะฝะฐ ัะตัะธะปะฐ, ััะพ ะฑะพะปััะต ััะฐัััะตะบ ะฝะต ัะฟัััะธั, ะธ ะบะฐะบะพะต-ัะพ ะฒัะตะผั ะพะบะพะปะฐัะธะฒะฐะปะฐัั ะฟะพัะปะต ัะบะพะปั ะฒะดะพะปั ะกัะตะดะฝะตะณะพ ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะพะณะพ ะฟะตัะตัะปะบะฐ, ะณะดะต ะฒัััะตัะธะปะฐ ัะตั ะฑะฐะฑะพะบ ะฒะฟะตัะฒัะต. ะะฐัั ะฝะตะดะตะปั ะพะฝะฐ ัะฑะธะปะฐ ะฝะฐ ััะธ ะฟัะพะณัะปะบะธ, ัะฐะผะฐ ัะตะฑั ัะถะต ัะฑะตะดะธะปะฐ, ััะพ ะฒัะต ััะพ ะตะน ะฟัะธะฒะธะดะตะปะพัั, ะบะฐะบ ะฒะดััะณ ัะฝะพะฒะฐ ะฟะพะฒัััะตัะฐะปะฐ ัะตั ัะฐะผัั ััะฐัััะตะบ ะธ ะทะฐะผะตัะธะปะฐ, ััะพ ะฝะฐ ะฝะพะณะฐั ั ะพะฑะตะธั ะบัะพััะพะฒะบะธ: ั ะพะดะฝะพะน ั ะพัะฐะฝะถะตะฒัะผะธ ัะฝััะบะฐะผะธ, ั ะดััะณะพะน โ ั ัะตัะฝัะผะธ. ะะฐ ััะพั ัะฐะท ะฑะฐะฑััะบะธ ะทะฐัะปะธ ะฝะต ะฒ ะทะฐะฑะตะณะฐะปะพะฒะบั, ะฐ ะฒ ะฟะพะดัะตะทะด, ะบัะดะฐ ะะธะทะฐ ะฒ ะฝะฐัะฐะปัะฝะพะน ัะบะพะปะต ั ะพะดะธะปะฐ ะฝะฐ ััะพะบะธ ัะพััะตะฟะธะฐะฝะพ, ะฐ ะฟะพัะพะผั ะทะฝะฐะปะฐ, ััะพ ัะฐะผ ะตััั ัะตัะฝัะน ั ะพะด. ะ ะฐะทัะผะตะตััั, ะพะฑะพัะปะฐ ะดะพะผ, ััะฐะปะฐ ะฟะพะดะถะธะดะฐัั ะฝะฐ ะดััะณะพะน ััะพัะพะฝะต ะดะพัะพะณะธ. ะ ััั ัะฒะธะดะตะปะฐ, ะบะฐะบ ะฟะพะดัะตะทะถะฐะตั ัะฐะบัะธ, ะฐ ะธะท ะดะพะผะฐ ะฒัั ะพะดัั ะผะฐะผะฐ ะจะตัะณะธะฝะพะน (ะฝะต ัะฐะบะฐั ัะถ ะพะฝะฐ ะณะปัะฟะฐั) ะฒ ะบัะพััะพะฒะบะฐั ั ะพัะฐะฝะถะตะฒัะผะธ ัะฝััะบะฐะผะธ ะธ ะบัะพ-ัะพ, ะฟะพั ะพะถะธะน ะฝะฐ ัะปะตะณะบะฐ ะทะฐะณัะธะผะธัะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะฟะพะบะพะนะฝะพะณะพ ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ. ะะฑะฐ ัะฐะดัััั ะฒ ัะฐะบัะธ โ ะธ ะฟัะธะฒะตั.
— ะัะถะฝะพ ะธั ะฟะพะนะผะฐัั! โ ะฑะพะดัะพ ะทะฐะบะปััะธะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะ ั ัะตะฑั ััะพ?
ะะตัั ัะฐััะบะฐะทะฐะป ะฟัะพ ะฝะฐัะฐัะพะต ะฟะธััะผะพ.
— ะขั ะฟัะพัะธัะฐะป?
— ะขะพะปัะบะพ ะฝะฐัะฐะป.
— ะขะพะณะดะฐ ะฟะพะดะพะถะดะธ! ะะฐะฒะฐะน ัะพะฑะตัะตะผ ะฒัะตั ะธ ะฟัะพัะธัะฐะตะผ ะฒะผะตััะต!
ะะปะฐะฒะฐ 7. ะะปะตะฝะฐ ะะตััะตัะธะฝะฐ. ะฃ ะะตััะฐ


ะะธะปะปะธะพะฝะตั ะััั ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฟะตัะตััะฐะป ะฑััั ะผะธะปะปะธะพะฝะตัะพะผ. ะะตัะฒะฐั ะถะต ะฟะธััะฐ, ะดะพััะฐะฒะปะตะฝะฝะฐั ะฝะฐ ะดะพะผ, ะฟัะตะฒัะฐัะธะปะฐ ัะตะผะธะทะฝะฐัะฝัั ัะธััั ะฝะฐ ะตะณะพ ััะตัั ะฒ ัะตััะธะทะฝะฐัะฝัั. 999 ััััั 501 ััะฑะปัโฆ โ ะฑะตััััะฐััะฝะพ ะฒัะฟัั
ะธะฒะฐะป ัะบัะฐะฝ ัะตะปะตัะพะฝะฐ, 998 ััััั 139 ััะฑะปะตะนโฆ
ะขะพ ะธ ะดะตะปะพ ัะฐะทะดะฐะฒะฐะปัั ะทะฒะพะฝะพะบ ะดะพะผะพัะพะฝะฐ, ั
ะปะพะฟะฐะปะฐ ะดะฒะตัั, ะฒะฝะพัะธะปะฐัั ะฝะพะฒะฐั ะทะฐะบะฐะทะฐะฝะฝะฐั ะตะดะฐ, ะฝะฐ ัะตะปะตัะพะฝ ะฟัะธั
ะพะดะธะปะฐ ะพัะฑะธะฒะบะฐ: ะตัั, ะณะพัะฟะพะดะธะฝ ั
ะพัะพัะธะน, ัะฝัะปะพัั ั ะบะฐััะพัะบะธ, ะตัั, ะตัั.
ะะฝ ะฒะฟะตัะฒัะต ััััะฐะธะฒะฐะป ะฟัะธัะผ. ะะฐ ะบ ัะพะผั ะถะต ะฒ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะผ ะดะพะผะต. ะญัะพ ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ะดะตะปะพะผ ะฟัะธััะฝัะผ, ัะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะปะพะฒะบะพััะธ ะตะณะพ ััะบ ะฝะต ะฟะพััะตะฑะพะฒะฐะปะฐัั: ัะพัะตะดะบะฐ ะฟะพ ะฟะฐััะต ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ัะฐะทะดะพะฑัะปะฐ ะฝะพะผะตั ัะตะปะตัะพะฝะฐ โ ะธ, ะบะฐะบ ัะพะปัะบะพ ะััั ะฒะพััะป ะฒ ัะฒะพั ะบะฒะฐััะธัั, ะธะท ะบะตะนัะตัะธะฝะณะพะฒะพะน ัะปัะถะฑั ะฟัะธะตั
ะฐะปะธ ะดะฒะฐ ะพัะธัะธะฐะฝัะฐ ั ะฝะฐะฑะพัะพะผ ะตะดั ะธ ะฟัะตะดะผะตัะฐะผะธ ัะตัะฒะธัะพะฒะบะธ. ะัะฐัะพัะพะน ะธ ััะฐััั ะพะฝะธ ะฟะตัะตะฟะปัะฝัะปะธ ะณะพัะฝะธัะฝัั ะะฝะธ, ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะต, ััะพ ัะผััะฐะปะพ, โ ะพะดะตัั ะธ ัะบะธะฟะธัะพะฒะฐะฝั ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะดะปั ะฟะธะถะฐะผะฝะพะน ะฒะตัะตัะธะฝะบะธ. ะะพัะพะผั ััะพ ัะฐััะตัะฝะฝะฐั ะัะปั ัะบะฝัะปะฐ ะฟัั
ะปัะผ ะฟะฐะปััะธะบะพะผ ะฝะต ะฒ ัั ัััะพะบั ะผะตะฝั โ ะธ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะปะฐ ััะพะณะพ. ะััั ะทะฐะบะฐะทะฐะป ะบะพะบัะตะนะปั-ะฟะฐัะธ, ะฐ ะฟะพะปััะธะป ะฟะฐัะธ ะฒ ะบะพัััะผะฐั
ะดะปั ัะฝะฐ ะธ ะพัะดัั
ะฐ. ะกะพ ัะผััะตะฝะธะตะผ ัะฟัะฐะฒะธะปะธัั ะฑััััะพ: ะบะฐะถะดัะน ะณะพััั ัะพะพะฑัะธะป, ััะพ ะพะฝ ะฑัะดะตั ะตััั, ะณะดะต ััะพ ะทะฐะบะฐะทะฐัั โ ะธ ัะพ ะฒัะตั
ะบะพะฝัะพะฒ ะะพัะบะฒั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝัะน ะฟะตัะตัะปะพะบ ััััะตะผะธะปะฐัั ะตะดะฐ.
ะััั ะฑะพะณะฐััะผ ะธ ะฝะธ ะฒ ััะผ ะฝะต ะพัะบะฐะทัะฒะฐัั ะดััะทััะผ ะะตัะต ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั. ะะพัะฒะธะปัั ัะผััะป ะพะฑะผะตะฝะฐ ะบะฝะพะฟะพัะฝะพะณะพ ัะตะปะตัะพะฝะฐ ะฝะฐ ััะธะปะตะฝะฝัะน ะฟะฐััะธะฝะฝะพะน ัะฒัะทัั.
ะะพ. ะะพะบะฐ ะฒัะต ัะพะฑะธัะฐะปะธัั ะธ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะปะธ ะธะฝัะตััะตัั, ั
ะฒะฐัะฐะปะธัั ะทะฐ ัะฐะฑะปะธ, ะฑะพะดะฐะปะธัั ั ะฑะธะฒะฝะตะผ ะธ ะบัััะธะปะธ ะฒะธะฝะธะปะพะฒัะต ะฟะปะฐััะธะฝะบะธ, ะะตะทะฝะพัะพะฒโฆ ะณะฝะฐะป ะพั ัะตะฑั ะผััะปั, ััะพ ะตะผั ะถะฐะปะบะพ ััะฐัะธัั ะดะตะฝัะณะธ! ะงัะพ ั
ะพัะตััั ัะบะพัะตะต ะฝะฐัะฐัั ะธั
ะฟัะตัะผะฝะพะถะฐัั, ััะพะฑั ะฒะตัะฝััั ะฟะพะดะบะธะฝัััั ะฝะฐ ะบะฐัะผะฐะฝะฝัะต ัะฐัั
ะพะดั ะทะฐะฒะตัะฝัั ัะธััั 1 000 000, ัะดะตะปะฐัั ะธะท ะฝะตั 2 000 000, ะธ ะดะฐะปััะต, ะดะฐะปััะตโฆ ะะพะบะฐ ััะพ ะพะฝ ะฒัััะฟะธั ะฒ ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ! ะกะตะนัะฐั, ะฝะฐะดะพ ัะตะนัะฐั.
ะะฝ ะฝะต ัะทะฝะฐะฒะฐะป ัะตะฑั, ะผััะปะตะฝะฝะพ ะฒะณะปัะดัะฒะฐะปัั ะฒ ัะฒะพั ะฝะพะฒะพะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต โ ะธ ัััััะธ ัะพััะพัะฝะธะน ะฟัะพะฝะพัะธะปะธัั ัะตัะตะท ะตะณะพ ััะตะฟะตัะฝัั ะดััั.
ะัะตัะตะดะฝะพะน ะทะฒะพะฝะพะบ ะดะพะผะพัะพะฝะฐ ะพัะฒะปัะบ ะพั ัะผััะฐััะตะน ะผััะปะธ. ะะตัั ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ั ะพะฑะปะตะณัะตะฝะธะตะผ โ ะกะบััะดะถะตะผ ะฑััั ะฝะต ั
ะพัะตะปะพััโฆ
ะะพัะปะธ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะบัััะตั ั ะบะพัะพะฑะบะพะน ัััะธ ะดะปั ะะฐัะฐะนัะตะฒัั
ะธ ะฝะตะฟัะธะฒััะฝะพ ััะตัะฝะธัะตะปัะฝัะน ะกะตะปะตะทะฝัะฒ, ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะผะพะผะตะฝั ะฒัั-ัะฐะบะธ ัะตัะธะฒัะธะน ะฟัะธะนัะธ…
โฆะัะต ะฐััะตัะฐะบัั, ะฒัะปะพะถะตะฝะฝัะต ะะตะทะฝะพัะพะฒัะผ ะดะปั ะพัะผะพััะฐ, ะฑัะปะธ ะธะทััะตะฝั. ะ ะบะพะฝะฒะตััั ั ะทะฐะฟะธัะบะฐะผะธ, ะธ ะบะฐัะฐะปะพะณะธ, ะธ ะผะฐัะบะธ, ะธ ะฝะฐัะฐัะพะต ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะต ะฟะธััะผะพ, ะธ ัะพัะพะณัะฐัะธะธ ะฐะปัะฑะพะผะฐะผะธ-ัะพัััะฟัั-ะฟะฐัะบะฐะผะธ, ะธ ะฑะปะพะบะฝะพัั ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ-ะพััะฐ. ะ ะฐะท ะพััะฐะฒะปะตะฝั ะฝะฐัะปะตะดะฝะธะบั โ ะทะฝะฐัะธั, ะธะทััะฐัั ะผะพะถะฝะพ.
ะัะผะพััะตัั ะพัะผะพััะตะปะธ, ะฝะพ ััะฝะตะต ะฝะต ััะฐะปะพ. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะผะพะถะฝะพ ะฑััััะพ ัั
ะฒะฐัะธัั ะฒัะต ัะปะธะบะธ ะทะฐ ั
ะฒะพััั, ะฟัะธะปะฐะดะธัั ะธั
ะดััะณ ะบ ะดััะณั, ะฐ ะฟะพัะพะผ ััะพะปะบะฝััั ะปะฑะฐะผะธ โ ะฒะพั ัะผััะป ะธ ะฟะพัะฒะธััั. ะะพ ะพะฝ ะฝะต ะฟะพัะฒะธะปััโฆ
ะ ัะพะณะดะฐ ัะปะพะฒะพ ะฒะทัะป ะคัะดะพั.
— ะั ัะพะฑัะฐะปะธัั, ััะพะฑั ัะฒัะทะฐัั ะฒัะต ะฝะธัะพัะบะธ ัะพะณะพ, ััะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั ั ะฝะฐะผะธ, ะฝะฐัะตะน ัะบะพะปะพะน ะธ ะบะฒะฐััะฐะปะพะผ. ะกัะฐะฝะพะฒะธััั ััะฝะพ, ััะพ ะธ ัะตะนัะฐั, ะธ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฒ ะฑัะดััะตะผ, ะฒัะตะณะดะฐ ััะตะดะธ ะฝะฐั ะธะปะธ ััะดะพะผ ะฑัะดะตั ะบัะพ-ัะพ, ัะฟะพัะพะฑะฝัะน ะบะฐัะดะธะฝะฐะปัะฝะพ ะผะตะฝััั ััะดัะฑั ะปัะดะตะน. ะฆะตะปะพะณะพ ะณะพัะพะดะฐ. ะกััะฐะฝั. ะะฐะบ-ัะพ ะฝะฐะผ ะฝะฐะดะพ ะฝะฐััะธัััั ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ ัะตะฐะณะธัะพะฒะฐัั ะธ ะฒะปะธััั ะฝะฐ ััะพ, ะฒั ะฝะต ะฝะฐั
ะพะดะธัะต?
ะะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ัะธะดะตะปะธ ะธ ะผะพะปัะฐะปะธ. ะะต ัะบะฐะทะฐัั, ััะพ ะธั
ะพัะธัะธะฐะฝัั ัะผััะฐะปะธ. ะัะธัะธะฐะฝัั ะทะฐะฝัะปะธ ะฟะพัั ั ัะฐะทะพะถะถัะฝะฝะพะณะพ ะบะฐะผะธะฝะฐ ะธ ะพัััะดะฐ ะฑะดะธัะตะปัะฝะพ ัะปะตะดะธะปะธ ะทะฐ ะฝะฐะฟะพะปะฝะตะฝะฝะพัััั ััะฐะบะฐะฝะพะฒ ะธ ัะฐัะตะปะพะบ.
โ ะฏ ัะตะนัะฐั ะฒัั
ะพะดะธะป ะธะท ะดะพะผะฐ โ ะบ ัะพะดะธัะตะปัะผ ะพั ะทะฐัััะพะนัะธะบะพะฒ ะฟัะธัะปะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะัะธะฝะตัะปะธ ะดะพะบัะผะตะฝัั ะฝะฐ ะฟะพะดะฟะธัั. ะะฐั ะถะดัั ััััะบะฐ ะฒ ะะฐัััะธะฝะบะฐั
. ะะฐ ะฟะตัะตะตะทะด ะฒัะดะตะปัั ะฐะฒัะพััะฐะฝัะฟะพัั ะธ ัะฟะตััะฐะฑะพัะธั
.
โ ะั ะตะดะตะผ ััะดะฐ ะถะตโฆ โ ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝะฐั ะถะฐะปะพะฑะฐ ะฝะฐ ะถะธะทะฝั ััะฐะทั ัะฟะปะพัะธะปะฐ, ะธ ะฒัะต ะทะฐะณะพะฒะพัะธะปะธ ัะฐะทะพะผ:
โ ะะฐั ะฟัะพะฟะธัะฐะฝะพ ะดะฒะพะต, ะฟัะตะดะปะพะถะธะปะธ ะพะดะฝััะบั ะฒ ะะฐะผะพะถะฐะน-ะะฐะณะพะฝะพะฒะต-ะะตััะฟะตะบัะธะฒะฝะพะผ, ะฝะพ ะฟะฐะฟะฐ ะฒัะตะผ ะพัะฑะฐัะปัะป ะธ ะฟะพะผะตะฝัะป ั ะดะพะฟะปะฐัะพะน ะฝะฐ ะกะตัะฟัั
ะพะฒะบัโฆ
โ ะัััะตัะธะผัั ะฒ ะะฐัััะธะฝะบะฐั
, ะฝะฐั ััะดะฐ ะถะต!
โ ะะธััะปัะฒะพ-ะขะพะฒะฐัะฝะพะต!
โ ะะพะธะผ ะฝะฐ ยซะะพัััะปัะณะธยป ะฟัะธัะปะพ ัะพะพะฑัะตะฝะธะต โ ั ะฝะฐั ะฝะพะฒะพัััะพะนะบะฐ ะฒ ะกะฐะปะฐััะตะฒะต.
โ ะะฐัะฐะนัะตะฒัั
ะฒ ะกะฐะปะฐััะตะฒะพ! โ ะฐั
ะฝัะป ะคัะดะพั. โ ะ ะบะฐะบ ะถะต ัะตะฟะตัั ััััะฐะธะฒะฐัั ัััะพะฒะบะธ โ ะฝะธะบัะพ ะธะท ะฒะฐัะธั
ะฑะพะณะตะผะฝัั
ะณะพััะตะน ััะดะฐ ะฝะต ะฟะพะตะดะตั! ะะฐะบ ัะฒะพะน ะพัะตั ะฒ ัะพะปั ะฑัะดะตั ะฒั
ะพะดะธัั? ะะดะต ัะตัะฟะฐัั ะผะฐัะตัะธะฐะป?
โ ะฃั
, ะจะตัะณะฐโฆ โ ะฝะฐั
ะผััะธะปัั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ.
โ ะะฑ ะพััััััะฒัััะธั
ะฒัั ะธะปะธ ะฝะธัะตะณะพ, โ ะฟัะตััะบ ะตะณะพ ััะตะฝะฐะฝะธั ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ, โ ะฐ ะฟะพัะบะพะปัะบั ะฒัะตะณะพ ะพ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพัััั
ะะฝะธ ะฒะปะธััั ะฝะฐ ะพััะฐ ะผั ะทะฝะฐัั ะฝะต ะผะพะถะตะผ, ะดะฐะฒะฐะนัะต ัะพะปัะบะพ ะพ ัะพะผ, ััะพ ะธะผะตะตะผ ะฝะฐ ะดะฐะฝะฝัะน ะผะพะผะตะฝั. ะะพะฟัะฐะฒะปัะนัะต ะธ ะดะพะฟะพะปะฝัะนัะต ะผะตะฝั. ะกะฝะพั ะดะพะผะพะฒ โ ัะตะฐะปัะฝะพััั. ะขะพ, ััะพ ะฝะฐ ะผะตััะต ะฝะฐัะตะน ัะบะพะปั ะฑัะป ั
ัะฐะผ ะขัะพัะธะผะฐ ะัะฐะบะปะธะพะฝัะบะพะณะพ, ัะฝะตััะฝะฝัะน ะฟัะธ ัะฐัะธะทะผะต, ะบะฐะบ ะผั ะฟะพะฝัะปะธ ัะตะนัะฐั, ัะพะถะต ัะตะฐะปัะฝะพััั. ะะตะทะฝะพั, ะผะตัะฝะธ ะฝะฐะผ ะฝะตะฟัะธัะบัะฐัะตะฝะฝัะน ัะฐะบัะฐะถ.
ะะตัั ะฑัะพัะธะปัั ะบ ััะพะปั, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ะฑัะปะธ ัะพะฑัะฐะฝั ัะฐะผัะต ะธะฝัะพัะผะฐัะธะฒะฝัะต ะฐััะตัะฐะบัั, ะทะฐะฒะพะปะฝะพะฒะฐะปัั, ะฝะพ ะฒะตัะฝัะน ะะพัะพั
ะพะฒ ะฟัะธััะป ะตะผั ะฝะฐ ะฟะพะผะพัั.
โ ะะฐะฟะฐ, ะฒ ะพะฑัะตะผ… ะฐัั
ะตะพะปะพะณโฆ ะะฝ ะทะฝะฐะบะพะผ ะฑัะป ั ะพััะพะผ ะะฝะธ. ะ ะฟะปะฐะฝะฐั
ะพะฝ ะธะผะตะป ัะฐัะบะพะฟะบะธ. ะะพะผะตัะฐะป ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัะปััะฐะนโฆ ะ ะฒะดััะณ ะพะฝ ัะพะฑะธัะฐะปัั ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะธัั ั
ัะฐะผ?
โ ะะพััะฐะฒะธัั ะตะณะพ ะฒะผะตััะพ ะฝะฐัะธั
ะดะพะผะพะฒ? ะะฐะบ ะฟะพ-ั
ัะธััะธะฐะฝัะบะธ!
โ ะะพ ะดะพะผะฐ ะถะต ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ัะพะถะต ะฟะพััะฐะฒะธะปะธ, ะฐ ั
ัะฐะผ ัะฝะตัะปะธ?
โ ะขะฐะบ, ะผะพะถะตั, ะพะฝ ะฟัะพััะพ ัะฐะทะฒะฐะปะธะปัั โ ะฒะพั ะธ ัะฝะตัะปะธโฆ
โ ะะฐะดะพ ะธะทััะธััโฆ
โ ะะทััะฐะน!
โ ะ ััะพะฑั ะพะฑัะตััะฒะตะฝะฝะพััั ะฝะต ัะฝะพัะธะปะฐ ะทะฐะฑะพัั, ั
ัะฐะผ ะฟะพัััะพัั ะฒ ัะฐะผะบะฐั
ัะตะฝะพะฒะฐัะธะธ ะธ ัะฒัั ะผะธัั ัะถะต ะฟะพะปะฝะพัััั ะณะพัะพะฒัะผ, โ ะะตัั ะฟะพะฒััะธะป ะณะพะปะพั. ะ ะพะฟััั ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป ัะฒะพั ัะธะปั โ ะฒะตะดั ะตัะปะธ ะตะณะพ ะฝะต ะฑัะดัั ัะปััะฐัั, ะพะฝ ะผะพะถะตั ะทะฐะฟะปะฐัะธัั, ะฟัะธะดัั ัะฟะตัะปัะดะธ โ ะธ ัะถ ัะธัะธะฝั-ัะพ ัะพัะฝะพ ัะพะฑะปัะดะฐัั ะทะฐััะฐะฒัั. ะญัะฐ ะผััะปั ะฟัะธะดะฐะปะฐ ะตะผั ัะฒะตัะตะฝะฝะพััะธ. โ ะะฐ-ะดะฐ, ะฒ ัะพััะฐะฒะต ัะพัะณะพะฒะพ-ัะฐะทะฒะปะตะบะฐัะตะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ.
โ ะัั ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ: ัะฐะผ ัะพะณัะตัะธะป โ ััั ะบะฐะนัั! โ ััะผะตั
ะฝัะปัั ะะฐัั.
ะะตัั ัะฒะตัะตะฝะฝะพ ะณะฝัะป ะดะฐะปััะต:
โ ะะฐะผะฐ ะะฝะธ ะฒ ะบะพะผะฟะฐะฝะธะธ ั ะบะตะผ-ัะพ, ะฟะพั
ะพะถะธะผ ะฝะฐ ะฟะพะณะธะฑัะตะณะพ ะฟัะธ ัััะฐะฝะฝัั
ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐั
ะพััะฐ ะกะพะฝะธ ะะฐัะฐะนัะตะฒะพะน, ะธะทะฒะธะฝะธ, ะกะพะฝั, ัะพะถะต ัะตะฐะปัะฝะพััั. ะะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธโฆ
โ ะััััััะฒะธะต ัะฒัะทะฐะฝะฝะพะน ั ะฝะตะน ัะฐะนะฝั, โ ะฐะบัะตะฝัะธัะพะฒะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะปะธ ะถะต ะณัะฐะผะพัะฝะพะต ััะพะน ัะฐะนะฝั ัะพะบัััะธะต, โ ะฟะพะดะฐะปะฐ ะณะพะปะพั ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.
ะัะต ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะฝะตั.
โ ะคะฐะปัั-ััะตะฝะฐ, ัะฐะปัั-ะฟะพะป, ะฟะพัะพะปะพะบ, ัะฝัะปะฐั ะผะตัะปะฐ ะดะปั ะพัะฒะพะดะฐ ะณะปะฐะทโฆ โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะัะพ-ัะพ ัะฒะพะดะธั ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต ะพั ะพะฑัะตะบัะฐ. ะะพะถะตั ัะฐะบะพะต ะฑััั?
ะัะต ัะพะณะปะฐัะธะปะธัั, ััะพ ะผะพะถะตั. ะะฐะฒะตัะฝะพะตโฆ
โ ะกัะพะฟ, ะะตะทะฝะพัะพะฒ! โ ะะฝะดัะตะน ั ะณััะฐััะบะธะผ ัะธะบะพะผ ัะฑัะพัะธะป ั ะฟะปะตัะฐ ะพะฒะตัะธะน ััะปัะฟ ะธ ะฟะพะดะพััะป ะบ ััะพะปั. โ ะฏ ัะตะนัะฐั ะฐะฝะธะผะธััั ัะฒะพั ะผััะปั.
ะ ะฐัััะฐะฒะธะฒ ัะฐะทะฝะพัะฒะตัะฝัะต ะบะตะบัะธะบะธ ะฝะฐ ััะพะปะต ัะฐะบ, ััะพ ะบะพะผะฟะพะทะธัะธั ะฑัะปะฐ ะฟะพั
ะพะถะฐ ะฝะฐ ะผะพะดะตะปั ะธั
ะบะฒะฐััะฐะปะฐ, ะัะฑะพัะบะธะน ะฟัะพััะฝัะป ะดะฒัั
ัะปะพะนะฝะพะต ะฟะธัะพะถะฝะพะต ะะธะทะต. ะะฝะฐ ะพัััะฐะฒะธะปะฐ ะตะณะพ ะฟะพะดะฐะปััะต.
โ ะะพะดะพะบะฐัะบะฐ?
โ ะะณะฐ.
ะก ะดััะณะพะน ััะพัะพะฝั ะฟัะธัััะพะธะป ะบะพัะตััะถะบั ั ะปะธััััะผะธ ะฐะฝะฐะฝะฐัะฐ:
โ ะ ะฐะนะพะฝะฝัะน ะดัะฑ. ะฃะทะฝะฐััะต ะฟะตะนะทะฐะถ?
โ ะ ะผั ั ัะพะฑะพะน, ะะฝะดัะตะน, ะฟะพะด ะฝะธะผ ะถัะปัะดะธโฆ
โ ะ ัะฒะตัั
ั ะฝะฐ ะฒะฐั ะบะพั ัััะฝัะนโฆ
โ ะ ะทะฝะฐะตัะต, ะดะฐ ะธ ะฟัั ั ะฝะธะผ! โ ะณัะพะผะบะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะพัะพั
ะพะฒ. โ ะะฐะผ ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั. ะั ะฝะต ะพ ัะพะผ ะณะพะฒะพัะธัะตโฆ
ะะฐัะฐัะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ ะฝะฐััะฟะธะปะฐัั: ัะตะผะฐ ัะฑะพัะฐ ะถะตะปัะดะตะน ัะฐะบ ะธ ะฟัะพัะธะปะฐัั ะฒ ััะธั, ะฝะพ ัะฝะพะฒะฐ ะตะน ะฝะฐัััะฟะธะปะธ ะฝะฐ ะณะพัะปััะบะพ. ะ ะฒัั ััะพั ะฝะตัะพะผะฐะฝัะธัะฝัะน ะะพัะพั
ะพะฒ. ะะปะธ ััะพ ัะฐะบ ะฒััะฐะถะฐะตััั ะบัะตะฟะบะฐั ะฑัััะฐะปัะฝะพััั?
โ ะะฐะบะพะน ะฟัั, ัั ะฟะพัะผะพััะธ โ ะฟะพ ัะพัะผะต ััะพ ะฝะฐัััะฐะปัะฝัะน ะพััะป, โ ะฝะฐั
ะผััะธะปะฐัั ะะธะทะฐ, ะฟะพััััะฐะฒ ะฟะพ ััะพะปั ะผะฐะบะฐัะพะฝะธ ะธ ะบะพัะตััะถะบะพะน. โ ะั, ัะฟะธัะฐะฝะฝัะน ะพััะป, ะพััะป-ััะบะพะฒะพะดะธัะตะปัโฆ
ะกะบะตะฟัะธั ัะพัะฐัะฝะธะบะพะฒ ัะดะธะฒะปัะป ะตั โ ะธ ะฒะดะพั
ะฝะพะฒะปัะป ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ.
โ ะงัะพ ะผะพะถะตั ะทะฝะฐัะธัั ะพััะป ะฒ ัะฐะนะฝะพะน ัััะตัะธะบะต ัะผััะปะพะฒ? โ ัะฒะตัะบะฝัะปะฐ ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะพะฑััะฝะพ ะฝะตะฒะพะทะผััะธะผะฐั ะะธะทะฐ. โ ะัะปะธ ะพะฑัะฐัะธัััั ะบ ะทะฐะฟะธััะผ ัะฐััะบะพะณะพ ะขะฐะนะฝะพะณะพ ะฟัะธะบะฐะทะฐโฆ ะงัะพ, ะฝะตั? ะัะดะตะฝัะบะธั
ัะธััะพะฒะพะบ ั
ัะฐะผะพะฒะฝะธะบะพะฒ? ะะฐะนั ะธ ัะทะตะปะบะพะฒัะน ะพัะปะฐะฝ ัะธะปะธะนัะบะพะณะพ ะะพะทัะพะถะดะตะฝะธั ัะพะถะต ะฝะต ััะดะฐ?
โ ะขัั ะฟะพะบะฐะทะฐะฝะพ, ะณะดะต ัะฟัััะฐะฝ ะบะปะฐะด? โ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธะปะฐ ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, ะฟะพะดััะฐะฒะปัั ะฝะตะฒะพะทะผััะธะผะพะผั ะพัะธัะธะฐะฝัั ั
ะฐะนะฑะพะป ะฟะพะด ะฟะพัะพะบ ะถะธะฒะธัะตะปัะฝะพะน ะฟะตะฟัะธ-ะฒะปะฐะณะธ.
โ ะญัะพ ะฒะธะฝะพะฒะฐัั ะดะตััะบะธะต ะดะตัะตะบัะธะฒั ัะตัะตะดะธะฝั ะฟัะพัะปะพะณะพ ะฒะตะบะฐ, ะฑัะพะฝะทะพะฒัะต ะฒั ะผะพะธ ะฟัะธัะตะปะพะฒั, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะ ะฐะทะฒะปะตะบะฐัะตะปัะฝะฐั ะดะตััะบะฐั ะปะธัะตัะฐัััะฐ ะฟะพัะปะตะดัััะธั
ะฒัะตะผัะฝ ะดะพะฒะตะปะฐ ะดะพ ะฐะฑัััะดะฐ ะธะดะตั ะทะฐัะธััะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะฟะพัะปะฐะฝะธั. ะขะฐะบ ััะพ ะฝะต ัััะฐะดะฐะนัะต ะทัั. ะฏ ัะปะพะถะธะป ััั ะบะพะผะฟะพะทะธัะธั ัะพะปัะบะพ ะดะปั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ะฟะพะบะฐะทะฐัะตะปัะฝะพ ัะฐะทัััะธัั. โ ะก ััะธะผะธ ัะปะพะฒะฐะผะธ ะพะฝ ะทะฐะฟััะณะฝัะป ะฝะฐ ััะพะป, ะฒััะฐะป ะฝะฐ ััะบะธ โ ะธ, ะฟะตัะตะฝะตัั ะพะฟะพัั ะฝะฐ ะพะดะฝั, ะดััะณะพะน ััะบะพะน ัะฐะทะฒะฐะปัะป ะบะตะบัั ะฟะพ ััะพะปั. ะะตัะผะพะปะธะผัะน ัะพะบ. ะะพะณ ะดะฐะป, ะะพะณ ะฒะทัะป. ะกะพะฑัะฐะฒัะธะตัั ะฟัะธัะธั
ะปะธโฆ ะะดะฝะฐ ัะพะปัะบะพ ะะฐัะฐัะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ ะฝะต ัะดะตัะถะฐะปะฐ ะฒะพััะพัะถะตะฝะฝะพะณะพ ะฒะทะดะพั
ะฐ: ัะพะผะฐะฝัะธะบะฐ ะผััะบัะปะธััะพะน ะฟะปะพัะธ ะฟัะธะฒะพะดะธะปะฐ ะตั ะฒ ัะบััะฐะท ะธ ััะตะฟะตัะฝะพะต ะฒะพัั
ะธัะตะฝะธะต.
โ ะั ะฝะต ะฒ ัะธะปะฐั
ะฑะพัะพัััั ัะพ ะทะปะพะผ, โ ัะฟััะณะฝัะฒ ัะพ ััะพะปะฐ, ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะพะฑัะพ ะฝะต ะผะพะถะตั ัะฝะพัะธัั ะฝะฐัะธ ัะพะดะพะฒัะต ะณะฝัะทะดะฐ, ะทะฝะฐัะธั, ะฝะฐั ัะฝะพัะธั ะทะปะพ. ะะพ ะฒ ะผะฐัััะฐะฑะฐั
ะณะพัะพะดะฐ ััะพ ะฝะต ะทะปะพ, ะฐ ะฟัะพััะพ ะฑะธะทะฝะตั, ะฝะธัะตะณะพ ะปะธัะฝะพะณะพ. ะัะตั ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฝะต ะทะปะพะดะตะน, ะฐ ะปัััะธะน ัะตะปะพะฒะตะบ ะฝะฐัะตะณะพ ะพะฑัะตััะฒะฐ. ะะพัะพะผั ััะพ ัะผะพะณ, ัะตะฐะปะธะทะพะฒะฐะปัั, ะทะฐััะฐะฒะธะป ะฒ ัะตะฑั ะฟะพะฒะตัะธัั. ะก ะฝะธะผ ะทะฐัััะพะนัะธะบะธ, ะฐะบัะธะพะฝะตัั, ัะฝัะตั-ะดะตะฒะตะปะพะฟะตัั, ะฑัะดััะธะต ะฐัะตะฝะดะฐัะพัั ะธ ะฐัะตะฝะดะพะดะฐัะตะปะธ, ัะตะปะฐั ะฐัะผะธั ัะบะพะฝะพะผะธัะตัะบะธ ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝะฝัั
. ะะดะตั ัะตััะพัะฐ ะพัะฟะฐะดะฐะตั โ ะทะฐะผะตััั, ัะฐะฝัะฐะถ ะธ ะฟะพะดะบัะฟ ัะพะถะต ะฝะตัะตะฐะปัะฝั, ะผั ะฑะตััะธะปัะฝั ะฟะตัะตะด ะฒะปะฐัััั ะดะตะฝะตะณ. ะััะฐัััั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะฒะฐัะธะฐะฝั โ ยซะถะดะฐัั ััะดะฐยป. ะะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะณะฝะพะฒะตะฝัั ะดะตัััะฒะฐ ะผั ะฟัะพะฒะตะดัะผ, ะธะณัะฐั ะฒ ะดะตัะตะบัะธะฒะพะฒโฆ
ะะณะพ ะฟะตัะตะฑะธะปะฐ ัะผะฝะฐั ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ:
โ ะัะตะดะปะฐะณะฐั ะฟัะธะดัะผะฐัั ัะตะฑะต ะบะฒะตัั. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะฑะฐะทะพะฒัะต ะพัะธะตะฝัะธัั ะตััั โ ะธััะตะทะฐััะธะต ััะฐัััะบะธ, ะฟะพััะฐะป ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะพ, ะฒัั
ะพะด ะะปะฐ ัะตัะตะท ะฒะทะพัะฒะฐะฝะฝัั ะฒะพะดะพะบะฐัะบัโฆ
โ ะัะดะตะผ ะฒัััะตัะฐัััั ะฝะฐ ััะธะฝะฐั
ะดัะฑะฐ, ะฝะพััะฐะปัะณะธัะพะฒะฐัั, ะฐ ะฟะพัะปะต ัะพะปะตะฒะพะน ะธะณัั, ัะฝัะฒ ะทะฐะป ะฒ ะพะดะฝะพะผ ะธะท ัะตััะธะบะพะฒ ะฑัะดััะตะณะพ ัะพัะณะพะฒะพะณะพ ัะตะฝััะฐ ะจะตัะณะธะฝัะบะพะณะพ ะฟะฐะฟะฐัะธ, ะฒะตัะตะปะพ ะพัะผะตัะฐัั ััะพ? โ ัััะบะฝัะป ะะพัะพั
ะพะฒ.
โ ะะธะบะฐะบะพะน ะธัะพะฝะธะธ, ะบะพัะผะพะฝะฐะฒัั ัะผััะปะพะฒ, โ ะฝะตะฒะตัะตะปะพ ััะผะตั
ะฝัะปัั ะัะฑะพัะบะธะน, โ ะฝะฐะผ ะฑะพะปัะฝะพ, ะฒะตะดั ะผั ะพะฑัะตัะตะฝั ะตะทะดะธัั ะฒ ะฝะฐัั ะณะธะผะฝะฐะทะธั ัะพ ะฒัะตะน ะะพัะบะฒั, ะบะฐะบ ะธ ะฑะพะปััะธะฝััะฒะพ ะตั ััะตะฝะธะบะพะฒ. ะะฐัะธ ะฟัะตะดะบะธ ะฟะฐะบััั ะธะผััะตััะฒะพ, ะฒะฟะตัะตะดะธ ัััะพะฒัะน ะผะธั ะดะตะผะพะบัะฐัะธัะตัะบะพะณะพ ะบะฐะฟะธัะฐะปะธะทะผะฐ โ ัะฐะบ ััะพ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตะผ ัะปััะธะฒัะตะตัั ั ะฝะฐะผะธ ะบะฐะบ ะฟัะธะฒะธะฒะบั ะฟะตัะตะด ะฒั
ะพะถะดะตะฝะธะตะผ ะฒ ััั ัะตะฐะปัะฝะพััั.
โ ะ ััะผ ัะผััะป ัะฒะพะตะณะพ ัะพัะธะฐะปะธััะธัะตัะบะพะณะพ ัะฟะธัะฐ? โ ะฝะตะถะฝะฐั ะผะฐะบะฐัะพะฝะธ ั
ััััะฝัะปะฐ ะฒ ะบัะปะฐะบะต ะะธะทั ะธ ะฟัะฐั
ะพะผ ัััะฟะฐะปะฐัั ะฝะฐ ะฟะพะป. ะัะตะผ ะดะตะฒััะบะฐ ััััะปะฐ ัะฐะปัะตัะบะพะน ั ะผะธัััะบะฐะผะธ.
โ ะัะตะดะปะฐะณะฐั ัะดะฐัััั.
โ ะกะดะฐัั ะะพัะบะฒั ะะฐะฟะพะปะตะพะฝั ะตัั ะฝะฐ ะตะณะพ ะฟะพะดั
ะพะดะต ะบ ะณัะฐะฝะธัะฐะผ? โ ะฐั
ะฝัะป ะะฐัั.
โ ะะณะฐ. โ ะฟะพะดัะฒะตัะดะธะป ะะฝะดัะตะน. โะะฐะถะต ะฑะตะท ะบะฒะตััะฐ. ะงะตััะฝะพ ัะฐััะปะฐะฑะธัััั ะธ ะฟะพะปััะฐัั ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะต.
โ ะ ะฒ ะดะตัะตะบัะธะฒะพะฒ ะธะณัะฐัั? ะขะพัะฝะพ ะฝะตั ัะผััะปะฐ?
โ ะะธะบะฐะบะพะณะพโฆ
โ ะจะตัะณะธะฝั ะฑะพะนะบะพัะธัะพะฒะฐัั?
โ Really? It`s dull and ineffective[1]โฆ
โ ะขะพะณะดะฐ ะฝะฐะดะพ ะบะฐะบ ะผะธะฝะธะผัะผ ะธะทะฒะธะฝะธัััั ะฟะตัะตะด ะะฝะตะน ะทะฐ ัะพ, ััะพ ะผั ะฝะฐ ะฝะตั ะดะฐะฒะธะปะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฐัั, โ ะฐ ะฑะพะนะบะพั ะฒะฐั โ ััะพ ะฟัะพััะพ…
โ ะะฐ ะฟะพะฝัะปะธ โ ะทะฐะฒััะฐ ะธ ัะดะตะปะฐะตะผ, โ ะบัะฐัะฝะพัะตัะธะฒะพ ะณะปัะดั ะฝะฐ ะะธะทั, ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะัะปั.
ะะธะทะฐ ะพัะฒะตัะฝัะปะฐัั, ะฝะพ ั ะพััะฐะปัะฝัั ัะพะฒะตััั ัะฐะผะพะพัะธััะธะปะฐัั.
ะกัะฐะปะพ ะปะตะณะบะพ.
ะ ะดะตะบะพัะฐัะธัั
ะฟะธะถะฐะผะฝะพะน ะฒะตัะตัะธะฝะบะธ ัะดะฐะฒะฐัััั ะฑัะปะพ ัะปะพะถะฝะพ, ะฝะพ ััะตะฝะธะบะธ 10 ยซะยป ะฟะพััะฐัะฐะปะธัั. ะะฑะปะฐะดะฐั ะฝะตะผะฐะปัะผ ะฝะฐะฑะพัะพะผ ัะปะธะบ, ัะฐะบัะพะฒ ะธ ะทะฐะณะฐะดะพัะฝัั
ะทะฝะฐะฝะธะน, ะพะฝะธ ั ัะฟะพะธัะตะปัะฝัะผ ะธ ะณะธะฑะตะปัะฝัะผ ะฒะพััะพัะณะพะผ ะฟัะตะฒัะฐัะธะปะธ ัะฐะนะฝะพะต ะดะตัะตะบัะธะฒะฝะพะต ัะพะฑัะฐะฝะธะต ะฒ ะฟะพะปะฝะพัะตะฝะฝัั ะฟะธะถะฐะผะฐ-ะฟะฐัะธ. ะะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ, ะฐ ััะพ ะฑัะปะพ โ ัะพ ะฟัััั ัะฐะทะณัะตะฑะฐัั ะฒะทัะพัะปัะต, ะบะพัะพััะต ะฟะฐะบััั ะฒะตัะธ. ะ ะฐะท ะพะฝะธ ัะดะฐะปะธัั, ัะพ ััะพ ะพะถะธะดะฐัั ะพั ัะตั
, ะบะพะณะพ ะพะฝะธ ะฟะพัะพะดะธะปะธ, ะดะฐะปะธ ะธะผ ะดะตะฝะตะณ ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐัั ะพะฟะตะบะฐัั?
ะะฒะตัั ะฟะตัะตััะฐะปะฐ ะทะฐะบััะฒะฐัััั โ ะฟะพััะฐะฒัะธะบะพะฒ ะฟัะพะดะพะฒะพะปัััะฒะธั ะฟะพ ะฟัะพััะฑะต ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ะพััะปะตะถะธะฒะฐะป ะธ ะฒะฟััะบะฐะป ะบะพะฝััะตัะถ. ะะฐะบะฐะทัะฒะฐะปะธ ะธ ัะฐะผะธ: ะฝะต ะฟัะธะฒัะบะฝัะฒ ะตัั ะบ ะะตัะธะฝะพะผั ะผะธะปะปะธะพะฝั, ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะฒัััะปะบะธะฒะฐะปะธ ัะตะฑะต ะฒ ัะตะปะตัะพะฝะฐั
ะปัะฑะธะผัั ะตะดั. ะ ะพะฝะฐ ะฟัะธะฑัะฒะฐะปะฐ.
ะะณัะฐะปะฐ ะผัะทัะบะฐ, ะฒะพะบััะณ ัะฐะฝัะตะฒะฐะปะธ. ะะตัั ะฟัะพัะปะตะดะธะป ะฒะทะณะปัะดะพะผ, ะบะฐะบ ะัะฑะพัะบะธะน, ะบะพัะพััะน ัะฒะฝะพ ะตัั ััะพ-ัะพ ั
ะพัะตะป ัะบะฐะทะฐัั, ัะฒะธัะตะฟะพ ัะพััะฐะฒะปัะป ะฑะฐัะฝั ะธะท ะฐััะตัะฐะบัะพะฒ ะฟะฐะฟะตะฝัะบะธะฝะพะณะพ ะฟัะพัะปะพะณะพ. ะะตัั ะฒะธะดะตะป, ะฐ ะะฝะดัะตะน ะฝะตั, ะบะฐะบ ะฐะปัะฑะพะผ ั ัะพัะพะณัะฐัะธัะผะธ ัะฟะฐะป ะฝะฐ ะฟะพะป ะธ ัะฐัะบััะปัั ะบะฐะบ ัะฐะท ะฝะฐ ะฟะฐะฟะธะฝะพะน ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธัะตัะบะพะน ัะฝะพััะธ. ะขะฐะบ ั
ะพัะตะปะพัั ะฒััะฐัั ะธ ะฟะพะดะฝััั ะตะณะพ, ะฝะพ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฝะต ะผะพะณ ัะตะฑั ะทะฐััะฐะฒะธัั: ะฒะพัะตะผั ัะฟััะณะธั
ะฟะพะดััะตะบ ะฟะพะดะฐะฒะปัะปะธ ะตะณะพ ะถะตะปะฐะฝะธะต ะดะฒะธะณะฐัััั.
ะัะทัะบะฐ ะบะฐัะฐะปะฐ ะฝะฐ ะฒะพะปะฝะฐั
, ะทะฐััะฐะฒะปัะปะฐ ัะปะตะดะพะฒะฐัั ะทะฐ ัะธัะผะพะผ. ะะพ ะฒะพั ะฟะพ ะบะฒะฐััะธัะต ะฟะพะฟะปัะป ะทะฐะฟะฐั
ัะตะน โ ััะพ ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ ะพัะบััะป ัะฐัะฟะธัะฝะพะน ััะดะพัะตะบ.
ะะฐัะธะปะธะน ะปัะฑะธะป ัะฟะฐัะธัะพะฒะฐัั. ะะณะพ ะฟัะธะฒะพะทะธะปะธ ะฒ ัะบะพะปั ะฝะฐ ะณะตะปะตะฝะดะฒะฐะณะตะฝะต, ะบะพัะพััะน ะฟะพ ะพัะพะฑะพะน ะดะพะณะพะฒะพััะฝะฝะพััะธ ั ััะบะพะฒะพะดััะฒะพะผ ะฟะฐัะบะพะฒะฐะปะธ ะฟััะผะพ ั ะทะดะฐะฝะธั. ะ ะฑะพะปัััั ะฟะตัะตะผะตะฝั ะฟะพะณะพะถะธะผ ะดะฝัะผ ะะฐัั ัะฐััะตะฝัะบะพ ัะฟะฐะป ะฝะฐ ะตะณะพ ะบัััะต, ะฝะฐะบััะฒ ะณะพะปะพะฒั ัััะฟะธัะฝะพะน ััะผะบะพะน.
ะัะธัะธะฐะฝัั ัะฐะทะปะธะปะธ ัะธ ะฟะพ ัะฐัะตะปะบะฐะผ, ะฑัะดััะธะต ะฟะตัะตัะตะปะตะฝัั ัะพะฑัะฐะปะธัั ั ััะพะปะฐ ั ะฐััะตัะฐะบัะฐะผะธ, ะฒะทัะปะธ ะฟะปะฐััะธะบะพะฒัะต ั ะพั ะปะพะผัะบะธะต ะปะพะถะบะธ, ะฝะตัะฒะตัะตะฝะฝะพ ะฟัะพะฑะพะฒะฐะปะธ. ะะพะด ะบะตะบัั ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ัะฐะผะพะต ะพะฝะพ.
ะะฐ, ัะฐะนะฝะฐ ะฟะพ-ะฟัะตะถะฝะตะผั ะผะฐะฝะธะปะฐ, ะฝะพ ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ัะตะฑั ะทะฐััะฐะฒะธัั ะฑััั ัะฐััะปะฐะฑะปะตะฝะฝัะผะธ.
ะะต ัะพะฑะธัะฐะปะฐัั ัะฐััะปะฐะฑะปััััั ัะพะปัะบะพ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. ะะฝะฐ ะดัะปะฐ ะฟัััะพะน ัะฐะน, ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ะฟะพะณะปัะดัะฒะฐั ะฝะฐ ะดะฒะตัั. ะะพะปัะฐัะฐ ะฝะฐะทะฐะด ะตะต ัะธะปั ะฟะพะดะดะตัะถะฐะป ัะฝะตัะณะตัะธัะตัะบะธะน ะฑะฐัะพะฝัะธะบ, ัะปััะฐะนะฝะพ ะทะฐะฒะฐะปัะฒัะธะนัั ะฒ ััะบะทะฐะบะต ะฒะตัะฝะพะณะพ ะดััะณะฐ ะะฝะดัะตั. ะะพัะปะต ัะตััะธ ะฒะตัะตัะฐ ะพะฝะฐ ะฟัะฐะบัะธะบะพะฒะฐะปะฐ ััะปััะบะธะต ะฟััะฝะธะบะธ ั ััะฟะปัะผ ะผะพะปะพะบะพะผ, ะธ ะฒะพั ะพะฝะธ-ัะพ ะธ ะทะฐััััะปะธ ะณะดะต-ัะพ ะฝะฐ ะฟัะพััะพัะฐั
ะะพัะบะฒั.
ะขะฐะบ ััะพ, ะบะพะณะดะฐ ะฒัะต ัะถะต ะฑัะปะธ ัะผะธัะพัะฒะพัะตะฝั, ะพะฝะฐ ะฒัั ะตัั ะบ ัะตะผั-ัะพ ะฟัะธะทัะฒะฐะปะฐ.
โ โฆะจะตัะณะธะฝะฐ ะฟัะตัะฒะตะปะธัะธะฒะฐะตั ัะฒะพั ะทะฝะฐัะตะฝะธะต, โ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ, โ ะฟะพะฝััะฝะพ, ััะพ ะฝะฐ ะฝะฐั ะพะฝะฐ ััะธััั ะฒะตััะตัั ะพะฑัะตััะฒะตะฝะฝัะผ ะผะฝะตะฝะธะตะผ, ะฟะพะฒะตะปะตะฒะฐัั ะผะฐััะฐะผะธ. ะะพะปััะฐะตััั ั ะะฝะธ ะฟะปะพั
ะพ. ะั ะฒะธะดะธะผ, ััะพ ะดะตะฒัะพะฝะบะฐ ะฝะต ะปะธะดะตั. ะกะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ะตั ะถะดัั ะบะฐััะตัะฐ ะถะตะฝั ะพะปะธะณะฐัั
ะฐ. ะ ะบะพะณะดะฐ ั ะฟะพะดะปะพะถะธะปะฐ ะตะน ะฒ ััะบะทะฐะบ ะดะพั
ะปัั ะบััััโฆ
โ ะงัะพ ัั ะฒัััั, ั ัะฐะผะฐ ะตะต ััะดะฐ ะฟะพะปะพะถะธะปะฐ! โ ัะฐะทะดะฐะปัั ะฒะดััะณ ะฟัะพะฝะทะธัะตะปัะฝัะน ะณะพะปะพั.
ะัะต ะฐั
ะฝัะปะธ ะธ ะฒะทะดัะพะณะฝัะปะธ. ะ ะตะฑััะฐ ะผะธัะฝะพ ัะปััะฐะปะธ ะะธะทั, ะฒัะปะพ ะบะธะฒะฐั, ะธ ะฝะฐะฑะปัะดะฐะปะธ, ะบะฐะบ ะขะพะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ ะฝะฐะดะตะฒะฐะตั ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒั ะฑัะผะฐะถะฝัะต ะบะพะปะฟะฐัะบะธ โ ะฒะพััะผะพะน, ะดะตะฒัััะน, ะดะตััััะน. ะ ะตะทะธะฝะบะธ ะฒะฟะธะฒะฐะปะธัั ะฒ ะตะณะพ ะบัะผะฑะตัะฑะตััะตะฒัะบะธะน ะฟะพะดะฑะพัะพะดะพะบ, ะฝะพ ะพะฝ ัะตัะฟะตะป, ะฑัะป ะผะฝะพะณะพัะพะณ ะธ ะผะธะปโฆ
ะะฐ ะฟะพัะพะณะต ััะพัะปะฐ ะะฝั. ะะฝะฐ ะฒะพัะปะฐ ั ะฟะฐัะฝะตะผ ะธะท ยซะฏะฝะดะตะบั-ะตะดัยป ะธ, ะฟะพะปััะฐะตััั, ัะปััะฐะปะฐ ะฒะตัั ะผะพะฝะพะปะพะณ.
โ ะะฐะบ โ ัะฐะผะฐ ะฟะพะดะปะพะถะธะปะฐ?
โ ะะฐัะตะผ?
ะะปะฐะทะฐ ั ะะธะทั ะฒัะฟัั ะฝัะปะธ: ัะดะฐะปะพัั! ะะต ะทัั ะพะฝะฐ ะณะธะฟะฝะพัะธะทะธัะพะฒะฐะปะฐ ะดะฒะตัั: ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ัะฒะธะดะตะฒ ะะฝั, ััะผะตะปะฐ ัะบัััั ัะดะธะฒะปะตะฝะธะต, ะฟะพะฒะตัะฝัะปะฐ ัะฒะพะน ัะฟะธั ะฒ ะฝัะถะฝัั ััะพัะพะฝั ะธ ะฒัะฝัะดะธะปะฐ ะฑะตะดะฝัะถะบั ะฟัะพะฑะพะปัะฐัััั.
ะะพะฒะพะปัะฝะฐั ะะธะทะฐ ะฒะพะฝะทะธะปะฐ ัะฒะพะธ ะฑะตะปะธััะธ ะทัะฑั ะฒ ะฟััะฝะธะบ, ะฟัะธะฝัะปะฐ ะธะท ััะบ ะฟะฐัะธะผะตะนะบะตัะฐ ะฟะพะดะพะณัะตัะพะต ะผะพะปะพะบะพ.
ะะฑั
ะฒะฐัะธะฒ ะณะพะปะพะฒั ััะบะฐะผะธ, ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะปัั
ะฝัะปัั ะฝะฐ ะฟะพะป. ะะพัััััะฝะฝัะน ะะฐัั ะทะฐะผะตั ะฒ ัะณะปั ะฝะฐะด ัะฐะผะธ. ะะพัะธั
ะพะฝัะบั ัะฟะพะปะท ะฝะฐ ะฟะพะป. ะะฝั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฒะธะดะตะปะฐ ะตะณะพ. ะะฐะบ ะตะน ะพะฑัััะฝะธัั, ััะพ ะพะฝ ะฟัะธััะป ะธ ะทะฐ ัะตะฑั, ะธ ะทะฐ ะฝะตั? ะะพัะปััะฐัั, ัะทะฝะฐัั, ะฟะพะฒะปะธัััโฆ
ะะฐ ะธ ะพะฝะฐ ัะธัะฐะปะฐ ัะฐั ะณััะฟะฟั, ะฝะธะบัะพ ะตั ะฝะต ัะดะฐะปัะป. ะะดัะตั ะะตัะตัะบะธ ะะพัะพั ะพะฒ ัะฐะผ ะดะปั ะฒัะตั ะฒัะปะพะถะธะป. ะะธะบะฐะบะพะน ะฒะธะฝั!
ะขะฐะบ ะดัะผะฐะป ะะฐัะธะปะธะน โ ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ัะฟะพะปะทะฐัั. ะะพะดะบะฐัะธะปัั ะบ ะฑะพะบะพะฒะธะฝะต ะดะธะฒะฐะฝะฐ, ะฟัะธะฝะฐะบััะปัั ััะบะฐะฒะพะผ ััะปัะฟะฐโฆ
ะะฝั ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ะฝะต ัะตะฐะณะธัะพะฒะฐะปะฐ: ะพะฟัะฐะฒะดัะฒะฐััั, ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะฒะพัะปะฐ ะฒ ะณััะฟะฟั โ ะบััะฐะณะฐ ะบััะฐะณะพะน, ะบะฐะบ ัะฝะธะผะฐะปะฐ ะฒะธะดะตะพัะพะปะธะบ ั ะผะพะปะพะดัะผ ะฐััะธััะพะผ ัะฒะพะตะณะพ ัะตะฐััะฐ, ะบะฐะบโฆ
— ะะฐ ะผั ะธ ัะฐะผะธ ะฟะตัะตััะฐัะฐะปะธัั! โ ัะฐะทะดะฐะปะธัั ะณะพะปะพัะฐ.
— ะั ั
ะพัะตะปะธ ะธะทะฒะธะฝะธัััั!
— ะก ะฑะพะนะบะพัะพะผ ะฒััะปะฐ ะณะปัะฟะพััั…
— ะขั ะฟัะพััะธ…
ะะพะณะธ ะะฝะธ ะฟะพะดะบะพัะธะปะธัั. ะะฝะฐ ัะตะปะฐ ะฝะฐ ะฟะพะป. ะะฐัะฐััะธั, ัะปัะทั ะพัะธัะตะฝะธั ัะฐะบ ะฝัะถะฝั ัััะฐะดะฐััะตะผั ัะตะปะพะฒะตะบั. ะั ะบะปะฐัั, ัะฐะบะธะต ัะฐะทะฝัะต, ัะฐะบะธะต ะปัะฑะธะผัะต ะปัะดะธ. ะัะต ะพัะธะฑะฐัััั. ะะต ะทัั ะพะฝะฐ ะฟัะธัะปะฐ. ะะฝะฐ ะฝะฐะฟะปะฐะบะฐะปะฐ ัะตะปะพะต ะผะพัะต ะฝะฐ ะฟะปะตัะพ ะฟะตัะฒัะผ ะพะฑะฝัะฒัะตะผั ะตั ะัะฑะพัะบะพะผั. ะััะฐะปัะฝัะต ัะพะถะต ะฟะปัั
ะฝัะปะธัั ะบ ะฝะตะน ะฝะฐ ะฟะพะป โ ะฝะตะปะพะฒะบะธะต ะพะฑัััะธั, ัะพะฑะบะธะต ะฟะพั
ะปะพะฟัะฒะฐะฝะธั ะฟะพ ะฟะปะตัั. ยซะะฐะดะพ ะฟะพะทะฒะฐัั ะะฐัั. ะะฝ ัััะฐะดะฐะตั, ัะฐะดะธ ะฝะตั ะฝะต ััััะตััั ัะพ ะฒัะตะผะธโฆยป, โ ะฟัะพะผะตะปัะบะฝัะปะพ ะฒ ะะฝะธะฝะพะน ะณะพะปะพะฒะต, ะธ… ะพะฝะฐ ะตัะต ะบัะตะฟัะต ะฟัะธะถะฐะปะฐัั ะบ ัะธะปัะฝะพะผั ะฟะปะตัั ะัะฑะพัะบะพะณะพ.
ะ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฒ ััะพั ัะฐะผัะน ะผะพะผะตะฝั ะะฐัั ะฟะพะดะฝัะป ะณะพะปะพะฒั. ะั
ะณะปะฐะทะฐ ะฒัััะตัะธะปะธัั.
โ ะะดัะฐะฒััะฒัะนัะต, ะณะพัะฟะพะดะฐ, โ ัะฐะทะดะฐะปะพัั ะฒะดััะณ.
ะะฝะฐ ะฒะพัะปะฐ โ ะธ ะฒัะต ะผัะถัะธะฝั ะฒััะฐะปะธ.
ะัะต, ะบัะพ ััั ะฑัะป. ะัะต-ะฒัะต.
ะะธะฒะฝะพะน ะบัะฐัะพัั ะถะตะฝัะธะฝะฐ ัะฐะณะฝัะปะฐ ะพั ะดะฒะตัะธ. ะกัะตะฝะฐ ััะฐัััะฝัั
ะดัั
ะพะฒ ััั ะถะต ะพััะตะทะฐะปะฐ ะตั ะพั ะพััะฐะปัะฝัั
, ะทะฐััะฐะฒะปัั ะฝะต ะฟัะธะปะธะฟะฐัั ะบ ะฝะตะน, ะฐ ะฟะพััะธัะตะปัะฝะพ ะดะตัะถะฐัััั ะฝะฐ ัะฐัััะพัะฝะธะธ. ะัะต ะธ ะดะตัะถะฐะปะธัั.
โ ะะฝั, ะดะพัะตะฝัะบะฐ, ะฒะพั ัั ะณะดะต!
ะะฐ, ััะพ ะฑัะปะฐ ะผะฐะผะฐ ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะั ะปะฐะดะฝะพ, ะบััะฐะณะฐ ะฟัะพัะธัะฐะปะฐ ะฟะตัะตะฟะธัะบั ะณััะฟะฟั ะธ ัะฒะธะปะฐัั, ะฝะพ ะผะฐะผะฐ-ัะพ ััั ะบะฐะบ ะธ ะทะฐัะตะผ?
ะะฝะธะฝะฐ ะผะฐะผะฐ ะฟะพััััะฐะปะฐ ะฝะพะณะพัะบะพะผ ะฟะพ ัะบัะฐะฝั ัะตะปะตัะพะฝะฐ:
โ ะ ััะพ ะฒั ะดัะผะฐะตัะต: ะฒะฐัะธ ัะพะดะธัะตะปะธ ัะพะถะต ะพััะปะตะถะธะฒะฐัั ะฒะฐัะธ ะฟะตัะตะดะฒะธะถะตะฝะธั. ะ ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ัะพะถะต ัะฐะนะฝะพ. ะะตะทะพะฟะฐัะฝะพััั ัะตะฑัะฝะบะฐ ะดะปั ะผะฐะผะพัะบะธ โ ัะฐะผะพะต ะณะปะฐะฒะฝะตะฝัะบะพะต.
ะะฝะฐ ั
ะพัะตะปะฐ ัะฑัะฐัั ัะตะปะตัะพะฝ ะฒ ะฑะพะปัััั ะผัะณะบัั ััะผะบั, ะฒะธัะตะฒััั ะฝะฐ ะฟะปะตัะต. ะกะดะตะปะฐะปะฐ ัะฐะณ ะฒะฟะตัะตะด, ะฟะพััะฐะฒะธะปะฐ ััะผะบั ะฝะฐ ััะพะป, ะฝะพ ัะฐ ัะพัะบะพะปัะทะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะฟะพะป. ะะพะบะฐัะธะปะธัั ะฒ ัะฐะทะฝัะต ััะพัะพะฝั ะฟะพะผะฐะดะฐ, ัััั, ะฒะธะฝัะฐะถะฝะพะต ะทะตัะบะฐะปััะต…
ะะตัะธ ะฑัะพัะธะปะธัั ัะพะฑะธัะฐัั ะฒะตัะธัะบะธ ะฟะพ ะณะพััะธะฝะพะน.
ะะตะทะฒะฐะฝะฐั ะณะพัััั ะธะทััะฝะพ ะฝะฐะณะฝัะปะฐัั, ะฟะพะดะฝัะปะฐ ััะผะบั, ะฟัะธะถะฐะปะฐ ะบ ัะตะฑะต. ะก ะผะธะปะพะน ัะปัะฑะบะพะน ะฟะพะปััะธะฒ ะพั ะขะพะปะธ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝัั ะฟะพัะตัััะบั, ัะบะฐะทะฐะปะฐ:
โ ะะฝั, ะพัะตะฝั ัะพัะพะฟะธะผัั. ะะพะฟัะพัะฐะนัั ั ะดััะทััะผะธ. ะัะตะณะพ ะดะพะฑัะพะณะพ, ัะตะฑััะฐ!
ะ ะฐะทะฒะตัะฝัะปะฐัั ะธ ััะปะฐ. ะะฑะปะฐัะบะพ ะดัั
ะพะฒ ัะดะฐัะธะปะพ ะฟะพ ัะฐะผ, ะฟะพะฑะตะดะธะปะพ ะธ ัะปะตัะตะปะพ.
โ ะัะพะฒะตััะธัะต ัะฒะพั ะฑะพะฑัะพะฒัั ั
ะฐัะบั โ ะดััะฐัั ะฝะตัะตะผ, โ ะฟัะตะทัะธัะตะปัะฝะพ ะฑัะพัะธะปะฐ ะะฝั, ะพะฑะพะถะณะปะฐ ะฒะทะณะปัะดะพะผ ะะธะทั, ั ััะผะตัะบะพะน ะณะปัะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ ะธ ะดะฒะธะฝัะปะฐัั ะฒัะปะตะด ะทะฐ ะผะฐะผะพะน.
โ ะงัะพ ััะพ ะฑัะปะพ?
โ ะ ัั ะณะพะฒะพัะธัั, ะฝะต ัะผะตะตั ะฟะพะฒะตะปะตะฒะฐัั ะผะฐััะฐะผะธ! ะจะตัะณะธะฝั ะฒะตัััั ะปัะดัะผะธ ะธ ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐะผะธ โ ะผั ัะพะปัะบะพ ััะพ ััะพ ะฒะธะดะตะปะธ.
โ ะจะตัะณะฐ ะฑัะปะฐ ะบะฐะบ ะจะตัะณะฐ โ ะฐ ัะตะฟะตัั ะพะฝะฐ ัะฒัั ะฝะฐะผ ะผะพะทะณ! ะะฐะบ ััะพ ะฟะพะฝะธะผะฐัั?
โ ะะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพะบะฐ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐัั, โ ัะตะฟะตัั ะฝะฐ ััะพะป ะทะฐะฟััะณะฝัะป ะะพัะพั
ะพะฒ. โ ะะฐะผ ััะตะฑัะตััั ะฟะตัะตะทะฐะณััะทะบะฐ!
ะะฐ, ะฟะพัะปะต ะบะฐัะฐััะธัะฐ ะพะฝะฐ ะฝัะถะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ. ะะต ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐััั, ะฒัะต ัั
ะฒะฐัะธะปะธ ัะตะปะตัะพะฝั ะธ ะฑัะพัะธะปะธัั ะฟัะพะบัััะธะฒะฐัั ัะฒะพะธ ะฟะปะตะน-ะปะธััั. ะัะฑัะฐะปะธ ะผัะทัะบั ัะฐะผัั ะทะฒะตััะบัั, ัะฐะผัั ะฟะตัะตัััะฐะฝะพะฒะพัะฝัั.
ะก ัะฐะทัะตัะตะฝะธั ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ะะฐัั ัะฝัะป ัะพ ััะตะฝั ัะฐะฑะปะธ, ะฒะทะผะฐั
ะฝัะป ะธะผะธ, ะฒััะตะป ะฒ ะบััะณ. ะััะณ ัะฐััะธัะธะปัั. ะะธะบัะพ ะฝะต ั
ะพัะตะป ะพััะฐัััั ะฑะตะท ะฝะพัะฐ ะธะปะธ ะบะพะฝะตัะฝะพััะตะน.
ะัะต ะฝะฐะดะตัะปะธัั, ััะพ ัะฐะฝะตั ั ัะฐะฑะปัะผะธ ะธะทะณะพะฝะธั ะตะณะพ ะณะพัะต.
ะัะฝะตัะฝะธะต ะถะธะปััั ะฟัะธะฒะตัััะฒััั ัััะพะธัะตะปะตะน ะฟัะพัะปะพะณะพ. ะ ะฑะปะฐะณะพะดะฐััั โ ะทะฐ ัะพะปัััะต ััะตะฝั!
***
ะะตะปัะบะฐะปะฐ ะทะฐ ะพะบะฝะพะผ ะฒะตัะตัะฝัั ะะพัะบะฒะฐ. ะะฝั ะธ ะผะฐะผะฐ ะตั
ะฐะปะธ ะฒ ะผะฐัะธะฝะต. ะะฝั ะณะฝะฐะปะฐ ะพั ัะตะฑั ะผััะปะธ ะพ ะะฐัะต. ะะฝะฐ ะฝะต ะธะผะตะตั ะฟัะฐะฒะฐ ะฝะธ ะฒ ััะผ ะตะณะพ ัะฟัะตะบะฐัั, ััะพ ััะพ ะทะฐ ะดะฒะพัะพะฒัะต ัะฐะทะฑะพัะบะธ? ะะฐะผะฐ ัะพะถะต ัะดะธะฒะธะปะฐ. ะะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ะตะน ะดะพ ะดะพัะตัะธ ะตััั ะดะตะปะพ, ัะฐะท ะพะฝะฐ ะพััะปะตะถะธะฒะฐะตั ะะฝะธะฝั ะฟะตัะตะดะฒะธะถะตะฝะธั. ะะฐะบ ัััะฐะฝะฝะพ, ััะพ ะดะพ ัะธั
ะฟะพั, ะบะพะณะดะฐ ัะตัั ะทะฐั
ะพะดะธะปะฐ ะพ ะผะฐะผะต, ะะฝั ะฑะพะปััะต ะฒะตัะธะปะฐ ะดะพะผัะฐะฑะพัะฝะธัะฐะผ, ัะตะผ ัะตะฑะต…
โ ะะฝั, ั ะฑั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ััะฐะปะฐ ะฒะผะตัะธะฒะฐัััั ะฒ ัะฒะพั ะถะธะทะฝั, โ ะฝะฐัะฐะปะฐ ะผะฐะผะฐ, โ ะฝะพ ะบะพะณะดะฐ ัั ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะฒ ััะพะผ ะดะพะผะต, ั ะพัะตะฝั ะธัะฟัะณะฐะปะฐัั.
โ ะ ััะพ ััะพ ะทะฐ ะดะพะผ?
โ ะัโฆ
โ ะงัะพ ะทะฐ ะดะพะผ, ะผะฐะผะฐ?
ะะฝั ัะฒะธะดะตะปะฐ, ััะพ ะพะฝะธ ะตะดัั ะฝะต ััะดะฐ. ะะต ะบ ะดะพะผั โ ะฝะต ะบ ะธั
, ะฒ ัะผััะปะต, ะดะพะผั.
โ ะะธะบะฐะบะพะน ะธะฝััะธะณะธ โ ะฟัะพััะพ ะฝะฐะดะพ ะฟัะพะบะฐัะธัััั ะธ ะดะพะณะพะฒะพัะธัั ะฒ ะผะฐัะธะฝะต, โ ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ะผะฐะผะฐ. โ ะะพัะปััะฐะน. ะะพั ะถะธะทะฝั ะฝะต ะฟัะธะฒะปะตะบะฐะปะฐ ัะตะฑั โ ะธ ะทะฐ ััะพ ั ััะฐะฒะปั ัะตะฑะต ะฟััััะบั. ะ ะทะฝะฐะตัั, ััะพ ั ะดะตะปะฐั? ะฏ ะตะทะถั ะฟะพ ะฒัะตะผั ัะฒะตััโฆ
โ ะะฝะฐั, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะััะพััั, ัะฟะฐ, ะฝะตะดะตะปะธ ะผะพะดั, ัะพะฟะธะฝะณ.
โ ะฏ ะตะทะถั ะฟะพ ะฒัะตะผั ัะฒะตัั, โ ะฟะพะฒัะพัะธะปะฐ ะผะฐะผะฐ, โ ะธ ะทะฐะณะพะฒะฐัะธะฒะฐั ัะฒะธัะธ, ะณััะถะธ, ัะพะถะธ. ะฃ ัะตั
, ะบะพะผั ะฝะตะปัะทั ะฟะพะผะพัั. ะัั ะฒ ัะบะพะปะต ั ะฟัะพัะปะฐะฒะธะปะฐัั ัะตะผ, ััะพ ัะผะตะปะฐ ะทะฐะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ะฟัััะธ. ะัะฒะตะปะฐ ะธั
ะฒัะตะผ ะทะฝะฐะบะพะผัะผ, ะพะบััะถะธะปะฐ ัะตะฑั ะบัะฐัะธะฒัะผะธ ะปัะดัะผะธ. ะะดะธะฝ ัะฐะท ัะฒะธะดะตะปะฐ, ะบะฐะบ ั ัะพัะตะดะตะน ัะผะธัะฐะตั ัะตะฑัะฝะพะบ โ ะพัะบะฐะทัะฒะฐะตั ะฟะพะดะถะตะปัะดะพัะฝะฐั ะถะตะปะตะทะฐ. ะฏ ะณะปัะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะตะณะพ ะฟัััะฐะฒะพะต ััะปััะต ั ะณัะฑะบะฐะผะธ ะฒ ะบะพัะพััะต, ะฟัะตะดััะฐะฒะธะปะฐ, ะบะฐะบ ะพะฝ ะฑัะดะตั ะฟะปะพั
ะพ ัะผะพััะตัััั ะฒ ะณัะพะฑั. ะัะผะฐั: ะดะฐะน, ั
ะพัั ัะฑะตัั ะฟัััะธ. ะะณะพ ะบะพะปััะบะฐ ััะพัะปะฐ ั ัะพะฝัะฐะฝะฐ, ะถัััะฐะปะฐ ะฒะพะดะฐโฆ ะฏ ะฝะฐะบะธะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะผะพัะดะฐัะบั ะฟะปะฐัะพะบ, ัะฐะผะฐ ะฟะปะฐัั, ะฐ ะทะฐะณะพะฒะฐัะธะฒะฐั. ะฃััะพะผ ัะผะพััะธะผ โ ะบะพัะพััั ะพัะฒะฐะปะธะปะธัั, ะปะธัะธะบะพ ัะธััะพะต, ะฐ ะฃะะ ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพ, ััะพ ะฟะพะดะถะตะปัะดะพัะฝะฐั ััะฑััะตััั, ะดะฐะถะต ัะฐะทัะฐััะฐัััั ััะฐะปะฐ. ะะฐะบ ะฟะตัะตะฝั. ะั ะฒะพัโฆ ะะพ ะณะปะฐะฒะฝะพะต โ ั ัะผะตั ะทะฐะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ัััะฐะปะพััั ะฑะพะปะตะทะฝั, ะทะฝะฐะตัั ัะฐะบัั, ะบะพะณะดะฐ ะฒะผะตััะพ ะฝะพะถะตะบ ั
ะฒะพัั? ะฏ ะฝะต ะฐัะธัะธััั ััะพ, ั ะผะตะฝั ะฝะตั ะดะธะฟะปะพะผะฐ ะฒัะฐัะฐ. ะะต ะทะฝะฐั ะบะฐะบ, ะฝะพ ั ะผะตะฝั ะฟะพะปััะฐะตััั. ะะฝะต ะฝัะถะฝะพ ัะพะปัะบะพ ัะตััั ั ะฒะพะดั, ั ะณะพะฒะพัั, ะณะพะฒะพัั ะธโฆ
ะัััะธ, ัะฒะธัะธโฆ ะะฝั ะฝะฐะฟััะณะปะฐัั. ะ ะฒะตะดั ั ะฝะตั ัะฐะผะพะน ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฟัััะตะน! ะะฝะฐ ััั ะถะต ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะฐ, ะบะฐะบ ะปะตั ะฒ ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะผััะธะปะฐัั ะพั ะผะฐะผะธะฝะพะณะพ ะฟัะธัััััะฒะธั: ะพะฝะฐ ัะฐะดะธะปะฐัั ะฒะตัะตัะพะผ ั ะตั ะบัะพะฒะฐัะธ, ะฒะบะปััะฐะปะฐ ะฟะพัะปะตะนัะธะน ะดะพะผะฐัะฝะธะน ัะพะฝัะฐะฝัะธะบ, ัะพะทะดะฐะฒะฐั ะพะฑัะฝะพััั ะผะฐัะตัะธ ะธ ัะตะฑัะฝะบะฐ, ะผะฐั
ะฐะปะฐ ะฑะฐัะธััะพะฒัะผ ะฟะปะฐัะพัะบะพะผ ะธ ะฝะฐะฟะตะฒะฐะปะฐ ะบะฐะบัั-ัะพ ัะผะธะปัะฝัั ัััั. ะะพ. ะก ะฟัััะฐะผะธ ะฑัะปะธ ะดะตัะธ ะพะปะธะณะฐัั
ะฐ ะะฐะปะบะธะฝะฐ, ะฟัััะฐะผะธ ะพะฑััะฟะฐะปะพ ะผัะฐะผะพัะฝะพะต ัะตะปะพ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน. ะ ั ะะฝะธ ะฝะธะบะพะณะดะฐ, ะฝะธ ะพะดะฝะพะณะพ! ะะพั ััะพ ะฟะพะฒะพัะพั!
โ โฆะฏ ะธ ัะตะฑั ั
ะพัะตะปะฐ ะฒัะปะตัะธัั โ ะฟะฐะฟะฐ ะฝะต ะดะฐะป, ะพะฝ ะถะต ั ะฝะฐั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฐะปะธัั, โ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะฐ ะผะฐะผะฐ. ะะฐะถะตััั, ะพะฝะฐ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ััะพ-ัะพ ะธ ะดะพ ััะพะณะพ. ะะฝั ะฟัะพััะพ ะฝะต ัะปััะฐะปะฐ, ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐั. โ ะะพ ัะฐะดะธ ััะพะณะพ ะผะพะตะณะพ ะดะฐัะฐ ะพะฝ ะธ ะถะตะฝะธะปัั. ะะฐ-ะดะฐ, ั ะฒะตะดั ะตัั ะธ ะบะปะฐะดั ัะผะตั ะฒะธะดะตัั. ะะฝ ัะพะณะดะฐ ะฑัะป ัะฒะปะตััะฝ ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธะตะน, ะผั ะฒ ัะฝะธะฒะตััะธัะตัะต ะฒะผะตััะต ััะธะปะธัั. ะฏ ะฒะตะดั ะฟะพ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธั ะณะธะดัะพะปะพะณ. ะะพะดะฐโฆ
ะะฐะผะฐ ะฝะต ะดะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ. ะะฐะทะฒะพะฝะธะป ะตั ะผะพะฑะธะปัะฝัะน. ะัะฐัะฐัะตะฝะฝะฐั ะะฝั ัะบะพัะธะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ: ะฝะฐ ัะบัะฐะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะพ ะะะขะฏ.
ะัะธัะปััะธะฒะฐััั ะบ ัะปะพะฒะฐะผ ะผะฐะผั, ะะฝั ะดัะผะฐะปะฐ: ััะพ ะทะฐ ะฑะฐัั? ะะฐะผะธะฝ ะพัะตั ัะผะตั, ะฑะฐะฑััะบะฐ ะถะธะปะฐ ะพะดะฝะฐ, ัะพะดะธัะตะปะธ ะฟะฐะฟั ะฑัะปะธ ะฒ ัะพะผ ะถะต ัะพััะฐะฒะต โ ัะพะปัะบะพ ะฑะฐะฑััะบะฐ. ะะฐะผะฐ ะผะพะณะปะฐ ะทะฒะพะฝะธัั ะฝะฐ ัะพั ัะฒะตั?
ะ ะทะฐัะตะผ ะตะน ะผะฐะผะฐ ะฒะดััะณ ะฟัะพ ัะตะฑั ัะฐััะบะฐะทะฐะปะฐ? ะะฝะฐ ะฟัะธะดัะผะฐะปะฐ ัะตะฑะต ัะฐะบะพะน ัะฒะตัะปัะน ะพะฑัะฐะท, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฟะพะฝัะปะฐ, ะบะฐะบะพะน ะบััะธัะตะน ะฑัะปะฐ ะฒัั ััะพ ะฒัะตะผั? ะะปะธ ะฝะฐะพะฑะพัะพัโฆ ะัะต ััะธ ะณะพะดั ะพะฝะฐ ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพ ะฒััััะฐะธะฒะฐะปะฐ ะธะผะธะดะถ ะณะปัะฟะตะฝัะบะพะน ะฑะตัะฟะตัะฝะพะน ะบัะฐัะพัะบะธ? ะะผะธะดะถ. ะ-ะพโฆ
โ ะ ัะตะฟะตัั ะฟัะธัะปะพ ะฒัะตะผั, ะบะพะณะดะฐ ัั ะดะพะปะถะฝะฐ ััะฐัั ะผะพะธะผ ัะพัะทะฝะธะบะพะผ, โ ะพะฑััะฒะฐั ัะฐะทะผััะปะตะฝะธั ะะฝะธ, ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะผะฐะผะฐ. ะััะตัะฝัะผ ัะฒะพะธะผ ะณะพะปะพัะพัะบะพะผ. โ ะขั ะดัะผะฐะตัั, ะฟะฐะฟะฐ ะธะท ัะฒะพะธั
ะฑะธะทะฝะตั-ัะพะพะฑัะฐะถะตะฝะธะน ัะฝะพัะธั ะบะฒะฐััะฐะป? ะ ะะพะฒะพะน ะะพัะบะฒะต ัะตะนัะฐั ะณะพัะฐะทะดะพ ะฒัะณะพะดะฝะตะต ัััะพะธัั. ะะตั, ะะฝั, ะบะฒะฐััะฐะป ััะพั ั
ะพัั ัะฝะตััะธ ั โ ะธ ะผะฝะต ัะดะฐะปะพัั ะณัะฐะผะพัะฝะพ ะฒะปะพะถะธัั ะฟะฐะฟะต ะฒ ะณะพะปะพะฒั ัะพ, ััะพ ัะตะฟะตัั ะพะฝ ััะธัะฐะตั ัะฒะพะตะน ะธะดะตะตะน ัะธะบั ะธ ัะฐะดะธ ัะตะณะพ ะณะพัะพะฒ ะฝะฐ ะผะฝะพะณะพะต.
โ ะะพ ะทะฐัะตะผ ัะฝะพัะธัั-ัะพ? ะ ะฐะท ะฒ ะะพะฒะพะน ะะพัะบะฒะต ะฒัะณะพะดะฝะตะต ัััะพะธัั?
โ ะฏ ะณะธะดัะพะปะพะณ. ะะฝะธ โ ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธ. ะ ะทะดะตัั ัะตััั ะฟะพะดะทะตะผะฝะฐั ัะตะบะฐ. ะะพะณะดะฐ ะตัั ะฟัะธ ัะฐัะต ะฟะพัััะพะธะปะธ ะฒะพะดะพะบะฐัะบั, ััะพะฑั ะพะฝะฐ ัะฝะฐะฑะถะฐะปะฐ ะฒะพะดะพะน ััะพั ะบะฒะฐััะฐะป, ัััะปะพ ัะตะบะต ะฟะตัะตััะฑะธะปะธ, ะธ ะฒะพะดั ััะปะธ ะบัะดะฐ-ัะพ ะฒ ััะพัะพะฝั. ะะฐ ะผะตััะต ะฒะฐัะตะน ัะบะพะปั ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ััะพัะป ั
ัะฐะผ, ะฟัะธ ั
ัะฐะผะต ัะฒััะพะน ะธััะพัะฝะธะบโฆ ะ ะดะฐะปััะต ะบะฐะบ ะฒ ัะบะฐะทะบะต โ ะฒ ะพะฟัะตะดะตะปัะฝะฝะพะต ะฒัะตะผั ะพะฝ ััะฐะฝะพะฒะธะปัั ะฑะพะปะตะต ัะฒัััะผ, ะฒ ะพะฟัะตะดะตะปัะฝะฝะพะต โ ะผะตะฝะตะต. ะะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะพะฑัััะฝััั ััะพ ะฟะปะพั
ะธะผ ะฟะพะฒะตะดะตะฝะธะตะผ ะฟะฐััะฒั, ะฐ ะผะพะถะฝะพโฆ
โ ะกะฒะพะนััะฒะฐะผะธ ะฒะพะดั! โ ะฐั
ะฝัะปะฐ ะะฝั.
ะะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ั ะผะฐะผะพะน ัะพะถะต ะฑัะปะพ ะธะฝัะตัะตัะฝะพ ะณะพะฒะพัะธัั! ะ ะฒะตะดั ัะพะถะต ะพ ัะฟะฐัะตะฝะธะธ ะปัะดะตะน. ะะฝะต ัะถะต ะธ ัะฐะบ ั
ะพัะตะปะพัั ะฟะพัะฟะพัะธัั ั ะฟะฐะฟะพะน ะธ ะดะพะบะฐะทะฐัั, ััะพ ะฑะตะทะดะพะผะฝะพะผั ะฝะฐะดะพ ะดะฐัั ะฝะต ัะถะธะฝ ะธ ะฝะพัะปะตะณ, ะฐ ะดะพะผ ะธ ัะฐะฑะพัั, ะฝะพโฆ
โ ะะพ ะตััั ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ. โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะปะฐ ะผะฐะผะฐ, ะฟะฐัะบัััั ะฝะฐ ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะน ััะพัะฝะบะต, โ ะธ ะฝะต ะพะดะฝะฐ. ะขะฐะบ ััะพ ะดะฐะฒะฐะน ะพะฑััะดะธะผ ะฒะพั ััะพโฆ
ะะฐัััะฟะธะปะฐ ะฝะพัั. ะะฐัะธะผะตะนะบะตัั ะฒัั ัะฑัะฐะปะธ ะธ ััะปะธ. ะะตัะตะด ัะฝะพะผ ัััะฐะฒัะธะน ะััั ะพะฑะพััะป ัะฒะพะธ ะฒะปะฐะดะตะฝะธั. ะัั ััะพัะปะพ ะธ ะปะตะถะฐะปะพ ะฝะฐ ะฟัะธะฒััะฝัั ะผะตััะฐั . ะะฐะถะต ะฐััะตัะฐะบัั ะฝะฐ ััะพะปะต ะฑัะปะธ ะฒัะปะพะถะตะฝั, ะบะฐะบ ะฟะพ ะปะธะฝะตะตัะบะต. ะขะพะปัะบะพ ะฐะปัะฑะพะผะฐ ั ัะพัะพะณัะฐัะธัะผะธ ััะตะดะธ ะฝะธั ะฝะต ะฑัะปะพโฆ
[1] ะะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต? ะะตะฝั ะธ ะฝะตัััะตะบัะธะฒะฝะพ (ะฐะฝะณะป.)
ะะปะฐะฒะฐ 8. ะะฐัะธั ะะพัะตะฒะฐ. ะะฐัะพั ัะธะน ะดัะฑ


— ะกะปััะฐะน, ัะบะพะปัะบะพ ะผะพะถะฝะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตะทะฝะพั ะธ ััะตะปัั ะฝะฐ ะฑะปะธะถะฐะนััั ะปะฐะฒะพัะบั ะฒ ัะพัะณะพะฒะพะผ ัะตะฝััะต. โ ะขั ะดัะผะฐะตัั, ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะฟะพะบัะฟะฐัั ัะตะณะพะดะฝั?
ะฃะถะต ัะฐัะฐ ะดะฒะฐ ะพะฝะธ ั ะัะปะตะน ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน ะฑัะพะดะธะปะธ ะฟะพ ยซะะทัะผะธ Plazaยป, ะพะฑั
ะพะดั ัะฐะปะพะฝั ัะฒัะทะธ ะพะดะธะฝ ะทะฐ ะดััะณะธะผ. ะัะบัะดะฐ-ัะพ ะัะปั ะทะฝะฐะปะฐ ะฟัะพ ะฒัะต ะผะพะดะตะปะธ ัะตะปะตัะพะฝะพะฒ ะฝะต ั
ัะถะต ะฟัะพะดะฐะฒัะพะฒ ััะธั
ัะฐะผัั
ัะฐะปะพะฝะพะฒ. ะ ะพะฝะฐ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะพ ะฝะธั
ะะตัะต ัะฐะบ, ััะพ ะตะผั ั
ะพัะตะปะพัั ะบัะฟะธัั ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะบะฐะถะดัะน ัะตะปะตัะพะฝ. ะะพ ัะตะผ ะฑะพะปััะต ะพะฝะฐ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ, ัะตะผ ะฝะตัะฒะตัะตะฝะฝะตะต ะพะฝ ััะฐะฝะพะฒะธะปัั. ะัะผะปะธะป, ััะพ ะตะผั ะฝะฐะดะพ ะฟะพะดัะผะฐัั, ะธ ะพะฝะธ ัะปะธ ะฒ ะดััะณะพะน ะผะฐะณะฐะทะธะฝ.
ะัะปั, ะบะฐะถะตััั, ะฝะฐะดัะปะฐัั.
— ะะพะบัะฟะฐะน ัะพะณะดะฐ ัะฐะผ, ัะตะณะพ ั ะฒัะตะผั ััะฐัั?
ยซะ ะฟัะฐะฒะดะฐ, ัะตะณะพ ะพะฝะฐ ะฒัะตะผั ััะฐัะธั?ยป โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั. ะะฐ ะบะฐะถะดะพะน ะฟะตัะตะผะตะฝะต ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะทะฐะฒะฐะปะธะฒะฐะปะฐ ะตะณะพ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธัะผะธ ะผะพะดะตะปะตะน ัะตะปะตัะพะฝะฐ. ะะฐะถะดะฐั ะฑัะปะฐ ะบะฐะบ-ัะพ ะพัะตะฝะตะฝะฐ:
— ะัะปะธัะฝัะน ัะตะปะตัะพะฝ! โ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ ะฟัะพ ะฝะตะบะพัะพััะต, โ ะตัะปะธ ะฝะต ะฑัะดะตั ะปัััะต, ัะพะนะดัั, โ ะฟัะพ ะดััะณะธะต.
ะะพั ะธ ะฒัั ัะฐะทะฝะธัะฐ.
ะะพัะปะต ััะพะบะพะฒ ะพะฝะฐ ัะบะฐะทะฐะปะฐ:
— ะขะฐะบ, ั ะฒัั ะฟะพะฝัะปะฐ. ะะพะนะดัะผ ะฒะผะตััะต, โ ะธ ะฒะทัะปะฐ ะตะณะพ ะฟะพะด ััะบั. ะัะดั ะคัะดะพั ะทะฐะธะบะฝัะปัั ะฑัะปะพ, ััะพ ะฟะพะนะดัั ั ะฝะธะผะธ, ะฝะพ ะัะปั ัะฐะทะฒะตัะฝัะปะฐัั ะธ ะฒััะปะฐ ั ะะตััะบะพะน ะฝะฐ ัะปะธัั. ะขะพั ัะพะปัะบะพ ััะฟะตะป ะพะณะปัะฝััััั ะธ ัะฒะธะดะตัั, ะบะฐะบ ะดัะดั ะคัะดะพั ััััะธั ะฟะฐะปััะตะผ ะฟะพ ะฒะธัะบั.
ะ ะฒะพั ัะตะฟะตัั ะพะฝะธ ั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน ัะพััะฐั ะฒ ััะพะน ะฟะปะฐะทะต.
— ะกะปััะฐะน, ะฝั ะดะฐะฒะฐะน ะทะฐะนะดัะผ ะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั. ะััั ะพั
ะพัะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตััะบะฐ.
ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะพะถะธะฒะธะปะฐัั:
— ะะพะถะตั, ะบ ัะตะฑะต? ะะฐะบะฐะถะตะผ ะฟะธััั.
ะะตััะบะฐ ะฟะพะผะพััะธะปัั. ะะฝ ะฑั ั ัะฐะดะพัััั ะฟะพััะป ะฒ ัะฒะพั ัะฑะตะถะธัะต, ะฝะพ ะพะดะธะฝ. ะะพะถะตั, ะทัั ะพะฝ ัะฐัะบััะป ะฒัะตะผั ะบะปะฐััั ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ? ะฅะพัั ะพั ะฟะธััั ะพะฝ ะฑั ะฝะต ะพัะบะฐะทะฐะปัั, ะฟะพะถะฐะปัะน.
— ะะต ั
ะพัะตัั? โ ะัะปั ัะตะปะฐ ััะดะพะผ, ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะตะผั ะฒ ะณะปะฐะทะฐ, ัะฐะบ ััะพ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ัะผััะธะปัั.
— ะะตั, ะดะฐะฒะฐะน ะฟะพะนะดัะผ, ะบะพะฝะตัะฝะพ.
ะะฝะธ ะฒััะฐะปะธ, ะฟะพัะปะธ ะบ ะฒัั
ะพะดั.
ยซะขั ัะบะพัะพ?ยป โ ะฟัะธัะปะพ ัะพะพะฑัะตะฝะธะต ะพั ะดัะดะธ ะคัะดะพัะฐ, ะฐ ัะปะตะดะพะผ ะทะฐ ะฝะธะผ ะพั ะัะฑะพัะบะพะณะพ. ะัะฑะพัะบะธะน ัะฟัะฐัะธะฒะฐะป, ะณะดะต ะตะณะพ ะฝะพัะธั.
ะงััั! ะะฝ ะถะต ะดะพะณะพะฒะพัะธะปัั ะฒัััะตัะธัััั ั ะะฝะดัะตะตะผ ะธ ะคะตะดัะบะพะน, ะพะฑััะดะธัั ะธััะพัะธั ั ะฟัะพะฟะฐะฒัะธะผ ะฐะปัะฑะพะผะพะผ. ะะพะปััะต ะพะฝ ะฝะธะบะพะผั ะฝะต ัะฐััะบะฐะทะฐะป ะพะฑ ััะพะผ. ะ ะตัะธะป ะฟะพะบะฐ ะฟะพะฝะฐะฑะปัะดะฐัั ะทะฐ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผะธ, ะฒะดััะณ ะบัะพ-ัะพ ะฒัะดะฐัั ัะตะฑั?
— ะกะปััะฐะน, โ ะฝะฐัะฐะป ะะตะทะฝะพั ะฒะธะฝะพะฒะฐััะผ ะณะพะปะพัะพะผ, โ ะัะปั. ะขั ะธะทะฒะธะฝะธ. ะะฝะต ััั ะฝะฐะดะพ ะพัะปััะธัััั. ะกัะพัะฝะพ.
— ะ ัะผััะปะต?
— ะัะพััะพ ั ัะถะต ะดะพะณะพะฒะพัะธะปัั. ะะฐะฒะฝะพ ัะถะต, ัะพ ะตััั ัะตะณะพะดะฝั. ะกะพะฒัะตะผ ะทะฐะฑัะป. ะะทะฒะธะฝะธ ะตัั ัะฐะท.
ะ ะพะฝ ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ัะฐััะฐัะป. ะัะป โ ะธ ะฝะตั. ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะดะฐะถะต ะณะพะปะพะฒะพะน ะฟะพััััะปะฐ ะธ ะทะฐะผะพัะณะฐะปะฐ ะฟะพัะฐัะต โ ะฒะดััะณ ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ะธ ะะตะทะฝะพั ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะณะดะต-ัะพ ััะดะพะผ. ะะตั.
ะัะดั ะคัะดะพั ั ะัะฑะพัะบะธะผ ัะถะต ะถะดะฐะปะธ ะตะณะพ ะฒะพะทะปะต ะดะพะผะฐ ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ. ะะพะฝััะตัะถ ัะปะตะณะบะฐ ะบะธะฒะฝัะป ะณะพะปะพะฒะพะน, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะฟัะพัะปะธ ะผะธะผะพ ะฝะตะณะพ.
— ะะตัะถะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดัะบะฐ ะฒ ะบะฒะฐััะธัะต ะธ ะพัะดะฐะป ะะตัะต ะฑะพะปััะพะน ะฟะฐะบะตั, โ ะฟะพะตะดะธะผ.
— ะงัะพ ัั ะดัะผะฐะตัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน, ะฒััะฐัะบะธะฒะฐั ะธะท ะฟะฐะบะตัะฐ ั
ะปะตะฑ, ะบะพะปะฑะฐัั ะธ ะบะพะปั.
— ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ? โ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธะป ะะตะทะฝะพั. โ ะฆะตะปัะน ะดะตะฝั ััะดะพะผ ะบัััะธััั.
ะคะตะดัะบะฐ ะทะฐะบะฐัะปัะปัั ะธ ัะฝะพะฒะฐ ะฟะพะบัััะธะป ั ะฒะธัะบะฐ, ะบะฐะบ ะฒ ัะบะพะปะต:
— ะััะฐะบ. ะญัะพ ะถะต ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ. ะะฝะฐ ะฒัะตัะฐ ัะฒะธะดะตะปะฐ ัะฒะพั ั
ะฐัั, ัะณะพััะธะปะฐัั ะฝะฐ ะฟะธัั. ะ ะณะพัะพะฒะพ.
— ะงัะพ ะณะพัะพะฒะพ? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะะตัั.
— ะะทัะปะฐัั ะทะฐ ัะตะฑั, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพะปััะต ะฝะธะบะฐะบะธั
ะผััะปะตะน ะฝะตั?
— ะงะฐั ะฑั.
— ะฅะพัะพัะฐั ะธะดะตั, โ ะพะดะพะฑัะธะป ะดัะดั ะคัะดะพั. โ ะะพ ั ะพะดะฝะพะณะพ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐั: ะบะพะผั ััะพ ะฝะฐะดะพ?
— ะะพะปั ะฝะต ั
ะพัะตััั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.
— ะะฐ ั ะฝะต ะพ ัะพะผ! ะัะพ ัะพัะพะฐะปัะฑะพะผ! โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดัะบะฐ. โ ะัะตัะฐ ะถะต ัะตัะธะปะธ, ััะพ ะฒัั, ะฑะพะปััะต ะฒ ััะพ ะฝะต ะปะตะทะตะผ.
— ะะตะทะตะผ, ะฝะต ะปะตะทะตะผ. ะ ััะพ-ัะพ ัะฐะผ ะฑัะปะพ, ะฒ ััะพะผ ะฐะปัะฑะพะผะต.
— ะะฐะฒะฐะนัะต ัะฐัััะถะดะฐัั ะปะพะณะธัะตัะบะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคัะดะพั, โ ะฒ ะฐะปัะฑะพะผะต ัะพัะพะณัะฐัะธะธ. ะขะฐะบ? ะะฐ ัะพัะพะณัะฐัะธัั
ัะฒะพะน ะพัะตั ะธ ะดััะณะธะต ะปัะดะธ. ะขะฐะบ? ะะฝะฐัะธัโฆ
— ะั? ะะฐะปััะต-ัะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั.
— ะะฐะดะพ ะธัะบะฐัั ััะตะดะธ ัะตั
, ะบัะพ ะตััั ะฝะฐ ัะพัะพะณัะฐัะธัั
.
— ะัะฐะฒะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ะฝะฐะถะฐะป ะบะฝะพะฟะบั ะฒะบะปััะตะฝะธั ะฝะฐ ัะฒะพัะผ ัะผะฐัััะพะฝะต, โ ะธัะบะฐัั ะฑัะดะตัั ะดะพะปะณะพ. ะะฐะถะตััั, ะฝะธะบัะพ ะธะท ะฝะฐัะธั
ัะพ ััะฐััะธะผ ะะตะทะฝะพัะพะฒัะผ ะทะฝะฐะบะพะผ ะฝะต ะฑัะป.
— ะ ะะฝั? ะจะตัะณะฐ? ะขะพ ะตััั ะตั ะพัะตั? ะะพะน-ัะพ ะตะณะพ ะทะฝะฐะป. ะะฐะถะต ัะพะฑะธัะฐะปัั ะทะฒะพะฝะธัั. ะ ััะพั, ะะฐัะฐะนโฆ
— ะ ะฒัะตัะฐ ะฟัะธัะปะฐ ะตั ะผะฐะผะฐัะฐ. ะะฝะตะทะฐะฟะฝะพ, โ ะดัะดั ะคัะดะพั ะฝะต ัะปััะฐะป ะตะณะพ ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ัะฐัััะถะดะฐัั ะปะพะณะธัะตัะบะธ.
— ะฏัะฝะพ, โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะฐัะฐะป ััะพ-ัะพ ะธัะบะฐัั ะฒ ัะตะปะตัะพะฝะต. ะะพัะพะผ ะฟัะธะปะพะถะธะป ะตะณะพ ะบ ัั
ั. โ ะะพะฑััะน ะดะตะฝั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะฒ ัััะฑะบั, โ ะฑัะดััะต ะดะพะฑัั, ะผะฝะต ะฝัะถะตะฝ ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั. ะะธัะธะปะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ. ะะฐ.
ะะพัะพั
ะพะฒ ะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะดััะณ ะฝะฐ ะดััะณะฐ. ะะฐะถะตััั, ะบะฐะถะดัะน ัะฒะธะดะตะป ััะตะฒะพะณั ะฒ ะณะปะฐะทะฐั
ะดััะณะฐ.
— ะฃะผะตั โ ะฝะต ัะผะตั, โ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ะณะพะฒะพัะธัั ะัะฑะพัะบะธะน, โ ะฐ ัะฐะทะณะพะฒะพั ะบ ะะฐะฒะปั ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธัั ะตััั. ะฅะพัะพัะพ. ะะดั, โ ะธ ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน.
— ะญ-ั-ั, โ ะฟัะพััะฝัะป ะะตัั.
— ะงัะพ ััะพ ะฑัะปะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะดัะดั ะคัะดะพั.
— ะะดัะผ, โ ะพัะฒะตัะธะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะพะถะตัะต ะทะฐัะตะบะฐัั ะฒัะตะผั, โ ะธ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะฐัั. ะะพััะฐะป ะธะท ััะบะทะฐะบะฐ ัะฝะตัะณะตัะธัะตัะบะธะน ะฑะฐัะพะฝัะธะบ ะธ ะฝะต ัะฟะตัะฐ ัะฐัะฟะตัะฐัะฐะป ะตะณะพ.
— ะะพะณะพะดะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั, โ ัั ะฟะพะทะฒะพะฝะธะป ะจะตัะณะธะฝั?
— ะัะฐะฒะธะปัะฝะพ ะผััะปะธัั. ะขะพะปัะบะพ ะฝะต ะตะผั ัะฐะผะพะผั, ะฐ ะฒ ะฟัะธัะผะฝัั ะตะณะพ ะบะพะฝัะพัั.
— ะ ััะพ? ะขั ััะพ, ะฟัะตะดััะฐะฒะธะปัั ะผะพะธะผ ะพััะพะผ?
— ะขั ะถะต ัะปััะฐะป.
ะะตัั ะฝะฐัะฐะป ั ะพะดะธัั ะฟะพ ะบะพะผะฝะฐัะต. ะะทัะป ะฑัััะปะบั ั ะบะพะปะพะน, ัะดะตะปะฐะป ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะณะปะพัะบะพะฒ, ะพะฑะปะธะปัั, ะฝะพ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะป ััะพะณะพ. ะ ััะพ ะฒัะตะผั ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ะตะณะพ ัะตะปะตัะพะฝ. ะะตัั ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะบัะฐะฝ, ะฝะพ ะฝะต ััะฐะป ะพัะฒะตัะฐัั.
— ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะพะฝ. ะัะต ะผะพะปัะฐ ะดะพัะปััะฐะปะธ, ะบะพะณะดะฐ ัะตะปะตัะพะฝ ะฟะตัะตััะฐะฝะตั ะทะฒะพะฝะธัั.
ะะฝะดัะตะน ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะฐัั.
— ะกะตะนัะฐั ะฟะพะทะฒะพะฝะธั ะจะตัะณะธะฝ. ะะพะณะพะฒะพัะธัั ั ะฝะธะผ.
— ะ ััะผ?
— ะะฑ ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธะธ.
— ะะฝะต ััะพ, ัะพะถะต ัะบะฐะทะฐัั, ััะพ ั ะะธัะธะปะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ?
— ะะต ะฟะพะฒะตัะธั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน ะธ ัะฝะพะฒะฐ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะฐัั.
ะฃ ะะตัะธ ัะฝะพะฒะฐ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ัะตะปะตัะพะฝ.
— ะะฑัะธะบะพัะพะฒ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ, โ ัะถะต ะทะฝะฐะตั.
ะะฝ ะดะตัะถะฐะป ัะตะปะตัะพะฝ ะพะฑะตะธะผะธ ััะบะฐะผะธ ะธ ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะบัะฐะฝ.
— ะะฐ, โ ะฝะฐะบะพะฝะตั ะพัะฒะตัะธะป ะะตัั. ะะพะผะพะปัะฐะป ะธ ัะบะฐะทะฐะป:
— ะกะพ ะผะฝะพะน, ะดะฐ. ะะณะฐ. ะ ะัะปั? ะฏัะฝะพ. ะะฐ, ั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ. ะะดัะตั ะฟะพะผะฝะธัั? ะะณะฐ. ะะฐะฒะฐะน, ะดะฐ.
— ะฃะถะต? โ ัะฟัะพัะธะป ะะพัะพั
ะพะฒ.
— ะะฐ ะฝะต, ะพะฝ ะพะดะธะฝ. ะะฐะบะพะต-ัะพ ะดะตะปะพ. ะ ะัะฑะพัะบะพะผั.
ะะฝะดัะตะน ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะฐัั ะธ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะฝะต ัะปััะฐะป, ะพ ััะผ ัะฐะผ ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ะฟัะธััะตะปะธ.
ะะฐะทะฒะพะฝะธะป ะตะณะพ ัะตะปะตัะพะฝ.
— ะกะตะผั ะผะธะฝัั! โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ะธ ัะฝัะป ัััะฑะบั. โ ะะปะปะพ!
ะะฐะบะพะต-ัะพ ะฒัะตะผั ะพะฝ ัะปััะฐะป, ะฟะพัะพะผ ะทะฐะณะพะฒะพัะธะป ัะฐะผ:
โ ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั, ะฟัะพััะธัะต, ััะพ ะฟัะธัะปะพัั ัะฐะบ ะฟะพัััะฟะธัั. ะะตัะตะดะฐั ัััะฑะบั ะะตััั ะะตะทะฝะพัะพะฒั, โ ะธ ะพะฝ ะฒ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะฟะตัะตะดะฐะป ะตะผั ัััะฑะบั.
— ะะปะปะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั, โ ะดะฐ, ะทะดัะฐะฒััะฒัะนัะต. ะญัะพ ั, ั ััะฝ ะะธัะธะปะปะฐโฆ ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ. ะะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพโฆ ะฏ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบ ะะฝะธ. ะะฐัะตะน. ะ ั, ะดะฐ, ั ััะฝ ะะธัะธะปะปะฐ. ะ ั ะฝะตะณะพ ะฑัะปะพ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะพ, ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพัะต, ะฟะพะทะฒะพะฝะธัั ะะฐัะต ะจะตัะณะธะฝั. ะ ะฒะพั ั, ะฒะพั ะผั ัััโฆ ะั ะตะณะพ ะทะฝะฐะปะธ? ะั, ะฒะพั. ะ ะฑะปะพะบะฝะพัะต, ะดะฐ. ะ ะตะณะพ ะบะฒะฐััะธัะต. ะะฝ ั
ะพัะตะป ััะพ-ัะพ ัะบะฐะทะฐัั. ะะตั, ั ะฝะต ะทะฝะฐั.
ะ ััะพ ะฒัะตะผั ะัะฑะพัะบะธะน ะฝะฐะฟะธัะฐะป ะฝะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะน ัััะฐะฝะธัะต ะพะดะฝะพะน ะธะท ัะฒะพะธั
ัะตััะฐะดะตะน: ะคะะขะ! ะะพะบะฐะทะฐะป ะะตัะต. ะะตะทะฝะพั ะดะพะปะณะพ ะถะดะฐะป, ะบะพะณะดะฐ ะฝะฐ ัะพะผ ะบะพะฝัะต ะฟัะพะฒะพะดะฐ ะตะผั ััะพ-ัะพ ะดะพะณะพะฒะพััั, ะฐ ะฟะพัะพะผ ัะบะฐะทะฐะป:
— ะัะพะฟะฐะป ะฐะปัะฑะพะผ. ะก ัะพัะพะณัะฐัะธัะผะธ. ะั, ัะฐะผ ะดะตััะบะธะต, ะฐัะผะตะนัะบะธะต. ะะท ัะบัะฟะตะดะธัะธะน, ัะตัะตะฟะบะธ, ะผะพะฝะตัั. ะฅะพัะพัะพ. ะฅะพัะพัะพ. ะะฐะฟะธัะธัะต ะฝะพะผะตั. ะฏัะฝะพ. ะะพ ัะฒะธะดะฐะฝัั.
— ะัะธะดัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน, ะบะฐะบ ัะพะปัะบะพ ะะตัั ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน.
— ะกะบะฐะทะฐะป: ัะฒัะถะตััั. ะ ะฝะพะผะตั ะฝะต ััะฐะป ะทะฐะฟะธััะฒะฐัั. ะะพะฒะพัะธั, ัะปัะถะฑะฐ ะพั
ัะฐะฝั ะฟัะพะฑััั.
— ะัะปะธัะฝะพ! ะ ัะตะฟะตัั ะฟะพัะปััะฐะตะผ, ััะพ ะฝะฐะผ ัะบะฐะถะตั ะฝะฐั ัะพะฒะฐัะธั ะะฝะฐัะพะปั! ะฏ ัะปััั ะตะณะพ ัะฐะณะธ, โ ะธ ะพะฝ ะพัะบััะป ะฒั
ะพะดะฝัั ะดะฒะตัั. ะะฐ ะฝะตะน ััะพัะป ะะฑัะธะบะพัะพะฒ. ะะฐ, ะฒัั-ัะฐะบะธ ะัะฑะพัะบะธะน โ ัะฒะตัั
ัะตะปะพะฒะตะบ.
— ะัะธะฒะตัััะฒัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะขะพะปั. ะะบะบััะฐัะฝะพ ะฟะพะฒะตัะธะป ััะผะบั ะฝะฐ ะฒะตัะฐะปะบั ั ะดะฒะตัะธ, ะะพัะพั
ะพะฒั ะดะฐะถะต ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ะฟัะพะฒะตัะธะป, ะบัะตะฟะบะพ ะปะธ ัะธะดะธั ะบัััะพะบ. ะะฐะดะตัะถะฐะปัั ั ะทะตัะบะฐะปะฐ, ะฟัะพััะป ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั. ะะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ั
ะปะตะฑ ะธ ะบะพะปะฑะฐัั, ัะผะพััะธะปัั.
— ะกัะตะดะธ ัะฐะบะธั
ะฒะตัะตะน โ ะธ ัะฐะบะฐั ััะฐะฟะตะทะฐ. ะั, ะณะพัะฟะพะดะฐโฆ
— ะฃะณะพัะฐะนัั, โ ะฟัะตะดะปะพะถะธะป ะะตัั.
ะะพ ะะฑัะธะบะพัะพะฒ ะดะฐะถะต ะฝะต ะฒะทะณะปัะฝัะป ะฝะฐ ะฝะตะณะพ.
— ะะฐะบะธะต ะฝะพะฒะพััะธ?
— ะะพััะฐะป ะทะฐั
ะปะพะฟะฝัะปัั, โ ะพัะฒะตัะธะป ะะฝะดัะตะน, โ ะฐ ะฒ ะฝัะผ ะบะฐะบ ัะฐะท ะฑัะปะธ ััะฐัััะบะธ. ะะฐัั ัะฐัะพะฒ ะฝะฐะทะฐะด. ะัะทะฒะฐะปะธ ะฟะพะปะธัะธั, ัะฐะทะฑะธัะฐัััั. ะกะปะตะดััะฒะตะฝะฝัะน ะบะพะผะธัะตั ััะพ-ัะพ ะบะพะฟะฐะตั. ะะพะถะฐัะฝัะต ะฟัะธะตั
ะฐะปะธ, ยซัะบะพัะฐัยป. ะะธะฝะพะปะพะณ ั ัะพะฑะฐะบะพะน. ะััั. ะะพั-ะฒะพั ัะฐะนะพะฝ ะพัะตะฟัั, ะฒะฒะตะดัั ััะตะทะฒััะฐะนะฝะพะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต, ะบะพะผะตะฝะดะฐะฝััะบะธะน ัะฐั. ะะพะบัะผะตะฝัั ั ัะตะฑั ั ัะพะฑะพะน? ะฃะถะต ะณะพัะพะฒั ะพัะธะตะฝัะธัะพะฒะบะธ ะฝะฐ ััะฐัััะตะบ, ัะบะพัะพ ะผั ัะฒะธะดะธะผ ะธั
ะฒ ะธะฝัะตัะฝะตัะต ะธ ะฝะฐ ะบะฐะถะดะพะผ ััะพะปะฑะต ะทะฝะฐะบะพะผัั
ั ะดะตัััะฒะฐ ัะปะธั. ะะพ ะผั ะผะพะถะตะผ ะฝะต ะถะดะฐัั, ะผั ัะถะต ะฒัั ะทะฝะฐะตะผ. ะ ะณะปะฐะฒะฝะพะต: ะฝะฐะผ ะธะทะฒะตััะฝั ะพัะพะฑัะต ะฟัะธะผะตัั.
ะะพ ะฒัะตะผั ััะพะณะพ ะผะพะฝะพะปะพะณะฐ ะะตัั ัะฝัะป ะพัะบะธ, ะฟัะพััั ะธั
, ะฝะฐัะตะฟะธะป ะฝะฐ ะฝะพั ะธ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ. ะกะฝะพะฒะฐ ะพัะฟะธะป ะบะพะปั ะธะท ะฑัััะปะบะธ, ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะดัะดั ะคัะดะพัะฐ. ะคะตะดั ะฒัะฐัะฐะป ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะธ, ะบะฐะถะตััั, ั
ะพัะตะป ะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ะฟัะธัะตััั, ะฝะพ ัััะป ะฑัะป ะฟัะธะผะตัะฝะพ ะฒ ะผะตััะต ะพั ะฝะตะณะพ. ะขะพะปัะบะพ ะะฑัะธะบะพัะพะฒ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะพััะตะทะฐะป ะบะพะปะฑะฐัั, ั
ะปะตะฑ, ะดะตะปะฐะป ะฑััะตัะฑัะพะด.
— ะั-ะฝั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ, โ ะฟัะธะผะตัั.
— ะัะพััะพะฒะบะธ, โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะะฝะดัะตะน, โ ะพะฑะต ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะฒ ะบัะพััะพะฒะบะฐั
. ะฃ ะพะดะฝะพะน ะทะตะปัะฝัะต ัะฝััะบะธ, ั ะดััะณะพะน โ ะฑะตะปัะต.
— ะะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะขะพะปั ั ะฝะฐะฑะธััะผ ััะพะผ, โ ะบะฐะบะธะต ััะพ ะพัะพะฑัะต ะฟัะธะผะตัั? ะ ัะพะผั ะถะต ัะฒะตั ะฑัะป ะดััะณะพะน.
— ะญัะพ ะฝะพะฒัะต ััะฐัััะบะธ. ะ ะฝะพะฒัะต ะบัะพััะพะฒะบะธ.
— ะ ะพัะธะตะฝัะธัะพะฒะบะธ ะฝะพะฒัะต, โ ะฒะผะตัะฐะปัั ะคะตะดั. ะะตัั ั
ะผัะบะฝัะป.
— ะะพั ะะพัะพั
ะพะฒ ะฟะพะฝะธะผะฐะตั, โ ะบะธะฒะฝัะป ะฒ ะตะณะพ ััะพัะพะฝั ะะฝะดัะตะน, โ ะฝะพะฒัะต ะฟัะธะผะตัั, ะฝะพะฒัะต ััะฐัััะบะธ, ััะฐััะน ะฟะพััะฐะป. ะะฐั
ะปะพะฟะฝัะปัั.
— ะ ะดัะฑ ะทะฐัะพั
, โ ัะบะฐะทะฐะป ะขะพะปั. โ ะ ะฝะฐ ะฟัะพะฒะพะดะฐั
ะฒ ะณะพัะพะดะต โ ะฒั ะฒะธะดะตะปะธ? โ ะธะฝะพะณะดะฐ ะบัะพััะพะฒะบะธ ะฒะธััั. ะขะฐะบ ะฒะพั, ั ัะตะนัะฐั ะฒะธะดะตะป ะบัะพััะพะฒะบะธ ั ัะตัะฝัะผะธ ัะฝััะบะฐะผะธ ะฒะพะทะปะต ะดัะฑะฐ. ะ ะดััะณะธะต, ะะตะทะฝะพั, ะบะฐะบ ัะฐะท ะฟะพะด ัะฒะพะธะผ ะพะบะฝะพะผ.
ะะตัั ะฒะทะดัะพะณะฝัะป, ะฒ ะดะฒะฐ ะฟััะถะบะฐ ะพะฝะธ ั ะคัะดะพัะพะผ ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ั ะพะบะฝะฐ. ะะตัั ะพัะบััะป ะตะณะพ, ะฒัััะฝัะปัั ะฝะฐะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะฝะฐ ัะปะธัั. ะกะฟััะณะฝัะป ั ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบะฐ, ะบะธะฒะฝัะป:
— ะะธััั.
ะะพัะพั
ะพะฒ, ะฝะฐะพะฑะพัะพั, ัะตะป ะฝะฐ ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบ, ะทะฐะบััะธะป.
— ะฏ ัะปััะฐะป, ะธั
ะฝะฐ ะฟัะพะฒะพะดะฐ ะทะฐะบะธะดัะฒะฐัั ะฒ ัะพะผ ะผะตััะต, ะณะดะต ัะฑะธะปะธ ะบะพะณะพ-ัะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ.
— ะะปะธ ะฝะฐะฒะพะดัะธะบะธ ะฒะพัะฐะผ ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐัั ะผะตััะพ, ะณะดะต ะดะพะฑััะฐ. ะ ัะฒะตั ัะฝััะบะพะฒ โ ััะฐะถ, โ ะพะฑัััะฝัะป ะขะพะปั, โ ะผะพะถะตั ะฑััั, ััะถะธะน ะบะฐะบ ัะฐะท ััะตัะธะน. ะฅะพัั ัะพัะฝะพ ะฝะต ะทะฝะฐั. ะฃ ัะตะฑั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะพะฟะฐะปะพ?
ะคะตะดั ะฟัะธัะฒะธััะฝัะป.
— ะัะพะฟะฐะปะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั, โ ั ะผะตะฝัโฆ
— ะััะฐัะธ, ััะพ ัะฐะผ ั ะดัะฑะพะผ? โ ะฟะตัะตะผะตะฝะธะป ัะตะผั ะะฝะดัะตะน, โ ะบะฐะบ ััะพ ะพะฝ ะทะฐัะพั
? ะะพะถะตั, ะปะธัััั ะพะฑะปะตัะตะปะธ ะฟัะพััะพ? ะัะตะฝั ะถะต.
— ะะพะฒะตัั ะผะฝะต, ะบะฐะผัะฐะด. ะัะพััะพ ะฟะพะฒะตัั. ะะฝ ะทะฐัะพั
. ะะตัะฟะพะฒะพัะพัะฝะพ. ะะพะถะตัั ัะฑะตะดะธัััั ะปะธัะฝะพ.
— ะญัะพ ะฟะพัะพะผ. ะ ัะตะฟะตัั ะดะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพะดัะผะฐะตะผ, ะฟะพัะตะผั ะจะตัะณะฐ ัะตะณะพะดะฝั ะฝะต ะฟัะธัะปะฐ. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะทะฐ ะฝะตะน ะฟัะธะตะทะถะฐะตั ะผะฐะผะพัะบะฐ, ะฟะพัะพะผ ะพะฝะฐ ะฝะต ะฟัะธั
ะพะดะธั ะฝะฐ ััะพะบะธ.
— ะะพััะฐะป? โ ัะฟัะพัะธะป ะขะพะปั.
— ะขะฐะบ ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ัะฟัะพัะธัั ัโฆ โ ะฝะฐัะฐะป ะะตัั, ะฝะพ ะดัะดั ะคัะดะพั ะฟะตัะตะฑะธะป ะตะณะพ:
— ะกััะตัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ.
— ะฃ ะจะตัะณะธ? โ ัะฟัะพัะธะป ะขะพะปั, โ ะฝะต ัะผะตัะธ ะผะพะธ ะผะพะบะฐัะธะฝั.
— ะฃ ะดะตัะตะฒะฐ, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะคะตะดั, โ ั ัะปััะฐะป, ััะพ ั ัะฐััะตะฝะธะน ะฑัะฒะฐะตั ัััะตัั. ะัะพะฒะพะดะธะปะธ ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธะต. ะกะฟะธะปะธะปะธ ะดะตัะตะฒัั, ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะณะพะดะพะฒัะต ะบะพะปััะฐ, ะฝะตะบะพัะพััะต ะฑัะปะธ ัะพะฝััะต ะพััะฐะปัะฝัั
.
ะะพััะธัะฐะปะธ, ะฒ ะบะฐะบะธะต ะณะพะดั, ะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ะฒะพ ะฒัะตะผั ะฒะพะนะฝั.
ะะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ะฒัะต ะผะพะปัะฐะปะธ. ะะพัะพะผ ะะฑัะธะบะพัะพะฒ ะพัะฝัะปัั:
— ะั? ะงัะพ ััะพ ะดะฐัั? ะะฐะปะพ ะปะธ.
— ะกััะตัั.
— ะั, ะดะพะฟัััะธะผ. ะัะปะฐ ะฒะพะนะฝะฐ. ะกััะตัั. ะ ะดัะฑ-ัะพ?
— ะ ะฒะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ? ะ ะฟะพััะฐะป? ะกัะฐัััะบะธ ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะต?
— ะะพะผะฐ ะฑัะดัั ัะฝะพัะธัั, โ ะฝะตัะฒะตัะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.
— ะะพั!
— ะะพะพะฑัะต-ัะพ ะดะตัะตะฒัั ะทะฐััั
ะฐัั ะฝะฐ ะฑะพะปะพัะฐั
, โ ัะบะฐะทะฐะป ะขะพะปั, โ ะผะฝะต ะบัะพ-ัะพ ะณะพะฒะพัะธะป. ะะพ ั ะฝะฐั ะฒะตะดั ััั ะฝะต ะฑะพะปะพัะพ. ะกะตะนัะฐั, โ ะธ ะพะฝ ะฒะบะปััะธะป ัะผะฐัััะพะฝ.
— ะ ะผะพะถะตั, ัะฐะฝััะต ะฑัะปะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะพะถะตั, ะธ ะบะฐะผะตะฝะฝะฐั ะฟะปะตัะตะฝั ะพั ััะพะณะพ. ะ ะดััะณะธะต ัะฒะปะตะฝะธั, ัะฐะบ ัะบะฐะทะฐัั. ะะฝะฐัะพะปั, ัั ะบัะฐะตะฒะตะดะพะฒ ะทะฝะฐะตัั? ะัะพะฑะตะน ััะพ ะดะตะปะพ.
ะะฑัะธะบะพัะพะฒ ััะพ-ัะพ ะธัะบะฐะป ะฒ ัะตัะธ.
— ะั, ะฑะพะปะพัะพ-ะฝะต ะฑะพะปะพัะพ, ะฝะพ ัะตัะบะฐ ััั ะฑัะปะฐ ะบะพะณะดะฐ-ัะพ. ะะพะดะทะตะผะฝะฐั. ะ ะผะพะถะตั, ะธ ัะตะนัะฐั ะตััั, ะบัะดะฐ ะตะน ะดะตะฒะฐัััั? ะะพะผะฐ ะฒััะพะบะธะต ะฝะตะปัะทั ัััะพะธัั, ะฒะพั ััะพ. ะคัะฝะดะฐะผะตะฝั ัะฐะทะผะพะตั.
— ะ ะดัะฑ-ัะพ ะฟัะธััะผ? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตะทะฝะพั.
— ะะพะถะตั, ัะฐะทะปะธะปะฐัั ัะตัะบะฐ? ะะตัะฝะฐ ัััะฐั ะฑัะปะฐ, ะปะตัะพ ะดะพะถะดะปะธะฒะพะต.
— ะะปะธ ััะพั
ะปะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั.
— ะัะพะดะต ัะฐะผ ะปะตัะพะผ ััะพ-ัะพ ะบะพะฟะฐะปะธ. ะขััะฑั ะฟะพัะฒะฐะปะพ ะธะปะธ ััะพ-ัะพ ัะฐะบะพะต, โ ะฒัะฟะพะผะฝะธะป ะะตัั. โ ะะปะธ ัะบะปะฐะดัะฒะฐะปะธ ะฝะพะฒัะต, ะผะพะถะตั.
— ะญัะพ ะฝะต ัะฐะผ ะบะพะฟะฐะปะธ, ััะพ ะฑะปะธะถะต ะบ ัะบะพะปะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะขะพะปั, โ ะฝะต ะฟััะฐะน.
— ะั, ั ะฝะต ะทะฝะฐั ัะพะณะดะฐ.
ะะตัั ะฟะพะดะพัะตะป ะบ ะพััะพะฒัะบะพะผั ััะพะปั, ััะฐะป ะฐะฒัะพะผะฐัะธัะตัะบะธ ะฒัะดะฒะธะณะฐัั ััะธะบะธ. ะะฝ ะฒ ัะพััะน ัะฐะท ััะพะณะฐะป ะธ ะฟะตัะตะฒะพัะฐัะธะฒะฐะป ะพััะพะฒัะบะธะต ะฑัะผะฐะณะธ, ะฑะปะพะบะฝะพัั. ะะผั ะฒะดััะณ ะทะฐั
ะพัะตะปะพัั ะดะพะผะพะน, ะฟัััั ะดะฐะถะต ะผะฐะผะฐ ะฑัะดะตั ะฒะพััะฐัั, ััะพ ะตะณะพ ะฝะพัะธั ะฝะต ะฟะพะนะผะธ ะณะดะต.
— ะะตะทะฝะพั, ะธะดะธ ััะดะฐ, โ ะฟะพะทะฒะฐะป ะตะณะพ ะดัะดั ะคัะดะพั, โ ะผั ัะฒะฐะปะธะฒะฐะตะผ. ะะพะณะฝะฐะปะธ ะบ ะดัะฑั!
— ะ ะดัะฑั? ะะฝะต ะบะฐะบ-ัะพโฆ ะ ะดัะฑั.
— ะัะปัะบะฐ ัะพะฑะธัะฐะปะฐัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะขะพะปั.
— ะฏ ะดะพะผะพะน. ะะฐะผะฐ ะถะดัั.
ะ ััะพ ะฒัะตะผั ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะปะฐ ะผะฐะผะฐ.
— ะะฐ, ะผะฐะผ! โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะะพััะธ ะฟะพะดั
ะพะถั. ะกัะพัะฝะพ? ะัะพ? ะะฐัะตะผ? ะะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ะฟัะธะตะดะตั? ะฏ ััะฟะตั, โ ะพะฝ ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน.
— ะะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐั, โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะป ะะตัั, โ ะะปั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ ะฟัะธะตะทะถะฐะตั. ะงะตัะตะท ะฟะพะปัะฐัะฐ.
ะะปะฐะฒะฐ 9. ะะปะตะบัะฐะฝะดั ะคะตะดะตะฝะบะพ. ะะตะผะพัั


โ ะงัะพ-ััะพ ะพะฝะฐ ะปะตัะธั? ะะพะฒัะพัะธ.
โ ะกะฒะธัะธ ะธ ะฟัััะธ.
โ ะกะฒะธัะธ ะธ ะฟัััะธ?! ะัะฐั ัั ะผะพะน ะขะพะปััะพะนโฆ โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฝััะฝัะป ะฒ ะฟะตะฝั ยซะะดะฐะผ ะธ ะะฒะฐยป.
ะะพ ััั ะถะต ะฒัะฟะปัะป ะฟะตัะตะด ะปะธัะพะผ ะะตะนะฝะตะฝ โ ะธ ัะพะพะฑัะธะป:
โ ะ ะผััะฝัะต ะปะฐะฒะบะธ ะััะธั ัะถะต ััะฝัััั ะปัะดะธ ะทะฐ ัะฒะพะธะผ ะฑะตััะผะตััะฝัะผ ัะพะผะฐะฝะพะผ. ะะธัะตะปัะผ ัะฐะผะธั
ะััะธั ะฟัะธั
ะพะดะธััั ะฟะตัะตัััั ะฒ ะงะตััะฐะฝะพะฒะพ, ััะพะฑั ะฒััะฐัั ะฒ ะบะพะฝะตั ะพัะตัะตะดะธ.
โ ะขะตะฑะต ััะพ ะฝัะฐะฒะธััั? โ ะะธะทะฐ, ะฝะต ัะฒะพะดั ะณะปะฐะท ั ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะดะฒัะผั ะฟะฐะปััะธะบะฐะผะธ ะฒะทัะปะฐ ะพะดะธะฝ ะธะท ะปะธััะพะฒ ััะบะพะฟะธัะธ, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ะทะธัะปะพ ยซะัะตะดะปะฐะณะฐั ัะดะฐััััยป.
ะัะฑะพัะบะธะน ัะฐะทะพะณะฝะฐะป ะฟะตะฝั ะธ ะพัะผะพััะตะป ะพัะบััะฒัะตะตัั.
โ ะกะฐะผ ะคะตะดะพั ะะธั
ะฐะปัั ะฝะต ะฝะฐะฟะธัะฐะป ะฑั ะปัััะต.
ะะธัั ะฟะพะปะตัะตะป ะฒ ะฒะฐะฝะฝั. ะะตะนะฝะตะฝ ะฒะทัะปะฐ ะดััะณะพะน.
โ ะัะฐะฒะธััั?
โ ะะพะถะตััะฒะตะฝะฝะพะต ัะฒะปะตะฝะธะต ะะฐััะฐััะธ ะคะธะปะธะฟะฟะพะฒะฝั ะะตัะฐัะธะผั. ะฃ ะัะผั ัะฟะธะปะตะฟัะธัะตัะบะธะต ะฟัะธะฟะฐะดะบะธ, โ ะพะฝ ะฟะพะดะผะธะณะฝัะป, โ ะผะฝะพะถะตััะฒะตะฝะฝัะต.
ะัะพัะพะน ะปะธัั ะฟะพัะปะตะดะพะฒะฐะป ะทะฐ ะฟะตัะฒัะผ.
โ ะขะตะฑะต ะฝัะฐะฒะธััั?
โ ะััะณะพัะฒะตัะฝัะน ะบััะธะท ะฟะพ ะะธััะปะตะฒั ั ะปะตะบัะธัะผะธ ะพ ะณะธะณะธะตะฝะต.
ะัะต ะพะดะธะฝ ะพัะฟัะฐะฒะธะปัั ะฝะฐ ะดะฝะพ. ะัะฑะพัะบะธะน ัะธัะป ะผะธัะธะฐะดะฐะผะธ ะผัะปัะฝัั
ะฟัะทััะธะบะพะฒ.
โ ะะตัะฒัะน ะบะฐะฝะฐะป. ะ ะพััะพะฒัะต ะบัะบะปั ัะฒะธัะฐ ะธ ะฟัััะฐ. ะัะฐะนะผ-ัะฐะนะผ!
ะกะปะตะดัััะธะน.
โ ะัะตะผะธั ะธะผะตะฝะธ ะคะปะตะผะธะฝะณะฐ ะฟะพ ะปะธัะตัะฐัััะต.
ะะตะนะฝะตะฝ ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐ ะฟัะพัะตัั ัะพะฟะปะตะฝะธั ะฑะตััะผะตััะฝะพะณะพ.
โ ะะฐะบะพะณะพ ะคะปะตะผะธะฝะณะฐ?
โ ะขะพะณะพ, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะะต ััะพะณะพ ะถะต.
ะััะฐัะบะธ ััะบะพะฟะธัะธ ะฟะพััะฟะฐะปะธัั ะฒ ะฒะพะดั.
ะะธะทะฐ ะฒััะฐะปะฐ, ะฟะตัะตัะฐะณะฝัะปะฐ ะบัะฐะน ะฒะฐะฝะฝั, ะพะฑะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะัะฑะพัะบะพะผั.
โ ะญัะพ ะฝะต ะผะพะน ัะตะบัั!
โ ะ ัะตะน, ะงะตั
ะพะฒะฐ? ะะพะฝะตัะฝะพ! ะญัะพ ะถะต ัะธัััะน ะงะตั
ะพะฒ.
ะะฝะฐ ะทะฐะผะพัะฐะปะฐัั ะฒ ะพะณัะพะผะฝะพะต ะฟะพะปะพัะตะฝัะต.
โ ะฏ ะฝะฐัะปะฐ ััะบะพะฟะธัั ะฒ ะฟะพััะพะฒะพะผ ััะธะบะต.
ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะผะพะปัะฐะป, ะฝะตัะฟะตัะฝะพ ะทะฐัะพะฝัะป, ะฟะตะฝะฐ ะฝะตะดะพะปะณะพ ะฟะพะฒะพะปะฝะพะฒะฐะปะฐัั ะธะปะปัะทะธะตะน ะฑััะธ, ะฝะพ ััะธั
ะปะฐ, ััะฟะพะบะพะธะฒัะธัั. ะะธะทะฐ ะฒััะปะฐ.
โฆ
โ ะงัะฒััะฒัะตัั, ะบะฐะบะพะต ะฒ ััะพะผ ะฒัะตะผ ะฑะตััะธะปะธะต?
โ ะขั ะฟัะพ ัะตะบัั?
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะฟัะฐะฒะธะป ะฟะปะตะด ะฝะฐ ะฟัะธะณัะตะฒัะตะนัั ััะดะพะผ ะฝะฐ ะฟะพะปั ะะธะทะต. ะะพะปะตะฝัั ะฒ ะบะฐะผะธะฝะต ะฒะทะฒะพะปะฝะพะฒะฐะฝะฝะพ ะทะฐัะธะฟะตะปะธ, ะผะพะบัะฐั ะฑัะผะฐะณะฐ, ัะฐะทะปะพะถะตะฝะฝะฐั ััั ะถะต, ะธัะฟััะบะฐะปะฐ ะฟะฐั ะธ ะดััะฝะพะฒะฐััะน ะทะฐะฟะฐั
ยซะะดะฐะผะฐ ะธ ะะฒัยป. ะะธะทะฐ ะฟะพะฒะตัะฝัะปะฐัั:
โ ะฏ ะฟัะพ ะฒัะต. ะัะพ ะฝะฐั, ะฟัะพ ัะพ, ััะพ ะดะพะผ ะะปัะบะพะทั ะธ ะะพัะพั
ะพะฒะฐ ัะถะต ัะฐััะตะปััั, ะฐ ะผั ะธัะตะผ ัะฟะฐัะตะฝะธะต ะฒ ััะฐััั
ัะพัะพะณัะฐัะธัั
ะธ ะผะฐัะบะฐั
, ะฒ ััะพ ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด ััะตะดัะตะน ะฟะพะด ะทะตะผะปั ะบะธัะฟะธัะฝะพะน ะบะปะฐะดะบะต. ะะทัะพัะปัะต ัะผะธัะธะปะธัั ะธ ะฟะธััั ะฟะตัะธัะธะธ ะพ ะผะธะปะพััะธ ัะตะผ, ะดะปั ะบะพะณะพ ัะฐะผะฐ ะฝะฐัะฐ ะถะธะทะฝั โ ัะฐ ะถะต ะฟะตะฝะฐ ะดะปั ะฒะฐะฝะฝั ะธ ะบัะพ ะดะฐะฒะฝะพ ัะถะต ะฒัะฝัะป ะฟัะพะฑะบั. ะ ะดะฐ, ัะตะบัั โ ัะฐ ะถะต ะฝะตะผะพััโฆ ะญัะพ ะฝะต ยซะะพะฑะปะตั ะธ ะบะพัััยป, ััะพ ะดะฐะถะต ะฝะต ยซะะพะนะฝะฐ ะธ ะผะธัยป. ะกะฟะปะพัะฝัะต ยซะกะฒะธัะธ ะธ ะฟัััะธยป.
โ ะขั ะดัะฐะผะฐัะธะทะธััะตัั ะธ ัะฐะผะฐ ะทะฝะฐะตัั ะฟะพัะตะผั. ะงะตัะตะท ะฝะตะดะตะปั ะฟัะพะนะดะตั. ะ ยซะัััะธยป โ ัะฐะฑะพัะฐ ะงะธัะธะบะพะฒะฐ, ััะพ ะดะฐะถะต ะฟะพะบะพะนะฝะพะผั ะััะบะธะฝั ะฟะพะฝััะฝะพ ะฑัะปะพ, ะพะฝ ะพััะพะณะพ ะธ ะทะฐัััะตะปะธะปัั.
โ ะงะตัะตะท ะฝะตะดะตะปั ะะพัะพั
ะพะฒ ะฟะพะตะดะตั ะถะธัั ะฒ ะะฐะฟะพัะฝั. ะงะธัะธะบะพะฒ ััั ะฝะธ ะฟัะธ ัะตะผ. ะญัะพ ะฑะตะทัะผะธะต ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะน ะฒัะดะตัะถะบะธ. ะขะฐะบะพะต ะผะพะณะปะฐ ะฑั ะฝะฐะบะฐัะฐัั ะตะต ะผะฐะผะฐะฝ, ะผััะฐััั ะฝะตะฒะพัััะตะฑะพะฒะฐะฝะฝะพัััั ะณะปัะฑะธะฝ ะธ ัะธัะพั ัะฒะพะตะน ะฑะตััะผะตััะฝะพะน ะดััะธ. ะะตััะธะฐะฝัะบะธะต ัะฐะฝัะฐะทะธะธ ะฟัะพ ะปะตัะตะฝะธะต ะฟัััะตะน ะพะบะพะปะพะฟะปะพะดะฝัะผะธ ะฒะพะดะฐะผะธ ัะฐะบ ะฟัะพััะพ ะฝะต ะฒะพะทะฝะธะบะฐัั.
โ ะขั ะฟัะฐะฒะฐ. ะะฝะฐ ะฟัะพัะปะฐ ะฐะด ะบะฐะฝะฝัะบะธั
ะฟัะธัะพะฝะพะฒ, ะฟะพัะพะผ ะตะต ะดะพะปะณะพ ะธ ะฑะตะทััะฟะตัะฝะพ ะปะตัะธะปะธ ะจะฒะตะนัะฐัะธะตะน. ะกััะฐัะฝะพ ะฟะพะดัะผะฐัั, ัะบะพะปัะบะพ ะตะน ะปะตั ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต. ะัะปะธ ะงะธัะธะบะพะฒ ะฒัะฟะฐะป ะธะท ัะตะฐะปัะฝะพััะธ ะฝะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ, ัะพ ะตะต ะผะฐะผะฐะฝ ัะตะนัะฐั ะฝะต ะผะตะฝััะต ััะฐ ะฟััะธะดะตัััะธ ะฟะพ ัะปะธะฐะฝัะบะพะผั ะบะฐะปะตะฝะดะฐัั. ะจะตัะณะธะฝ ะดะฐะถะต ะฝะต ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะตััั, ั ะบะฐะบะพะน ะฐัั
ะตะพะปะพะณะธัะตัะบะพะน ัะฐะทะฒะฐะปัั
ะพะน ะฟัะพะฒะพะดะธั ัะฒะพะน ะธะฝัะธะผะฝัะน ะดะพััะณ.
โ ะขะธะฟะธัะฝะฐั ะฒะตะดัะผะฐ. ะะฝะฐัะต ะพัะบัะดะฐ ะตะน ะทะฝะฐัั ะฟะพะดัะพะฑะฝะพััะธ ะฟัะพะธัั
ะพะดััะตะณะพ ะฒ ะบะปะฐััะต?
โ ะั, ะฒ ะตะต ะฑะตะปะปะตััะธััะธะบะต ะฑะพะปััะต ัะฐะฝัะฐะทะธะน, ัะตะผ ัะตะฐะปัะฝะพััะธ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะทะฝะฐะบะพะผััะฒะพ ั ะดะตัะฐะปัะผะธ ะฝะฐะปะธัะพ. ะะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะฟะพัะธััะฒะฐะตั ะฝะฐั ัะฐัะธะบ, ะดะฐ ะธ ะะฝะตัะบะฐ ะดะตะปะธััั. ะะฝะธะปะฐั ัะตะผะตะนะบะฐ, ะบะฐะบ ะฝะธ ะบัััะธ.
โ ะะฐะบ ะฝะธ ะบัััะธ, ะฐ ัะฐะดะธ ัะฟะฐัะตะฝะธั ะพะฑัะตัะตะฝะฝะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะฐ ะฒ ะณัะฐะฝะธัะฐั
ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ ะฝะฐะดะพะฑะฝะพ ะผะฐะผั ะะฝะตัะบะธ ัะฑะธัั, ะธ ะฒ ะตะต ะปะธัะต โ ะฒะตัั ะฟะพัะพะถะดะตะฝะฝัะน ะตั ะถะต ะฑัะตะด.
โ ะฃะฑะธัั? ะะฐัะพะฒัะตะผ?
โ ะะตั, ะดะพ ะฟััะฝะธัั. ะงัะพ ะทะฐ ะฒะพะฟัะพั?
โ ะโฆ ะบะฐะบ ัั ััะพ ะพัััะตััะฒะธัั?
ะะฐัั
ะฐัะฝัะผ ะฟะตัะตะปะธะฒะพะผ ะทะฐะฑะธะปะธ ะบะฐะผะธะฝะฝัะต ัะฐัั. ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะทะดะพั
ะฝัะป.
โ ะะพัะฐ ัะพะฑะธัะฐัััั, ัะตะนัะฐั ะะตะทะฝะพั ะฒะตัะฝะตััั.
ะััะฐะป ะธ ะฟัะธะฝัะปัั ะธัะบะฐัั ะพะดะตะถะดั.
โฆ
โ ะััั ะพะดะฝะพ ะทะฐัััะดะฝะตะฝะธะต.
ะัะฑะพัะบะธะน ะผะพะปัะฐ ัะตะป ะฟะพ ััะฟะฐะฒัะตะนัั ะถะตะปััะผ ะะพัะบะฒะต, ะฟะธะฝะฐั ะฒะฐะปััะธััััะธะต ะปะธัััั. ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพััะฝะธะปะฐ:
โ ะ ัะพะผะฐะฝะต ะดะปั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ ะฝะตะปัะทั ะฟัะพััะพ ัะฐะบ ะฒะทััั ะธ ัะฑะธัั ัะตะปะพะฒะตะบะฐ.
โ ะ ะฒะตะดัะผั?
โ ะะตะดัะผะฐ ะฟะพ ะทะฐะบะพะฝะพะดะฐัะตะปัััะฒั โ ัะพะถะต ัะตะปะพะฒะตะบ.
โ ะขัะถะตะปะพ ะฑััั ะฟะธัะฐัะตะปะตะผ.
โ ะะพั-ะฒะพั.
ะัะทะณะฝัะป ััะฐะผะฒะฐะน, ะพะฝะธ, ะฝะต ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐััั, ะฟะตัะตะฑะตะถะฐะปะธ ัะปะธัั, ะฒะปะตัะตะปะธ ะฒ ะฒะฐะณะพะฝ, ัะฐะดะธัััั ะฝะต ััะฐะปะธ.
โ ะ ััะพ, ะตัะปะธ ะพะฝะฐ ะฝะต ะฟะตัะตะถะธะฒะตั ะผัะบ ะดััะตะฒะฝะพะณะพ ัะฐะทะปะพะถะตะฝะธั ะธ ะฑัะพัะธััั ะฟะพะด ะฟะพะตะทะด, ะบะฐะบ ะ ะฐัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ?
ะกัะฐัััะบะฐ ะฒ ะบัะพััะพะฒะบะฐั
ัะพ ัะฝััะบะฐะผะธ ัะฒะตัะฐ ะบััะถะพะฒะฝะธะบะฐ ะพัะบัะพะฒะตะฝะฝะพ ัััะฐะฒะธะปะฐัั ะฝะฐ ะฝะธั
, ะฟัะธัะปััะธะฒะฐััั.
โ ะะตั, ะฟัะพะฟะฐะณะฐะฝะดะฐ ะฒัะฟะธะปะธะฒะฐะฝะธั ัะพะถะต ะทะฐะฟัะตัะตะฝะฐ.
โ ะัััั ะตะน ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒั ัะฟะฐะดะตั ะบะธัะฟะธั, ะฟะพัะฐะถะตะฝะฝัะน ะบะฐะผะฝะตะถะพัะบะพะน, โ ะฟัะตะดะปะพะถะธะป ะัะฑะพัะบะธะน, ัะฐะทะณะปัะดัะฒะฐั ััะฐัััะบั ัะฒะตัั
ั ะฒะฝะธะท. โ ะะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ััั ะบะฐะผะฝะตะถะพัะบั ะฝะฐะฒะตะปะฐ ะพะฝะฐ ะถะต.
โ ะัะฑะพัะบะธะน, ััะพ ะฝะตะผะพัั โ ะฟะตัะตะบะปะฐะดัะฒะฐัั ะฑัะตะผั ะดะตะนััะฒะธะน ะฝะฐ ัะปััะฐะน ะธ ะบััะพะบ ัะตัััะฒะพะน ะณะปะธะฝั. ะญัะพ ะบะฐะฟะธััะปััะธั. ะ ั ะฒะตะดั ะทะฝะฐะปะฐ ัะตะฑั ัะฒะตัั
ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ.
โ ะฅะพัะพัะพ, ััะพ ะฝะฐะฟะพะผะฝะธะปะฐ. ะััะฐัะธ, ะบะฐะบ ะฝะฐััะตั ะดัะฑะฐ?
โ ะะพะด ะบะพัะพััะผ ัั ะถะตะปัะดะธ ะะฐัะฐัะต ะฝะฐ ััะธ ะฒะตัะฐะป?
โ ะะผะตะฝะฝะพ.
โ ะัะตะบัะฐัะฝัะน ะฑัะป ะดัะฑ, ะฝะพ ััะตะป ะบะพัะฝัะผะธ ะฒ ะขะพะปััะพะณะพ ะธ ะทะฐัะพั
.
โ ะะฐ, ััััะบะฐั ะปะธัะตัะฐัััะฐ ะธ ะณัะฐั, ะฒ ัะฐััะฝะพััะธ, ะผะฝะพะณะธะผ ะถะธะทะฝั ะทะฐะฟะพะณะฐะฝะธะปะธ, ะฝะพ ะดะตะปะพ ะฝะต ะฒ ะฝะธั
, ะฐ ะฒ ะดัะฑะต. ะะพะบะฐ ะตะณะพ ะฝะต ัะฟะธะปะธะปะธ, ะธ ะพะฝ ะดะพัะฐััะฒะฐะตั ะขะพะปััะพะณะพ, ะฟะพะฒะตัั ะฝะฐ ััะพะผ ะดัะฑะต ะะฝะตัะบะธะฝั ะผะฐะผะฐะฝ.
ะะตะนะฝะตะฝ ะธะทัะผะปะตะฝะฝะพ ะพะณะปัะดะตะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ. ะกัะฐัััะบะฐ ัะพะถะต.
โ ะขั ะณะตะฝะธะน, ะะฝะดัััะฐ.
โ ะะต ะพัะฒะปะตะบะฐะนัั ะฝะฐ ะพะฑัะดะตะฝะฝะพะต. ะะพะฝะธะผะฐะตัั, ะบ ัะตะผั ั? โ ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐั ั ะะธะทะพะน, ะัะฑะพัะบะธะน ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ััะฐัััะบั.
โ ะัะต ะฑั, ะผะตััะพ ะฟัะตัััะฟะปะตะฝะธั ะทะฐะบัะพัั. ะัะฑ ะฝะต ัะฟะธะปัั, ะฟะพะบะฐ ะธะดะตั ัะปะตะดััะฒะธะต. ะ ัะฝะตััะธ ะดะพัะพั
ะพะฒัะบะธะน ะดะพะผ, ะฝะต ะพะฑัััะธะฒ ะตะณะพ ะฝะฐ ะดัะฑ, ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะฟะพะปััะธััั. ะกััะฐัะตะณะธัะตัะบะธ โ ะฟััััะบ, ะฝะพ ัะฐะบัะธัะตัะบะฐั ะพัััะพัะบะฐ ะฝะฐะผ ะฝะต ะฟะพะผะตัะฐะตั.
ะขัะฐะผะฒะฐะน ะพััะฐะฝะพะฒะธะปัั, ัะตะฑััะฐ ะฒััะปะธ.
โ ะะพ ัั ะถะต ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั: ะพะฝะธ ะฑััััะพ ัะพะพะฑัะฐะทัั ะธ ะฟะตัะตะบะปััะฐััั ะฝะฐ ัะปะตะดัััะธะน ะดะพะผ, โ ะัะฑะพัะบะธะน ััะฐะป ัะตััะตะทะตะฝ, โ ะฝะฐะฟัะธะผะตั, ะฝะฐ ะฝะฐั.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะฒะธัะปะฐ ะฝะฐ ะตะณะพ ััะบะต.
โ ะ ะปัะฑะพะผ ัะปััะฐะต ััะพ ะทะฐะนะผะตั ะฒัะตะผั ะธ ะทะฐััะฐะฒะธั ะธั
ะฝะตัะฒะฝะธัะฐัั, ะฐ ะทะฝะฐัะธั โ ัะพะฒะตััะฐัั ะพัะธะฑะบะธ.
ะขัะฐะผะฒะฐะน ะฟะพะตั
ะฐะป ะดะฐะปััะต, ััะฐัััะบะฐ ัะพ ัะฝััะบะฐะผะธ ัะฒะตัะฐ ะบััะถะพะฒะฝะธะบะฐ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ะพัะผะพััะตะปะฐ ัะดะฐะปััััััั ะฒ ะพัะตะฝะฝะตะผ ะฒะพะทะดัั
ะต ะฟะฐัั, ััะตัะปะธะฒะพ ะดะพััะฐะปะฐ ัะตะปะตัะพะฝ ะธ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะปะฐ.
โฆ
โ ะะพั ัะบะฐะถะธ, ะะฝะดัััะฐ, ะตัะปะธ ะขะพะปััะพะน ะธ ะะพััะพะตะฒัะบะธะน ะฑัะดัั ะฑะธัััั โ ะบัะพ ะฟะพะฑะตะดะธั?
โ ะัะฝะบั ะฟัะธะตะผะฐ ะผะฐะบัะปะฐัััั ะฟะพะฑะตะดะธั.
โ ะ ะฟะฐะฟะตะฝัะบะฐ ะณะพะฒะพัะธะป, ััะพ ะงะตั
ะพะฒ.
โ ะฃ ัะตะฑั ะฑัะป ะฟะฐะฟะตะฝัะบะฐ? โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะบััะปัั ะธะทัะผะปะตะฝะธะตะผ.
โ ะะต ะฑัะป, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะพ ั ะตะณะพ ะฒัะดัะผะฐะปะฐ, ะฐ ัะพ ะฑะพะปัะฝะพ ัะถ ััะถะตะปะพ ะฑะตะท ะฟะฐะฟะตะฝัะบะธ.
โ ะ ะบัะพ ะพะฝ?
โ ะกะฒะฐััะธะบ.
โ ะกะฒะฐััะธะบ ยญโ ะปัะฑะธัะตะปั ะงะตั
ะพะฒะฐ?
โ ะั, ะงะตั
ะพะฒะฐ ะพะฝ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะป ัะพะปัะบะพ ะฒัะฟะธะฒัะธ.
โ ะ ัะฐััะพ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะป?
โ ะะพััะพัะฝะฝะพ. ะะฐะบ ะฒััะฐะฝะตั ั ัััะฐ, ัะฐะบ ัะถะต ะฒะตัั ยซะฒ ะะพัะบะฒั, ะฒ ะะพัะบะฒั โ ะฝะฐ ะัััะบะธะน ะฒะพะบะทะฐะปยป. ะขะฐะผ ะธ ะทะฐัะตะทะฐะปะธ. ะัะธัะตะป ะดะพะผะพะน ะฒะตัั ะทะฐัะตะทะฐะฝะฝัะน, ั ะถะฐัะผะธะฝะฐะผะธ ะฒ ััะบะฐั
. ะ ัะตัะตะท ะฝะตะดะตะปั ะฟะพะผะตั ะฒ ะััะฐะฟะพะฒะต, ะฝะต ะฟะพะนะผะธ ะพั ัะตะณะพ.
โฆ
โ ะะพะฝัะป, ะผั ััั ััะดะพะผ, โ ัะพะปััะพัะตะบะฐั ะผะพัะดะฐ ั ััั
ะปัะผ ะฝะพัะพะผ ะฟะพะฒะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะฒะพะดะธัะตะปั, โ ะตะทะถะฐะน ะฝะฐ ะะพะปััะพะน ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะน, ะฒะธะดะตะปะธ ะธั
ะฝะตะดะฐะปะตะบะพ ะพั ะฑัะฒัะตะน ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ.
ะะฐัะธะฝะฐ ัะฐะทะฒะตัะฝัะปะฐัั ัะตัะตะท ะดะฒะต ัะฟะปะพัะฝัะต ะธ, ะฝะต ะพะฑัะฐัะฐั ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั ะฝะฐ ะณัะดะบะธ, ะฝะฐะฟัะฐะฒะธะปะฐัั ะฒ ััะพัะพะฝั ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ.
โฆ
โ ะะฐะดะพ ะฟะพะทะฒะพะฝะธัั ะจะตัะณะต ะธ ัะบะฐะทะฐัั, ััะพะฑั ััััะพะธะปะฐ ะฒะตัะตัะธะฝะบั ะฟัะพัะฐะฝะธั ั ะผะฐะผะฐะฝ.
โ ะะฐัะตะผ?
โ ะัะผะฐะฝะธะทะผ, ัะพะปััะพะฒััะฒะพ, ะฒัะต ัะฐะบะพะต. ะะฐะบ-ะฝะธะบะฐะบ, ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะดะฝะธ ะฒ ัะตะผะตะนะฝะพะผ ะบััะณั, ะธะดะธะปะปะธัะตัะบะธะต ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธั, ัะพัั ยซะะฐะฟะพะปะตะพะฝยป ั ัะฐะตะผ. ะะฐะบะพะฝะตั, ะดะพะปะณะพะถะดะฐะฝะฝัะต ัะบะตะปะตัั ะฒ ัะบะฐัั, ะบะพัะพััะน ะฟัะธะดะตััั ะพัะบัััั, ััะพะฑั ะฒะทััั ัะตะฟะปัะต ะฝะพัะพัะบะธ ะดะปั ะฟัะพะณัะปะบะธ ะฟะพ ะกัะธะบัั, ัะฐะผ ะพัะตะฝัั ะดัะตั. ะขะพัะถะตััะฒะพ, ั
ะปะพะฟััะบะธ, ะฟัะพะฒะพะดั.
โ ะะฝะดัััะฐ, ะฝะต ะฑัะดะตั ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะกัะธะบัะฐ, ะตัะปะธ ะผั ะฝะต ะฟัะธะดัะผะฐะตะผ, ะบะฐะบ ััะฐะดะธัั ะตะต ะฒ ะปะพะดะบั.
โ ะั
, ะดะฐ, ะปะธัะตัะฐัััะฝัะต ยซะทะฐัััะดะฝะตะฝะธัยป. ะะพ-ะผะพะตะผั, ััะพ ัััะธะต ะฟััััะบะธ, ะฝะธััะพ ะฝะต ะผะตัะฐะตั ัะตะฑะต ะฟัะพะฟัััะธัั ะพะฟะธัะฐะฝะธะต ัะฑะธะนััะฒะฐ ะธ ะฟัะตะดััะฒะธัั ัะธัะฐัะตะปั ัะถะต ะณะพัะพะฒะพะณะพ ะฟะพะฒะตัะตะฝะฝะพะณะพ.
โ ะฃะฑะธะฒะฐัั, ั ะฝะตะบะพัะพััะผะธ ะพะณะพะฒะพัะบะฐะผะธ, ะบะฐะบ ัะฐะท ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะทะฐะฟัะตัะฐะตั. ะะตะปัะทั ะพะฟะธััะฒะฐัั ัะฟะพัะพะฑ ัะฑะธะนััะฒะฐ.
โ ะะทัััะฝัะนัั ััะฝะตะต.
โ ะกะผะพััะธ: ะผะพะถะฝะพ ะฟัะตะดััะฒะธัั ัััะฟ, ะฒะธัััะธะน ะฝะฐ ะดัะฑะต, ะฝะพ ะณะพะฒะพัะธัั, ััะพ ะพะฝ ะฑัะป ะฟะพะฒะตัะตะฝ, ะฝะตะปัะทั.
โ ะขะพ ะตััั ะฒะตัะฐัั ะผะพะถะฝะพ, ะฐ ะณะพะฒะพัะธัั ะพะฑ ััะพะผ ะฝะตะปัะทั?
โ ะะผะตะฝะฝะพ!
โ ะกัะฐัััะต ะผะพะต, ััะพ ัะธะทะพััะตะฝะธั.
โ ะญัะพ ะทะฐะบะพะฝ, ะะฝะดัััะฐ.
โ ะะดะฝะพ ะธ ัะพ ะถะต, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะฝะต ะฒะฐะถะฝะพ, โ ะัะฑะพัะบะธะน, ะฝะต ะพััะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐััั, ะพะฑะฝัะป ะดะปะธะฝะฝััะตะน ััะบะพะน ะบัะพั
ะพัะฝัั ะะธะทั ะธ, ัะพะณะฝัะฒัะธัั, ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะป, ะฟะพะฟะฐะฒ ะณัะฑะฐะผะธ ะฒ ะทะฐััะปะพะบ. โ ะะฐะฟะธััะฒะฐะน: ยซะะฐ ััะฐัะพะผ ะฒััะพั
ัะตะผ ะดัะฑะต ะฒะธัะตะป ัััะฟ ะถะตะฝัะธะฝั, ัะผะตััะตะน ะพั ะฝะตะธะทะฒะตััะฝัั
ะฟัะธัะธะฝยป.
ะะธะทะฐ ะดะพััะฐะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพัะธะบ ะธะผะตะฝะธ ะะพะฝัะบะฐ-ะะพัะฑัะฝะบะฐ ะธ ะทะฐะฟะธัะฐะปะฐ.
ะกะปะตะฒะฐ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟัะพะตั
ะฐะปะฐ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะฐั ะผะฐัะธะฝะฐ, ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั ะผะตััะฐั
ะฒ ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธ, ะธะท ะฝะตะต ั ัััะดะพะผ ะฒัะฑัะฐะปะธัั ะดะฒะฐ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะฒ ัะพัะผะต. ะะดะธะฝ โ ัะพะปัััะน, ะฒัะพัะพะน โ ะพัะตะฝั ัะพะปัััะน, ะตะณะพ ััะปะพะฒะธัะต ะฑัะปะพ ะฟะตัะตััะฝััะพ ัะตะผะฝะตะผ ัะฐะบ, ััะพ ะฑะพะปััะฐั ัะฐััั ะฝะฐั
ะพะดะธะปะฐัั ัะฒะตัั
ั. ะะฐะทะฐะปะพัั, ะพัะฟัััะธ ะฟััะถะบั โ ะธ ะฒะตัั ะพะฝ ััั ะถะต ะฒััะตัะตั ัะตัะตะท ััะฐะฝั ะฝะฐ ะฐััะฐะปัั. ะะฝะธ ะณััะทะฝะพ ะธ ะบะฐะบ ะฑั ัะฐััะตัะฝะฝะพ ะดะฒะธะฝัะปะธัั ะฝะฐะฒัััะตัั. ะัะฑะพัะบะธะน ะธ ะะธะทะฐ ะพัะบะปะพะฝะธะปะธัั ะฒ ััะพัะพะฝั, ะฝะพ ะฟะตัะตััะฝัััะน ั ะฝะฐะฟะฐัะฝะธะบะพะผ ะฟัะตะณัะฐะดะธะปะธ ะธะผ ะฟััั. ะะฝะดัะตะน ะพะณะปัะฝัะปัั โ ัะทะฐะดะธ ะฟัะธะฑะปะธะถะฐะปะฐัั ะตัะต ะพะดะฝะฐ ััะพะปั ะถะต ะพัะฐัะพะฒะฐัะตะปัะฝะฐั ะฟะฐัะพัะบะฐ.
โ ะะพะนะดะตัะต ั ะฝะฐะผะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะฟะตัะตััะฝัััะน. ะะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฟัะพะธะทะฝะพัะธะป ัะปะพะฒะฐ, ะปะธัะพ ะตะณะพ ะพััะฐะฒะฐะปะพัั ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝัะผ, ัะพะปัะบะพ ะณัะฑั ะถะธัะฝัะผะธ ัะตัะฒัะผะธ ัะตะฒะตะปะธะปะธัั ะฒะพะบััะณ ััะฐ, ะบะฐะบ ะพััะตะทะฐะฝะฝัะต ะฟะฐะปััั ะฑัะฐะดะพะฑัะตั.
โ ะกะฟะฐัะธะฑะพ ะทะฐ ะฟัะธะณะปะฐัะตะฝะธะต, ะฝะพ ั ะฝะฐั ััะพะบะธ ะตัะต ะฝะต ัะดะตะปะฐะฝั, ะฟัะธั
ะพะดะธัะต ะทะฐะฒััะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะ ะผะฝะต ะผะฐะผะฐ ะฝะต ัะฐะทัะตัะฐะตั ั
ะพะดะธัั ั ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัะผะธ ััะพะดะฐะผะธ, โ ะดะพะฑะฐะฒะธะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะะฟัะพัะตะผ, ั ั ััะพะดะฐะผะธ ะธ ัะฐะผะฐ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะต ะพัะตะฝั.
ะ ะตะทะธะฝะพะฒะฐั ะดัะฑะธะฝะบะฐ ัะบะพัะธะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะฟัะพะนะดััั ัะทะฐะดะธ ะฟะพ ะฝะพะณะฐะผ. ะัะพัะฐั ะฒัะตะปะฐ ัะฐััั ัะฟะธะฝั. ะะฐะปััะต ัะดะฐัั ะฟะพัะปะธ ะฟะพ ะณะพะปะพะฒะต, ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะบััะปัั ััะบะฐะผะธ, ะผะพะปัะฐ ัะตัะฟั ะธ ะฒัะถะธะดะฐั. ะะธะทะฐ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ ะธ ะฑัะพัะธะปะฐัั ะฝะฐ ะฑะปะธะถะฐะนัะตะณะพ, ะฝะพ ะบัะพ-ัะพ ัะถะต ะดะตัะถะฐะป ะตะต ัะทะฐะดะธ, ะฑะตััะตัะตะผะพะฝะฝะพ ะปะฐะฟะฐั ะธ ะฒัะบัััะธะฒะฐั ััะบะธ.
ะะพััะธ ะฒัะต ะฟัะพั
ะพะถะธะต, ะทะฐะฒะธะดะตะฒ ะธั
ะธะทะดะฐะปะธ, ะทะฐัะฐะฝะตะต ะพะฑั
ะพะดะธะปะธ, ะพัะฒะพัะฐัะธะฒะฐะปะธัั ะธ ััะบะพััะปะธ ัะฐะณ. ะะตะบะพัะพััะต, ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ะพััะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐะปะธัั, ั
ะพัั ะธ ะฝะฐ ัะฐัััะพัะฝะธะธ, ะธ ะฝะฐะฑะปัะดะฐะปะธ, ะบัะพ-ัะพ ัะฝะธะผะฐะป ะฝะฐ ัะตะปะตัะพะฝ.
ะกัะฐัััะบะฐ ะฒ ะฝะตััะตัะฟะธะผะพ ะบะพัะธัะฝะตะฒัั
ัะฝััะบะฐั
ะณัะพะผะบะพ ะพะฑัััะฝัะปะฐ:
โ ะัะพะฒะพะบะฐัะพัะพะฒ ะฟะพะนะผะฐะปะธ! ะจะบะพะปั ั
ะพัะตะปะธ ะฒะทะพัะฒะฐัั!
ะะพะณะดะฐ ะบัะฐัะฝะตััะตะต ะฝะตะฑะพ ะพะฟัะพะบะธะฝัะปะพัั ะธ ััะฐะปะพ ะทะฐะบะฐััะฒะฐัััั ะบัะดะฐ-ัะพ ะฒะฑะพะบ ะธ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฟะพะฒะพะปะพะบะปะธ ะบ ะผะฐัะธะฝะต, ะพะฝ ะธะทะฒะตัะฝัะปัั, ะธัะฐ ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะะธะทั, ะฝะพ ะฒะผะตััะพ ะฝะตะต ัะฒะธะดะตะป ัะฟัััะฐะฒัะตะณะพัั ะฒ ัะตะดะตััะตะน ัะพะปะฟะต ะผัะถะธัะบะฐ ะปะตั ััะธะดัะฐัะธ, ะปะธัะพ ะบะพัะพัะพะณะพ ัะฒะตัั
ั ะฑัะปะพ ัะบัััะพ ะตัะตะฟะตะฝะธััะพะน ะฑะพัะพะดะตะฝะบะพะน, ะฐ ัะฝะธะทั โ ัะฐะฟะพัะบะพะน ั ะฑะพะปััะพะน ะฑัะบะฒะพะน ยซMยป. ะะปะธ ััะพ ยซWยป, ะฟััะฐะปัั ัะพะพะฑัะฐะทะธัั ะัะฑะพัะบะธะน, ัะผััะฝะพ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐััั, ััะพ ยซะฒะตัั
ยป ะธ ยซะฝะธะทยป, ะบะฐะบ ะธ ะฒัะต ะฟัะพัะธะต ะพัะธะตะฝัะธัั ะฒ ะถะธะทะฝะธ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, โ ะฟะพะฝััะธั ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพ ะทัะฑะบะธะต.
โฆ
ะะธะทั ะฒ ะผะฐัะธะฝะต ะฝะต ะฑัะปะพ, ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฒะฟะธั
ะฝัะปะธ ะฝะฐ ะทะฐะดะฝะตะต ัะธะดะตะฝัะต, ะปะธัะพะผ ะฒะฝะธะท, ั ะทะฐััะตะณะฝัััะผะธ ะทะฐ ัะฟะธะฝะพะน ััะบะฐะผะธ. ะะตะถะฐัั ัะฐะบ ะฑัะปะพ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ะฒัะต ัะตะปะพ ััะฐะทั ะฟัะตะฒัะฐัะธะปะพัั ะฒ ะพะดะฝั ะฑะพะปัััั ะฑะพะปั. ะะฝ ะฝะฐัะฐะป ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ัะฐะทะฒะพัะฐัะธะฒะฐัััั. ะัะฑะฐัััะน ะพะฑะตัะฝัะปัั, ะฒัะปะพ ัะดะฐัะธะป ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะฒ ะฟะตัะตะฝั, ะพััะตะณะพ ัะฐะผ ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ะฒัะดะพั
ัั ะธ ัะฐััะตะบัั. ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะผะตะดะปะธะป ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป, ะฟะพะบะฐ ะฝะต ัะฒะธะดะตะป ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน ัะธะทัะน ะฟะพัะพะปะพะบ ั ะฒัะถะถะตะฝะฝัะผะธ ัะธะณะฐัะตัะพะน ะปะธัะตัะฐะผะธ ยซะยป ะธ ยซะยป. ะัะพะผะบะพ ะทะฐัะผะตัะปัั, ะดะพะผััะปะธะฒะฐั.
โ ะญะน, ะดะพั
ะพะดัะณะธ, ะทะฐะบััะธัั ะฝะฐะนะดะตััั?
ะัะฑะฐัััะน ะฟะพะบะพัะธะปัั, ะพัะตะฝะธะฒะฐั ัะธะปั ะฝะฐ ัะดะฐั, ะฝะพ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ัะตะปะตัะพะฝ, ะธ ะพะฝ ะฝะต ะฑะตะท ะพะฑะปะตะณัะตะฝะธั ะฒ ะณะปะฐะทะฐั
ะฟะพััะฝัะปัั ะทะฐ ัััะฑะบะพะน.
โ ะะฐ, ะฝะฐ ะะฐะปะพะผ ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะพะผโฆ ะะพะฝัะป, ะตะดะตะผ. ะกะฒะตัะฝะธ ะฒ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะธ ะบ ะบะธะฝะพัะตะฐััั.
โฆ
ะะทะฒะธะทะณะฝัะปะฐ ะธ ัะผะพะปะบะปะฐ ัะธัะตะฝะฐ. ะัะฑะพัะบะธะน ะพััะพะปะบะฝัะปัั ะฝะพะณะฐะผะธ ะพั ะดะฒะตัะธ, ะฟััะฐััั ะฟัะธะฟะพะดะฝััััั ะธ ะฒัะณะปัะฝััั ะฝะฐััะถั. ะะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะทะฐัะพัะผะพะทะธะปะธ, ะฒะพะบััะณ ัะถะต ััะพัะปะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฑะตัััะผะฝะพ ะผะธะณะฐััะธั
ะผะฐัะธะฝ. ะ ะพะดะฝะพะน ะธะท ะฝะธั
ะพะฝ ัะฒะธะดะตะป ะปะธัะพ ะะธะทั, ะทะฐะณะฝะฐะฝะฝะพะต, ะฑะตัะฟะพะผะพัะฝะพะต. ะัะฑะพัะบะธะน ะทะฐะฑะธะป ะฑะพัะธะฝะบะฐะผะธ ะฒ ะพะบะฝะพ, ะฝะพ ะะธะทะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะต ะฝะฐ ะฝะตะณะพ, ะฐ ะบัะดะฐ-ัะพ ะฝะฐะธัะบะพัั, ะฝะต ะพัััะฒะฐั ะณะปะฐะท ะพั ัะตะณะพ-ัะพ ะฝะตะฒะตะดะพะผะพะณะพ ะัะฑะพัะบะพะผั.
ะะฝ ะฒัะฒะตัะฝัะปัั, ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะต ัะพะถะต ัะผะพััะตะปะธ ััะดะฐ.
ะัะดะธ ััะพัะปะธ ััะดะพะผ, ะฑัะดัะพ ะฟัะธะดะฐะฒะปะตะฝะฝัะต.
ะะฐ ััะฐัะพะผ ะฒััะพั
ัะตะผ ะดัะฑะต ะฒะธัะตะป ัััะฟ ะถะตะฝัะธะฝั, ัะผะตััะตะน ะพั ะฝะตะธะทะฒะตััะฝัั
ะฟัะธัะธะฝ.
ะะฐ ะปะตะฒะพะน ะฝะพะณะต ะตะต ะฑะพะปัะฐะปะฐัั ะบัะพััะพะฒะบะฐ, ะฒัะพัะฐั ะฒะฐะปัะปะฐัั ะฝะฐ ะทะตะผะปะต. ะ ัะบะธ ะธ ะฝะพะณะธ ัะฒัะทะฐะฝั ะดะฒัะผั ะพัะฐะฝะถะตะฒัะผะธ ัะฝััะบะฐะผะธ.
ะะดะธะฝ ะธะท ะทะตะฒะฐะบ ะฟะพะดะฝัะป ััะบั, ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐั ะบัะดะฐ-ัะพ ะฒััะต, ะฝะฐะผะฝะพะณะพ ะฒััะต, ะฟะพะฟััะธะปัั ะธ ะฒะดััะณ ะฑัะพัะธะปัั ะฒ ััะพัะพะฝั. ะััะณะธะต ัะพะถะต ะฝะฐัะฐะปะธ ัะฐะทะฑะตะณะฐัััั. ะ ะปะพะฑะพะฒะพะต ััะตะบะปะพ ะผะฐัะธะฝั ั ะฝะตะฒะตัะพััะฝะพะน ัะธะปะพะน, ะฒะทะพัะฒะฐะฒ ัะธัะธะฝั ะพะถะธะดะฐะฝะธั ะพะณะปััะฐััะธะผ ัะดะฐัะพะผ, ะฒะปะตัะตะป ะบะธัะฟะธั. ะขะพะปัััะน ะธ ะพัะตะฝั ัะพะปัััะน ะทะฐะดะตัะณะฐะปะธัั, ัะปะพะฒะฝะพ ะฒ ะฟัะธะฟะฐะดะบะต. ะะธะทะฐ ัะฒะธะดะตะปะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ ะธ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ.
ะะปะฐะฒะฐ 10. ะะฝะฐััะฐัะธั ะกััะพะบะธะฝะฐ. ะัะบะปะฐ


โ ะะปั! ะกะผะพััะธ! ะขะฐะผ ััะพ-ัะพ ะฟัะพะธะทะพัะปะพ! โ ะฟะพะดะฟััะณะฝัะป ะะตัั ะธ ัััั ะฝะต ัะดะฐัะธะปัั ะณะพะปะพะฒะพะน ะพ ะปะพะฑะพะฒะพะต ััะตะบะปะพ.
ะะปั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ ะฟัะธะตั
ะฐะปะฐ ะบ ะะฐะปะธะฝะต ะะปะตะบัะตะตะฒะฝะต ะฒะทะฒะพะปะฝะพะฒะฐะฝะฝะฐั ะธ ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฝะต ะฒ ัะตะฑะต. ะะฝ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะตะต ัะฐะฝััะต ัะฐะบะพะน ะฝะต ะฒะธะดะตะป. ะะต ะปะธัะพ โ ะบัะฐัะธะฒะพะต, ะฝะพ ะฒัะตะณะดะฐ ัะปะพะฒะฝะพ ะบะฐะผะตะฝะฝะพะต, ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะธะท ัะตะฒะตัะฝะพะณะพ ะผัะฐะผะพัะฐ โ ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะพ, ะธ ัะธะฝัั ะถะธะปะบะฐ ะฝะฐ ะฒะธัะบะต ะฟัะปััะธัะพะฒะฐะปะฐ ัะฐะบ, ััะพ, ะบะฐะทะฐะปะพัั, ะฒะพั-ะฒะพั ัะฐะทะพัะฒะตั ัะพะฝะบัั ะบะพะถั ะธ ะฒััะฒะตััั ะฝะฐััะถั ะผะฐะปะตะฝัะบะพะน ะฟัะธัะตะน. ะะพะณะดะฐ ะพะฝ ะทะฐัะตะป ะฝะฐ ะบัั
ะฝั, ะะปั ััะพัะปะฐ ั ะพะบะฝะฐ ั ะฟะพะปะฝะพะน ัะฐัะบะพะน ัะฐั, ะฝะพ ะฝะต ะฟะธะปะฐ, ะฐ ะฟัะพััะพ ะดะตัะถะฐะปะฐ ะตะต ะดัะพะถะฐัะตะน ััะบะพะน ะธ ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ัะฐัั.
โ ะะฐะบะพะฝะตั-ัะพ! โ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปะฐัั ะะปั. ะงะฐะน ะฒัะฟะปะตัะฝัะปัั ะธ ะพััะฐะฒะธะป ะฝะฐ ะตะต ัะพะทะพะฒะพะผ ะฟะปะฐััะต ะผัะฐัะฝัะน ัะปะตะด.
โ ะะตัะตะฝัะบะฐ ั ะฝะฐั ะดะพะผะฐ ัะตะฟะตัั ะฝะต ัะฐัััะน ะณะพััั, โ ัะทะฒะธัะตะปัะฝะพ ะทะฐะผะตัะธะปะฐ ะะฐะปะธะฝะฐ ะะปะตะบัะตะตะฒะฝะฐ. โ ะขัั ั
ะพัั ะฟะพัะพะฟ, ั
ะพัั ะฟะพะถะฐั โ ะตะณะพ ะฝะต ะดะพะทะพะฒะตัััั!
โ ะะฐะผะฐ, ะฝั ะฟะตัะตััะฐะฝั! ะงัะพ ะตัะต ะทะฐ ะฟะพะถะฐั ััั ั ะฒะฐั?
ะะฐะผะฐ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะะปั. ะ ะฟะพ ะตะต ะฒะทะณะปัะดั ะะตัั ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะพะฝะฐ ะธ ัะฐะผะฐ ัะพะปะบะพะผ ะฝะต ะทะฝะฐะตั, ััะพ ัะปััะธะปะพัั, ะฝะพ ะดะตะปะพ ััะพ ะฒะฐะถะฝะพะต ะธ ััะพัะฝะพะต.
โ ะกะฐะผะธ ัะฐะทะฑะธัะฐะนัะตัั, โ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ะฟัะพะธะทะฝะตัะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะฏ ัะถะต ะธ ะฝะต ะฒะผะตัะธะฒะฐััั. ะะต ั
ะพัะธัะต ะผะฝะต ะฝะธัะตะณะพ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐัั โ ะธ ะฝะต ะฝะฐะดะพ.
โ ะะฐะปะธะฝะฐ ะะปะตะบัะตะตะฒะฝะฐ, ะผั ะฟะพัะพะผโฆ ะฟะพัะพะผ ะฒัะต ัะฐััะบะฐะถะตะผ. ะกะตะนัะฐั ะผะฝะต ะฝะฐะดะพ ะฟะพะณะพะฒะพัะธัั ั ะะตัะตะน.
ะะตัั ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะผะฐะผั: ะพะฝะฐ ัะธะดะตะปะฐ ะฝะฐ ัะฐะฑััะตัะบะต, ัะฐััะตััะฝะฝะฐั ะธ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะผะฐะปะตะฝัะบะฐั. ะะฝ ะดะฐะฒะฝะพ ะทะฐะผะตัะธะป: ัะตะผ ััะฐััะต ะพะฝ ััะฐะฝะพะฒะธะปัั, ัะตะผ ะผะฐะผะฐ ะดะตะปะฐะปะฐัั ะผะตะฝััะต. ยซะขะฐะบ ะพะฝะฐ ัะบะพัะพ ะฟัะตะฒัะฐัะธััั ะฒ ัะปัะฑะบั ะงะตัะธััะบะพะณะพ ะบะพัะฐยป, โ ะผะตะปัะบะพะผ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั. ะะฝ ั
ะพัะตะป ะฑัะปะพ ะพะฑะฝััั ะตะต, ะฝะพ ะะปั ะฒะพัะฒะฐะปะฐัั ะฒ ะตะณะพ ะผััะปะธ:
โ ะะพะนะดะตะผ! ะงะตะณะพ ัั ะทะฐะผะตั? ะะพะนะดะตะผ ัะบะพัะตะต!
โ ะะฐะผ, ะฝะต ัะตัะดะธัั! โ ัะพะปัะบะพ ะธ ััะฟะตะป ัะบะฐะทะฐัั ะพะฝ ะธ ะฒัะฑะตะถะฐะป ะฒัะปะตะด ะทะฐ ะะปะตะน.
ะะฝะฐ ะฟัะธะตั
ะฐะปะฐ ะฝะฐ ะผะฐัะธะฝะต โ ััะฐัะตะฝัะบะพะน ยซะ ะตะฝะพยป, ะบะพัะพััะน ะฒะพะดะธะปะฐ ั ะฒะพัะตะผะฝะฐะดัะฐัะธ ะปะตั. ะะฐัั, ะตะต ัะตัััะฐ, ัะบะพะปัะบะพ ะฝะธ ััะฐัะฐะปะฐัั, ัะฐะบ ะธ ะฝะต ัะผะพะณะปะฐ ะพัะฒะพะธัั ะฒะพะถะดะตะฝะธะต, ะฐ ั ะะปะธ ะฒัะต ะฟะพะปััะธะปะพัั ะฑััััะพ ะธ ะฝะฐ ัะดะธะฒะปะตะฝะธะต ะปะตะณะบะพ. ะะฝะพะน ัะฐะท ะพะฝะฐ ะปัะฑะธะปะฐ ะฟัะธะฑะฐะฒะธัั ัะบะพัะพััะธ ะธะปะธ ะฟะพัะธะณะฝะฐะปะธัั ะทะฐะทะตะฒะฐะฒัะธะผัั ะฒะพะดะธัะตะปัะผ โ ัััะฐะฝะฝะฐั, ะบะฐะทะฐะปะพัั ะะตัะต, ะฟัะธะฒััะบะฐ ะดะปั ัะฐะบะพะน ั
ััะฟะบะพะน ะดะตะฒััะบะธ. ยซะะพะณะดะฐ ั ััะฐะฝั ะฒะพะดะธัั ะผะฐัะธะฝั, ั ัะพะถะต ะฑัะดั ะพะฑะณะพะฝััั ะธ ัะธะณะฝะฐะปะธััยป, โ ัะตัะธะป ะพะฝ โ ะตัะต ะดะฐะฒะฝะพ, ะตัะต ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฝะฐะทะฐะด.
ะะฝะธ ัะตะปะธ ะฒ ะผะฐัะธะฝั. ะะปั ััะถะตะปะพ ะธ ะฑััััะพ ะดััะฐะปะฐ.
โ ะะตัั, โ ะฒัะดะพั
ะฝัะปะฐ ะพะฝะฐ ะธ ัะฝะพะฒะฐ ัะดะตะปะฐะปะฐ ะฒะดะพั
, โ ะะตััโฆ
ะะน ะฑัะปะพ ััะถะตะปะพ ะณะพะฒะพัะธัั, ัะปะพะฒะฐ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะทะฐััััะปะธ ะฒ ะณััะดะธ ะธ ะฝะต ะผะพะณะปะธ ะฒััะฒะฐัััั. ะะฝะฐ ะทะฐะฒะตะปะฐ ะผะฐัะธะฝั. ยซะ ะตะฝะพยป ะทะฐะณัะดะตะปะฐ, ะธ ะพั ััะพะณะพ ััะผะฐ ะะปะต ัะดะตะปะฐะปะพัั ะปะตะณัะต. ะะฐ ะพะดะฝะพะผ ะดัั
ะฐะฝะธะธ ะฟะพะด ััะผ ะธ ะฟะพะดะตัะณะธะฒะฐะฝะธะต ะผะพัะพัะฐ ะพะฝะฐ ะฒัะฟะฐะปะธะปะฐ:
โ ะะตัั, ะบะฐะถะตััั, ัั ะผะพะน ะฑัะฐั!
ะะตัั ะทะฐะผะตั. ะขะตะฟะตัั ะธ ะตะผั ััะฐะปะพ ะฝะต ั
ะฒะฐัะฐัั ะฒะพะทะดัั
ะฐ.
โ ะขั ะฟะพัััะธะปะฐ? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ, ะฟะพะฝะธะผะฐั, ััะพ ััะพ ะฝะต ัััะบะฐ. ะะปั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะต ะปัะฑะธะปะฐ ัััะพะบ ะธ ัะพะทัะณัััะตะน.
โ ะขะฐะบ, ัะผะพััะธ, โ ะฝะฐัะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, ะฟัะธะปะพะถะธะปะฐ ััะบะธ ะบ ะปะธัั ะธ ะฝะฐะดะฐะฒะธะปะฐ ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฝะฐ ะณะปะฐะทะฐ. โ ะะฐะบ ะฑั ะฟัะธะนัะธ ะฒ ัะตะฑั. ะฏ ะบะฐะบ ะฟะพะฝัะปะฐ โ ััะฐะทั ะบ ัะตะฑะต. ะะต ะทะฝะฐั, ะฟะพัะตะผั. ะะธะบะพะผั ะฟะพะบะฐ ะฝะต ั
ะพัั ะณะพะฒะพัะธัั. ะะตัั, ะผะฝะต ัััะฐัะฝะพ ะพั ะฒัะตะณะพ ััะพะณะพ.
ะะตัั ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะฟะพัะฐ ะฑัะฐัั ัะธััะฐัะธั ะฒ ัะฒะพะธ ััะบะธ. ะะฝ ะพะฑะฝัะป ะตะต, ะฟะพัััั ะทะฐ ะฟะปะตัะธ ะธ ะณัะพะผะบะพ, ะฟะพ ัะปะพะณะฐะผ ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะป:
โ ะฃั-ะฟะพ-ะบะพะน-ัั! ะกะปััะธัั ะผะตะฝั? ะงัะพ ัะปััะธะปะพัั, ะะปั? ะกะดะตะปะฐะน ะณะปัะฑะพะบะธะน ะฒะดะพั
ะธ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะผะฝะต ะฒัะต ะพะฑัััะฝะธ!
โ ะกะตะนัะฐัโฆ ัะตะนัะฐัโฆ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตัั, ะบะฐะบ ะผะฝะต ะฑัะปะพ ั ะะฐะปะธะฝะพะน ะะปะตะบัะตะตะฒะฝะพะน! ะะฝะฐ ัะฟัะฐัะธะฒะฐะตั: ยซะงัะพ? ะะฐะบ?ยป ะ ั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะผะพะณั ัะบะฐะทะฐัั. ะฃ ะผะตะฝั ััะบะธ ะดัะพะถะฐั. ะกะตะนัะฐัโฆ ะฒ ะพะฑัะตะผ. ะะพะผะฝะธัั, ั ะณะพะฒะพัะธะปะฐ, ััะพ ะดัะดั ะะธัะฐ ะพััะฐะฒะธะป ะผะฝะต โ ะฝั, ััะตะดะธ ัะฐะทะฝะพะณะพ ะฟัะพัะตะณะพ โ ะฑะพะปััะพะน ะฐะปัะฑะพะผ ั ะผะฐัะบะฐะผะธ?
ะะตัั ะฝะต ะฟะพะผะฝะธะป. ะ ัะพั ะผะพะผะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะฒัะต ะฒัััะฝะธะปะพัั, ะพะฝ ัะฐะผ ะฑัะป ะฒ ัะฐะบะพะผ ะฒะพะปะฝะตะฝะธะธ, ััะพ ะฒััะด ะปะธ ะพะฑัะฐัะธะป ะฑั ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต ะฝะฐ ะบะฐะบะธะต-ัะพ ัะฐะผ ะผะฐัะบะธ.
โ ะฏ ะพัะปะพะถะธะปะฐ ะตะณะพ. ะะฐัะบะธ ะธ ะผะฐัะบะธ. ะขะตะฑะต ะฒะตะดั ัะพะถะต ะดะพััะฐะปะฐัั ะบััะฐ ะผะฐัะพะบ ะฒ ะบะฒะฐััะธัะต ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ. ะ ะฟะพัะพะผ ั ะพั ะฝะตัะตะณะพ ะดะตะปะฐัั ััะฐะปะฐ ะธั
ัะฐะทะณะปัะดัะฒะฐัั ะธ ะทะฐะผะตัะธะปะฐ, ััะพ ะพะฝะธ ะพัะตะฝั ัััะฐะฝะฝะพ ัะฐะทะปะพะถะตะฝั. ะฏ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะต ัะฐะทะฑะธัะฐััั ะฒ ััะพะผ. ะะพ ััั ัะพะปัะบะพ ัะปะตะฟะพะน ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะป ะฑั. ะะพั ะฟัะตะดััะฐะฒั. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะผะฐัะบะฐ, ะฝะฐะฟัะธะผะตั, ะธะท ะัะฟะฐะฝะธะธ, ััะดะพะผ ะธะท ะะพัะฒะตะณะธะธ, ัะปะตะดัััะฐั โ ะพัะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ะตัะต, ะธ ััั ะถะต ัะฝะพะฒะฐ ะธะท ะัะฟะฐะฝะธะธ. ะขะพ ะตััั ะฒัะฐะทะฑัะพั. ะ ััะพ ะพัะตะฝั ะฝะต ะฟะพั
ะพะถะต ะฝะฐ ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ. ะะฝ ะฑัะป ัะพัะฝัะผ ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ. ะะฐะถะต ะฟะตะดะฐะฝัะธัะฝัะผ.
ะะตัั, ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฒัะพัะพะน ะธะปะธ ััะตัะธะน ัะฐะท ะฒ ะถะธะทะฝะธ ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป ะดะพัะฐะดั ะธ ะดะฐะถะต ะณะพัะตัั ะพั ัะพะณะพ, ััะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะผะพะณ ัะบะฐะทะฐัั ะพ ัะฒะพะตะผ ะพััะต. ะะธ ะพ ัะพะผ, ะบะฐะบะธะผ ะพะฝ ะฑัะป, ััะพ ะปัะฑะธะป, ัะตะณะพ ะพะฟะฐัะฐะปัั. ะะพะถะตั, ะตะผั ัะพะถะต ะฝัะฐะฒะธะปัั ะะธะบะธ ะะฐัะดะฐ?
โ ะ ัะพะณะดะฐ ั ััะฐะปะฐ ะฟัะพะธะทะฝะพัะธัั ะฒัะปัั
ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธั ัััะฐะฝ: ะะพัััะณะฐะปะธั, ะ ัะผัะฝะธั, ะัะฟะฐะฝะธั, ะัะตัะฝะฐะผ, ะะณะธะฟะตั ะธ ะฒะดััะณ โ ะขะพะฑะพะปััะบ! ะขะพะฑะพะปััะบ, ะะตัั!
โ ะะฐะฒะฐะน ัะถะต ัะบะพัะตะต! โ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะป ะพะฝ. โ ะั ะถะต ะฝะต ะฝะฐ ััะพะบะต ะณะตะพะณัะฐัะธะธ!
โ ะัะพััะธ. ะฏ ะฟัะพััะพ ะฒะพะปะฝัััั. ะะพััั ััะพ-ัะพ ัะฟัััะธััโฆ ะะพัะพัะต, ั ะฟะตัะตะฟะธัะฐะปะฐ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธั ัััะฐะฝ ะธะท ะฟะตัะฒะพะณะพ ะปะธััะฐ ั ะผะฐัะบะฐะผะธ. ะะฐะทะฒะฐะฝะธั ัััะฐะฝ, ะฟะพะฝััะฝะพะต ะดะตะปะพ, ั ะฑะพะปััะธั
ะฑัะบะฒ. ะ ััั ััะธ ะฑะพะปััะธะต ะฑัะบะฒั ัะปะพะถะธะปะธัั ะฒ ะฟัะตะดะปะพะถะตะฝะธั!
ะะตัั ะฟัะธััะฐะปัะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะปั. ะะฝะธ ั ัะตะฑััะฐะผะธ ะดะฐะฒะฝะพ ะดะพะณะฐะดะฐะปะธัั, ััะพ ััะธ ะผะฐัะบะธ ะฝะต ะฟัะพััะพ ัะฐะบ. ะะพ, ะฟะพั
ะพะถะต, ะฝะฐััะพััะตะต ะฟะพัะปะฐะฝะธะต ะฟัะตะดะฝะฐะทะฝะฐัะฐะปะพัั ะธะผะตะฝะฝะพ ะตะน.
โ ะั ะธ ััะพ ัะฐะผ? ะะพะบะฐะทัะฒะฐะน ัะถะต! ะขั ะฒะตะดั ะฒัะต ะฟะตัะตะฟะธัะฐะปะฐ? ะะธััะผะพ ั ัะพะฑะพะน?
โ ะะพะฝะตัะฝะพ! ะฏ ะดะฐะถะต ะทะฝะฐะบะธ ะฟัะตะฟะธะฝะฐะฝะธั ัะฐัััะฐะฒะธะปะฐ. ะัะฐะฒะดะฐ, ะฝะฐ ัะฒะพะต ััะผะพััะตะฝะธะต.
ะะปั ะดะพััะฐะปะฐ ะธะท ััะผะบะธ ัะผัััะน ะปะธัั, ะธัะฟะธัะฐะฝะฝัะน ัะฐะทะผะฐัะธัััะผ ะฟะพัะตัะบะพะผ. ะะฝะฐ ัะฒะฝะพ ัะพัะพะฟะธะปะฐัั, ะบะพะณะดะฐ ะฟะธัะฐะปะฐ. ะะตัั ะฒะทัะป ะปะธัั ะธ ะฟัะธะฝัะปัั ัะธัะฐัั ะฒัะปัั
:
ยซะัะธะฒะตั, ะดะพัะบะฐ. ะขั ะฟะพะฝัะปะฐ ะผะพะน ัะธัั. ะฏ ะฒ ัะตะฑะต ะฝะต ัะพะผะฝะตะฒะฐะปัั. ะัะพััะธ, ะฟัะธัะปะพัั ัะบััะฒะฐัั ะฟัะฐะฒะดั. ะขะฐะบ ะฝัะถะฝะพ. ะะพั ัะตัััะฐ ััะฐะปะฐ ัะตะฑะต ะผะฐัะตััั. ะฏ ะฒัะตะณะดะฐ ะฑัะป ััะดะพะผ. ะฏ ะทะฝะฐั, ัั ะปัะฑะธัั ะผะตะฝัยป.
ะะฝ ะตัะต ัะฐะท ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะปั ะธ ัะตะฟะตัั ะดะฐะถะต ัะปะพะฒะธะป ัั
ะพะดััะฒะพ โ ะตะต ะธ ะพััะฐ. ะ ัะฝะพะฒะฐ ะตะผั ัะดะตะปะฐะปะพัั ะณััััะฝะพ:
โ ะขัั ะบะฐะบ-ัะพ ัะปะธัะบะพะผ ะปะธัะฝะพ. ะงะธัะฐัั?
โ ะะธัะฝะพะต ะทะฐะบะพะฝัะธะปะพัั. ะงะธัะฐะน ะดะฐะฒะฐะน.
ะะตัั ะฟัะพะดะพะปะถะธะป:
ยซะกะพ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ัั ะฒัะต ะฟะพะนะผะตัั. ะฏ ะฟะพะทะฐะฑะพัะธะปัั ะพะฑ ััะพะผ. ะกะตะนัะฐั ัั ะดะพะปะถะฝะฐ ะทะฝะฐัั, ั ะทะฐะฒะตัะฐั ัะตะฑะต ะพะณัะพะผะฝะพะต ัะพััะพัะฝะธะต. ะัะต ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ ัะดะตะปะฐะน. ะกะบะพัะพ ะฑัะดัั ัะฝะพัะธัั ะดะพะผะฐยป.
โ ะขะฐะบ ะพะฝ ะทะฝะฐะป? โ ะะตัั ะพัะปะพะถะธะป ะฟะธััะผะพ. โ ะะฝะฐะปโฆ ะธ ะฟะพััะพะผั ะพััะฐะฒะธะป ะผะฝะต ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ! ะะฝะฐัะธัโฆ
ะะตัั ะทะฐะผะพะปัะฐะป ะธ ัะฝะพะฒะฐ ะฒะทัะปัั ะทะฐ ะฟะธััะผะพ. ะะฝ ัะพะฒะฝัะผ ััะตัะพะผ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐะป ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธะปะพ, ะฝะพ ะตะผั ััะฐะปะพ ััะฝะพ: ะพัะตั ะฑัะป ะฒ ะบัััะต ะณััะดััะธั
ะฟะตัะตะผะตะฝ ะธ ะฟะพะดัะผะฐะป ะพ ะฝะตะผ! ะ ัะพะผ, ััะพะฑั ะตะผั ะฑัะปะพ ั
ะพัะพัะพ. ะะฝ ัะฝะพะฒะฐ ััะฐะป ัะธัะฐัั, ะฝะพ ัะถะต ะฝะต ะฒัะปัั
.
ยซะะธ ะฒ ัะตะผ ะฝะต ััะฐััะฒัะน. ะขะพะปัะบะพ ัะปััะฐะน ะธ ะผะพะปัะธ. ะะปะฐะด ั ะผะตะฝั. ะััะฐะปัะฝัะต โ ะฟัััั ะธััั. ะะปัั โ ะฟะพะด ะทะตะผะปะตะน. ะะปัะฑะธะฝะฐ ะฟะพะปัะพัะฐ ะผะตััะฐ. ะั ะดัะฑะฐ ะผะตัั ะฝะฐ ัะณ. ะะต ะทะฝะฐะตั ะฝะธะบัะพ. ะะฐัะตัะธ ะฝะต ะณะพะฒะพัะธ. ะะธะบะพะผั. ะะพัะพะผ ัะตะทะถะฐะน ะธะท ัััะฐะฝั. ะะฐะฒัะตะณะดะฐ. ะะปั, ะปัะฑะปั ัะตะฑั. ะะฐะฟะฐยป.
โ ะะฐะฟะฐ, โ ะฟะพะฒัะพัะธะป ะะตัั ะฒัะปัั
. โ ะะฐะฟะฐ.
โ ะะฐ! ะฃััะดะธะป ะฝะฐั ะฟะฐะฟะฐ! โ ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ะะปั.
โ ะกะปััะฐะน, ะฐ ััะพ ััะพ ะทะฐ ะดัะฑ? ะะฐั, ััะพ ะปะธ?
โ ะั ะดะฐ, ะพะฝ ััั ะพะดะธะฝ ัะฐะบะพะน. ะั ั ะดัะดะตะน ะะธโฆ ั ะฟะฐะฟะพะนโฆ ัะฐััะพ ะบ ะฝะตะผั ะฟัะธั
ะพะดะธะปะธ. ะัะพััะพ ะบะพะณะดะฐ ะณัะปัะปะธ. ะั ะฟัะฐะฒะดะฐ ะผะฝะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฟัะพะฒะพะดะธะปะธ ะฒะผะตััะต. ะฏ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณัโฆ ะะพัะตะผั?
โ ะะพัะพะผ ะพะฑััะดะธะผ ะพััะฐ. ะกะตะนัะฐั ะฝะฐะดะพ ะตั
ะฐัั.
โ ะัะดะฐ?
โ ะะพะฝะตัะฝะพ, ะบ ะดัะฑั!
โ ะขะฐะบ ะดะตะฝั ะฒะตะดั! ะัะดะธ ะบััะณะพะผ!
โ ะัะผะพััะธะผ ัะตััะธัะพัะธั. ะฏ ะถะต ะฝะต ะบะพะฟะฐัั ัะตะฑะต ะฟัะตะดะปะฐะณะฐั! ะะฐะดะพ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ะฟัะธะณะปัะดะตัััั.
ะะปั ะฝะฐะถะฐะปะฐ ะฝะฐ ะฟะตะดะฐะปั, ะธ ะตะต ะฑะตะปะฐั ะบัะพััะพะฒะบะฐ ัะธั
ะพ ัะบัะธะฟะฝัะปะฐ.
ะะฝะธ ะตั
ะฐะปะธ ะฒ ะฟะพะปะฝะพะน ัะธัะธะฝะต. ะะฐะถะต ัะฐะดะธะพ ะฝะต ะฒะบะปััะธะปะธ. ะะตัั ะดัะผะฐะป, ััะพ ะตะผั ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะถะฐะปั ััะพั ัะธั
ะธะน ัะณะพะปะพะบ ะณะพัะพะดะฐ. ะงัะพ ะฑะพะปััะต ะทะดะตัั ะฝะต ะฑัะดะตั ะดะพะผะพะฒ, ะฟะพ ะฒะตัะตัะฐะผ ะฝะต ะฑัะดะตั ะทะฐะถะธะณะฐัััั ัะฒะตั. ะะพะปััะต ะพะฝ ะฝะต ะฑัะดะตั ัะฟะตัะธัั ะฟะพ ะทะฝะฐะบะพะผะพะน ะดะพัะพะณะต ะฒ ัะบะพะปั. ะ ััะฐ ะดะพัะพะณะฐ ะทะฐะฑัะดะตั ะตะณะพ ัะฐะณะธ. ะะตัะถะตะปะธ ะฒัะต ะธะท-ะทะฐ ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะบะปะฐะดะฐ? ะะปะธ ะธะท-ะทะฐ ััะธั
-ัะพ ะฐะผะฑะธัะธะน? ะะตัะถะตะปะธ ะฝะตั ะฝะธัะตะณะพ, ััะพ ะฑั ะผะพะณะปะพ ะฟะพะผะตัะฐัั ะปัะดัะผ ะผััะธัั ะดััะณะธั
ะปัะดะตะน?
ะะฐัะธะฝะฐ ัะตะทะบะพ ะทะฐัะพัะผะพะทะธะปะฐ.
โ ะะปั, ัะผะพััะธ! ะขะฐะผ ััะพ-ัะพ ะฟัะพะธะทะพัะปะพ!
ะะฝะธ ะฟะพะดัะตั
ะฐะปะธ ะบ ะพะฑะพัะธะฝะต, ะฒััะปะธ ะธ ะฝะฐะฟัะฐะฒะธะปะธัั ะบ ะดัะฑั โ ะธะผะตะฝะฝะพ ัะฐะผ ัะพะปะฟะธะปะธัั ะปัะดะธ. ะัะพั
ะพะถะธะต ะฟะพะดั
ะพะดะธะปะธ, ัะผะพััะตะปะธ ะบัะดะฐ-ัะพ ะฒะฝะธะท, ะบะฐัะฐะปะธ ะณะพะปะพะฒะฐะผะธ, ะฝะตะดะพะฒะพะปัะฝะพ ัะพะบะฐะปะธ.
โ ะงัะพ? ะงัะพ ััั ัะปััะธะปะพัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั ะฟะพะถะธะปะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ั ัะพะฑะฐะบะพะน.
โ ะะฐ ะฟัะธะดััะพะบ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฟะพะฒะตัะธะป ะฝะฐ ะดะตัะตะฒะพ ะผะฐะฝะตะบะตะฝ! ะขัั ัะถะต ะธ ะฟะพะปะธัะธั ะฒัะทะฒะฐะปะธ, ะฟะพะดัะผะฐะปะธ โ ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ะถะตะฝัะธะฝะฐ ัะฐะผ! ะะดะธะพั! โ ะฟัะพัััะฐะป ัะตะปะพะฒะตะบ ั ัะพะฑะฐะบะพะน, ะฒะทะณะปัะฝัะป ะฝะฐ ะะปั, ั
ะผัะบะฝัะป ะธ ััะตะป, ะฝะตะดะพะฒะพะปัะฝัะน ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะฒัะตะผ ะฝะฐ ัะฒะตัะต, ะบัะพะผะต ัะพะณะพ, ััะพ ะถะธะฒะตั ะฒ ะดะพะผะต, ะธะท ะพะบะพะฝ ะบะพัะพัะพะณะพ ะฝะต ะฒะธะดะฝะพ ะฝะธ ะพะดะฝะพะณะพ ะดะตัะตะฒะฐ.
โ ะะธะดะตะป, ะบะฐะบ ะพะฝ ะฝะฐ ะผะตะฝั ะฟะพัะผะพััะตะป? ะะฐะบ ะฟัะธะทัะฐะบะฐ ัะฒะธะดะตะป!
โ ะะณะฐ! ะ ะฒะพะฝ ะฑะฐะฑะบะฐโฆ ะัะปะธััั ัััะฐัะฝะพ!
ะะตัั ะธ ะะปั ะฟะพะดะพัะปะธ ะบ ะดัะฑั ะธ ะฝะฐ ะทะตะผะปะต, ั ะบะพัะฝะตะน ัะฒะธะดะตะปะธ ะพะณัะพะผะฝัั ะบัะบะปั ะฒ ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะธะน ัะพัั. ะ ัะพะทะพะฒะพะผ ะฟะปะฐััะต ะธ ะพะดะฝะพะน ะฑะตะปะพะน ะบัะพััะพะฒะบะต โ ะฒัะพัะฐั ะฒะฐะปัะปะฐัั ััั ะถะต โ ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะฟะพั
ะพะถะฐ ะฝะฐ ะะปั ะบะฐะบ ะดะฒะต ะบะฐะฟะปะธ ะฒะพะดั. ะัะบะปะฐ ะปะตะถะฐะปะฐ ะฑะตัะฟะพะผะพัะฝะพ ะธ ะณััััะฝะพ.
ะะปะฐะฒะฐ 11. ะกะตัะณะตะน ะัะบััะฝะตะฝะบะพ. ะะปะพะดั ะฟัะพัะฒะตัะตะฝะธั


ะัะฑัะฐะฒัะธัั ะธะท ะผะฐัะธะฝั, ะัะฑะพัะบะธะน ะฑัะพัะธะปัั ะบ ะะธะทะต.
ะะฐะบ ะตะผั ัะดะฐะปะพัั ะฒััะบะพะปัะทะฝััั ะธะท ััะฐัะพะณะพ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะพะณะพ ยซะคะพัะดะฐยป, ะพะฝ ะฒ ะพะฑัะธั
ัะตััะฐั
ะฟะพะฝะธะผะฐะป. ะะตัะฟะพะบะพะธะปัั ะปะธัั ะพ ัะพะผ, ััะพ ััะฟะตะปะฐ ะฝะฐะฟะธัะฐัั ะะธะทะฐ ะธ ะฟะพะทะฐะฑะพัะธะปะฐัั ะปะธ ะพ ัะตะฑะต.
ะ ะผะฐัะธะฝะต, ะณะดะต ะดะฒะพะต ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธั
, ัะฐะบะธั
ะถะต ะบะฐัะธะบะฐัััะฝะพ-ะฝะตะฝะฐััะพััะธั
, ะบะฐะบ ะธ ัั
ะฒะฐัะธะฒัะธะต ะตะณะพ, ัะพะปัะบะพ ััะธ ะฑัะปะธ ะฝะต ัะพะปัััะน ะธ ะตัั ัะพะปัะต, ะฐ ั
ัะดะพะน ะธ ะฑะพะปะตะทะฝะตะฝะฝะพ ัะพัะธะน, ะดะตัะถะฐะปะธ ะะธะทั, ะฟัะพะธัั
ะพะดะธะปะพ ะบะฐะบะพะต-ัะพ ะผะตะปััะตัะตะฝะธะต. ะะปััะฐะปะธ ะฒ ะฒะพะทะดัั
ะต ะะธะทะธะฝั ััะบะธ, ะบัะตะฟะบะพ ัะถะธะผะฐััะธะต ะฑะปะพะบะฝะพั, ั
ัะดะพะน ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะน, ะฟะตัะตะณะฝัะฒัะธัั ั ะฟะตัะตะดะฝะตะณะพ ัะธะดะตะฝัั, ัะฒะฐะป ะปะธััั ะธะท ััะบ ะดะตะฒะพัะบะธ, ะฐ ะดะพั
ะพะดัะณะฐ ะทะฐ ััะปัะผ ัะพะปัะบะพ ะฒะตัะตัะฐะป, ะดะตัะถะฐัั ะทะฐ ะพัะฐัะฐะฟะฐะฝะฝะพะต ะปะธัะพ.
ะะฝะดัะตะน ัะฒะฐะฝัะป ะดะฒะตัั ะผะฐัะธะฝั โ ััะฐ, ะฝะต ะทะฐะฟะตััะฐ! ะ ัะพ ะฒัะตะณะพ ะผะฐั
ั ะฒะปะตะฟะธะป ั
ัะดะพะผั ะฟะพะปะธัะตะนัะบะพะผั ะฟะพ ะณะพะปะพะฒะต. ะขะพั ััะฐะทั ะพัะฟัััะธะป ะะธะทั ะธ ะฒััะฝัะปัั ะพะฑัะฐัะฝะพ ะฝะฐ ะฟะตัะตะดะฝะตะต ัะธะดะตะฝัะต, ัะปะพะฒะฝะพ ะดะพะถะดะตะฒะพะน ัะตัะฒัะบ ะฒะพ ะฒะปะฐะถะฝัั ะทะตะผะปั.
— ะะธะทะฐ! โ ะะฝะดัะตะน ััะฒะบะพะผ ะฒัะดะตัะฝัะป ะตะต ะธะท ะผะฐัะธะฝั ะฒะผะตััะต ั ะฑะปะพะบะฝะพัะพะผ. ะะตะฒะพัะบะฐ ะตัั ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะฐ ะฟะพ ะธะฝะตััะธะธ ะพัะฑะธะฒะฐัััั, ะธ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะฝัะป, ััะพ ั ะฝะตั ะทะฐะบัััั ะณะปะฐะทะฐ. ะัะตะผะตะฝะธ ะฟัะธะฒะพะดะธัั ะฟะพะดััะณั ะฒ ััะฒััะฒะพ ะฝะต ะฑัะปะพ โ ะพะฝ ะพะฑะฝัะป ะตั, ะฟะพะดั
ะฒะฐัะธะป ะฝะฐ ััะบะธ (ะบะฐะบ ะฒัั-ัะฐะบะธ ั
ะพัะพัะพ, ััะพ ะพะฝ ัะฐะบะพะน ะฑะพะปััะพะน, ะฐ ะพะฝะฐ ัะฐะบะฐั ะผะตะปะบะฐั, ะบะพะผะฟะฐะบัะฝะฐั) ะธ ะฟะพะฑะตะถะฐะป ะฟะพ ะฟะตัะตัะปะบั.
ะะฐะบะฐัะฐะฝะฝัะต ะณะพะดะฐะผะธ ััะตะฝะธัะพะฒะพะบ ะธ ัะตะผัั ะฟะพะบะพะปะตะฝะธัะผะธ ะฟัะตะดะบะพะฒ-ัะธะทะบัะปััััะฝะธะบะพะฒ ะผัััั ะฝะต ะฟะพะดะฒะตะปะธ. ะฅะพัะพัะธะต ะณะตะฝั, ััะตัะดะฝัะต ััะตะฝะธัะพะฒะบะธ ะธ ะฟัะพัะตะธะฝะพะฒัะต ะบะพะบัะตะนะปะธ ะฟะพะทะฒะพะปะธะปะธ ะัะฑะพัะบะพะผั ัะผัะฐัััั ะพั ะดัะฑะฐ ะธ ะฟะพะฒะตัะถะตะฝะฝะพะณะพ ะผะฐะฝะตะบะตะฝะฐ ัะฐะบ ะปะตะณะบะพ, ัะปะพะฒะฝะพ ะพะฝ ะฑัะป ะณะตัะพะตะผ ะบะพะผะธะบัะพะฒ. ะะธัั ะผะตะปัะบะฝัะปะพ ะพะฑะฐะปะดะตะฒัะตะต ะปะธัะพ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ, ััะดะพะผ ั ะะตััะพะผ ััะพัะปะฐ ะะปั, ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะพัััั
ะธะฒะฐััะฐั ะปะฐะดะพะฝะธ. ะ ะฒัั โ ะฑัะป ะัะฑะพัะบะธะน ั ะะตะนะฝะตะฝ, ะธ ะฝะตั ะตะณะพ, ะปะธัั ะฐัะพะผะฐั ะฟะตะฝั ะดะปั ะฒะฐะฝะฝั ยซะะดะฐะผ ะธ ะะฒะฐยป ะพััะฐะปัั ะฒ ะฒะพะทะดัั
ะต.
ะะตัะบะพะปัะบะพ ัะตะบัะฝะด ะฒะพะบััะณ ะดัะฑะฐ ัะฐัะธะปะฐ ะผัััะฒะฐั ัะธัะธะฝะฐ.
ะะพัะพะผ ะะตัั ัั
ะฒะฐัะธะป ะะปั ะทะฐ ััะบั, ะฒัั ะตัั ะธัะฟะฐัะบะฐะฝะฝัั ะบะธัะฟะธัะฝะพะน ะบัะพัะบะพะน. ะัะพัะตะฟัะฐะป:
— ะขั ััะพ? ะญัะพ ะถะต ะฟะพะปะธัะธั!
ะะปั ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ัะฐะทะฑะธัะพะต ััะตะบะปะพ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะพะน ะผะฐัะธะฝั, ะณะดะต ะดะฒัะผั ะฒัะปัะผะธ ะณััะดะฐะผะธ ะผััะฐ ะธ ะถะธัะฐ ัะตะฒะตะปะธะปะธัั ะฝะตัะพัะฐะทะผะตัะฝะพ ะบััะฟะฝัะต ะปัะดะธ ะฒ ัะพัะผะต. ะ ัะบะฐะทะฐะปะฐ:
— ะขะฐะบ ะฑัะปะพ ะฝะฐะดะพ. ะะพ ัั ะฟัะฐะฒ, ะดะฐ. ะะพัะฐ ะฒะฐะปะธัั.
ะ ัะฒะพั ะบะฒะฐััะธัั (ะะตัั ะธ ัะฐะผ ะฝะต ะฟะพะฝัะป, ะฒ ะบะฐะบะพะน ะผะพะผะตะฝั ััะฐะป ะปะตะณะบะพ ะธ ะฟัะพััะพ ะดัะผะฐัั ะพ ะฝะตะน ะบะฐะบ ะพ ัะฒะพะตะน, ะฝะฐัะธััะพ ะทะฐะฑัะฒ ะฟัะตะถะฝะตะต ะถะธะปัั, ะดะฐ ะธ ะผะฐะผั, ัะตััะฝะพ ะณะพะฒะพัั) ะพะฝะธ ั ะะปะตะน ะตั
ะฐะปะธ ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะดะพะปะณะพ. ะะพั
ะพัะพัะตะฒัะฐั ะทะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะณะพะดั ะะพัะบะฒะฐ ะฒัะบะฐัะธะปะฐ ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ะฒัะต ะฟัะพะฑะบะธ, ะบะฐะบะธะต ัะพะปัะบะพ ะฝะฐัะปะฐ โ ะธ ะฒ ะฟะตัะตัะปะบะต, ะณะดะต ัะฝะธะผะฐะปะธ ะฐััะฐะปัั ะธ ะบะปะฐะปะธ ะฟะปะธัะบั, ะธ ะฝะฐ ะฑัะปัะฒะฐัะต, ะณะดะต ะผะตะฝัะปะธ ััะฐััั ะฟะปะธัะบั ะฝะฐ ะฝะพะฒัั, ะธ ะฝะฐ ัะปะธัะต, ะณะดะต ัะดะธัะฐะปะธ ะฟะปะธัะบั ะธ ะบะปะฐะปะธ ะฐััะฐะปัั.
ะะพ ะะตัั, ะบะพัะพััะน ะฟะพ ะฟัะธัะธะฝะต ัะฐะบะธั
ะฒะพั ะดะตะป ะฟัะตะดะฟะพัะธัะฐะป ะฟะตัะตะผะตัะฐัััั ะฝะฐ ัะฒะพะธั
ะดะฒะพะธั
, ัะตะนัะฐั ะฑัะป ัะฐะด ะทะฐะดะตัะถะบะต.
— ะขั ัะฒะตัะตะฝะฐ, ะะปั? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ. โ ะงัะพ ะผัโฆ ะฝัโฆ ะฑัะฐั ั ัะตัััะพะน?
— ะะฐ, โ ะฝะต ะธะทะผะตะฝะธะฒัะธัั ะฒ ะปะธัะต, ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะพะฝะฐ.
— ะฏ ะฒะตะดั ะฒ ัะตะฑั ะฑัะป ะฒะปัะฑะปัะฝ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะ ะดะตัััะฒะต. ะะพะผะฝะธัั, ะบะพะณะดะฐ ะตะทะดะธะปะธ ะฒ ะััะผ?
— ะะพะผะฝั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะปัะณะฐ. โ ะขั ะฑัะป ัะผะตัะฝะพะน ะผะฐะปััะธัะบะฐ. ะฏ ะฒะธะดะตะปะฐ, ััะพ ัั ั ะผะตะฝั ะณะปะฐะท ะฝะต ัะฒะพะดะธัั.
— ะะพัะตะผั ั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป, ะตัะปะธ ัั ะผะพั ัะพะดะฝะฐั ัะตัััะฐ?
— ะ ะฟะพัะตะผั ัั ะฝะฐ ะผะตะฝั ะฟัะปะธะปัั, ะตัะปะธ ะทะฝะฐะป, ััะพ ั ะดะฒะพััะพะดะฝะฐั? โ ะพััะตะทะฐะปะฐ ะะปั. โ ะัััะต ัะบะฐะถะธ, ะพััะตะณะพ ััะฐ ะบัะบะปะฐ ะฑัะปะฐ ะฝะฐ ะผะตะฝั ะฟะพั
ะพะถะฐ? ะ ะทะฐัะตะผ ะฟะพะปะธัะธั ัั
ะฒะฐัะธะปะฐ ัะฒะพะธั
ะฟัะธััะตะปะตะน?
ะะตัั ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ:
— ะัััะตัะฝัะน ะฒะพะฟัะพั โ ัั ะทะฐัะตะผ ะฒ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธั
ะบะธัะฟะธัะพะผ ะบะธะฝัะปะฐ?
ะะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ะะปั ะพะฑะดัะผัะฒะฐะปะฐ ะพัะฒะตั. ะ ัะตััะฝะพ ะฟัะธะทะฝะฐะปะฐัั:
— ะญัะพ ะฑัะป ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะธะฝััะธะฝะบัะธะฒะฝัะน, ะฝะธ ะฝะฐ ััะผ ะฝะต ะพัะฝะพะฒะฐะฝะฝัะน ะฟะพัััะฟะพะบ. ะฏ ะฒะดััะณ ะฟะพะฝัะปะฐ, ััะพ ะดะพะปะถะฝะฐ ััะพ ัะดะตะปะฐัั.
— ะงัะพ-ัะพ ะพัะตะฝั ะผะฝะพะณะพ ััะฐะปะพ ะฒะพะบััะณ ะฝะธัะตะผ ะฝะต ะพะฑะพัะฝะพะฒะฐะฝะฝัั
ะฟะพัััะฟะบะพะฒ, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ะะตัั.
ะะฐะปััะต ะตั
ะฐะปะธ ะผะพะปัะฐ.
ะ ะฟะพะดัะตะทะดะต ะบะพะฝััะตัะถ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฝะธั
ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะพัะพะฑะตะฝะฝัะผ ะฒะทะณะปัะดะพะผ. ะ, ะพัะบััะฒะฐั ะดะฒะตัั ััะฐัะธะฝะฝะพะณะพ ะปะธััะฐ, ะฟัะพะธะทะฝัั:
— ะะฐัะธ ะดััะทัั ัะพะปัะบะพ ััะพ ะฟะพะดะฝัะปะธัั.
ะะตัั ะธ ะะปัะณะฐ ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปะธัั. ะะพัะตะผั-ัะพ ะดะฐะถะต ัะพะผะฝะตะฝะธะน ะฝะต ะฒะพะทะฝะธะบะปะพ, ะบัะพ ััะฟะตะป ะธั
ะพะฟะตัะตะดะธัั. ะะท ะปะธััะฐ ะพะฝะธ ะบะธะฝัะปะธัั ะบ ะดะฒะตัะธ, ะตะดะฒะฐ ะฝะต ะพััะฐะปะบะธะฒะฐั ะดััะณ ะดััะณะฐ, ะะตัั ะดะพััะฐะป ะบะปััะธ, ะฝะพ ะดะฒะตัั ะฑัะปะฐ ะฝะต ะทะฐะฟะตััะฐ.
ะ ะฒ ะบะฒะฐััะธัะต ัะฐัะธะป ะฟะพะปะฝัะน ัะฐะทะณัะพะผ!
ะะฐั
ะปะพ ะดะพะณะพัะตะฒัะธะผะธ ะดัะพะฒะฐะผะธ โ ะบะฐะผะธะฝ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ัะพะฟะธะปะธ. ะะพะฒััะดั ะฒะฐะปัะปะธัั ะฒะปะฐะถะฝัะต ะฟะพะปะพัะตะฝัะฐ, ะบัะพ-ัะพ ัะฒะฝะพ ะฒัะพัะพะฟัั
ะฒััะธัะฐะปัั ะธ ะฝะต ะพะทะฐะฑะพัะธะปัั ะฟะพะฒะตัะธัั ะธั
ะฝะฐ ัััะธะปะบั. ะกะปะฐะดะบะธะน ะฐัะพะผะฐั ะฟะตะฝั ะดะปั ะฒะฐะฝะฝั ัะตะบะพัะฐะป ะฝะพะทะดัะธ.
ะัั ะฟะฐั
ะปะพ ะบะพะฝััะบะพะผ, ะธ ะฒัััะพะตะฝะฝัะน ะฒ ะดัะฑะพะฒัะน ะฑััะตั ะฑะฐั ะฑัะป ะพัะบััั.
ะัะฑะพัะบะธะน ัะธะดะตะป ะฝะฐ ะบัะฐั ะฟะพััััะพะณะพ ะบะพะถะฐะฝะพะณะพ ะดะธะฒะฐะฝะฐ ะธ ะฟััะฐะปัั ะฒะปะธัั ะฒ ัะพั ะะตะนะฝะตะฝ ะบะพะฝััะบ ะธะท ะบะพัะตะนะฝะพะน ัะฐัะตัะบะธ. ะะธะทะฐ ะปะตะถะฐะปะฐ ั ะทะฐะบััััะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ะผัััะฒะพะน ั
ะฒะฐัะบะพะน ัะถะธะผะฐั ะฑะปะพะบะฝะพั ั ะะพะฝัะบะพะผ-ะะพัะฑัะฝะบะพะผ.
— ะะฐะปััะธะบ, ะฒั ะดะฐะฒะฝะพ ะฟัััะต ะบะพะฝััะบ ะฟะพ ัััะฐะผ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะปัะณะฐ ัััะพะฒะพ.
— ะฃ ะฝะตั ัะพะบ, โ ะฝะธัััั ะฝะต ัะดะธะฒะธะฒัะธัั ะธ ะฝะต ัะผััะธะฒัะธัั ะธั
ะฟะพัะฒะปะตะฝะธั, ะพัะฒะตัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะฏ ัะปััะฐะป, ััะพ ะบะพะฝััะบ ะฝะฐะดะพ ะดะฐัั.
— ะะพ ะผะพะทะณะฐะผ ะฒะฐะผ ะฝะฐะดะพ ะฝะฐะดะฐะฒะฐัั! โ ะะปัะณะฐ ะพัะพะฑัะฐะปะฐ ั ะฝะตะณะพ ัะฐัะตัะบั, ะฟะพะฝัั
ะฐะปะฐ, ัะดะธะฒะปัะฝะฝะพ ะบะฐัะฝัะปะฐ ะณะพะปะพะฒะพะน ะธ ะทะฐะปะฟะพะผ ะฒัะฟะธะปะฐ ะบะพะฝััะบ. โ ะะธัะตะณะพ ัะตะฑะตโฆ ะฝะตะบัะฐัโฆ ะขะฐัะธ ะผะพะบัะพะต ะฟะพะปะพัะตะฝัะต! ะขะพะปัะบะพ ะฒัะถะผะธ! ะ ะปัะด!
— ะ ัะฐะผะฟะฐะฝัะบะพะต, โ ะผัะฐัะฝะพ ัะพัััะธะป ะะตัั. โ ะงัะพ ั ะฝะตะน? ะะพะปะธัะตะนัะบะธั
ะธัะฟัะณะฐะปะฐัั?
ะะตัะฝัะฒัะธะนัั ะฑัะปะพ ะฝะฐ ะบัั
ะฝั ะัะฑะพัะบะธะน ะพััะฐะฝะพะฒะธะปัั ะธ ะฟัะพะดะตะผะพะฝัััะธัะพะฒะฐะป ัะธะฝัะบะธ ะฝะฐ ััะบะฐั
.
— ะะพะปะธัะตะนัะบะธั
? ะะธะดะฐะป, ััะพะฑั ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะต ั
ะฒะฐัะฐะปะธ ะฝะตัะพะฒะตััะตะฝะฝะพะปะตัะฝะธั
, ะฑะธะปะธ ะดัะฑะธะฝะบะฐะผะธ ะธ ะบะธะดะฐะปะธ ะฒ ะผะฐัะธะฝั?
— ะัโฆ โ ะะตัั ะทะฐะฟะฝัะปัั. โ ะัะปะธ ะฟะพะดัะผะฐััโฆ ะั ััะพ, ะดัะฐัััั ั ะฝะธะผะธ ะฝะฐัะฐะปะธ? ะะปะธ ัะฑะตะณะฐะปะธ?
ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะบัััะธะป ะฟะฐะปััะตะผ ั ะฒะธัะบะฐ ะธ ัััะป ะฝะฐ ะบัั
ะฝั. ะะฐััะผะตะปะฐ ะฒะพะดะฐ ะฒ ะบัะฐะฝะต.
— ะะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ัััะฐะฝะฝะพ, โ ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะปั. โ ะะตะท ะฒััะบะพะณะพ ะฟะพะฒะพะดะฐ, ะฝะธ ะฝะฐ ะทะฐะฟัะตััะฝะฝะพะผ ะผะธัะธะฝะณะต, ะฝะธ ะฟัะธ ัะพะฟัะพัะธะฒะปะตะฝะธะธโฆ ะ ัะตะฝััะต ะณะพัะพะดะฐ, ะฝะฐ ะณะปะฐะทะฐั
ั ะปัะดะตะนโฆ ะะทะฑะธะฒะฐัั ะดะฒัั
ัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ ะดัะฑะธะฝะบะฐะผะธ? ะะฐ ะธั
ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะต ะฝะฐัะฐะปัััะฒะพ ัะพะถััั ะธ ะฒัะฟะปัะฝะตั, ะฝะธะบะพะผั ัะฐะบะธะต ะฝะพะฒะพััะธ ะฝะต ะฝัะถะฝั! ะ ัะพะผั ะถะต ะฟะตัะตะด ะฒัะฑะพัะฐะผะธ.
— ะ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะต ะบะฐะบะธะต-ัะพ ัััะฐะฝะฝัะต, โ ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะะฒะฐ ะฐะผะฑะฐะปะฐ ะธ ะดะฒะฐ ะบะฐัะตั. ะฅะพัั ะฒ ะบะพะผะตะดะธะธ ัะฝะธะผะฐะน.
ะะตัะฝัะปัั ะัะฑะพัะบะธะน ั ะฟะฐะบะตัะพะผ ะปัะดะฐ ะธ ะฟะพะปะพัะตะฝัะตะผ, ั ะบะพัะพัะพะณะพ ะบะฐะฟะฐะปะฐ ะฒะพะดะฐ. ะะปั ะฒะทะดะพั
ะฝัะปะฐ, ะฒัะถะฐะปะฐ ะฟะพะปะพัะตะฝัะต ะฟััะผะพ ะฝะฐ ะฟะพะป ะธ ะฟะพะปะพะถะธะปะฐ ะตะณะพ ะะธะทะต ะฝะฐ ะปะพะฑ.
— ะะพะปะธัั, ะัะฑะพะบ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั, ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะฒัะฟะพะผะฝะธะฒ ะดะตััะบะพะต ะฟัะพะทะฒะธัะต ะะฝะดัะตั (ะบะพะณะดะฐ ะฒ ััะตััะตะผ ะบะปะฐััะต ัะพั ัะตะทะบะพ ะฟะพััะป ะฒ ัะพัั, ะพะฝะพ ะฑััััะพ ะฑัะปะพ ะทะฐะฑััะพ). โ ะขั ััะพ-ัะพ ะทะฝะฐะตัั ะธ ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั ะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดััะตะผ. ะ ัั ะผะฝะต ะพะฑัะทะฐะฝ.
— ะะฐ ััะพ? โ ัะดะธะฒะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน.
— ะะฐ ั
ะพัั ะฑั ะทะฐ ััะพั ะฑะฐัะดะฐะบ! โ ะฒะพะทะผััะธะปัั ะะตัั. โ ะขั ะฒะทัะป ะทะฐะฟะฐัะฝัะต ะบะปััะธ ะธะท ััะพะปะฐ? ะะตะท ัะฟัะพัะฐ? ะขะตะฑะต ะฝะต ะบะฐะถะตััั, ะัะฑะพะบ, ััะพ ััะพ ัะฒะธะฝััะฒะพ?
— ะฏ โ ะะฝะดัะตะน, โ ะฒัะปะพ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. ะะฝ ะธ ะฒะฟััะผั ัะผััะธะปัั. โ ะ ั ะฒัั ัะฑะตัั. ะ ะฟะพััะธัะฐั.
— ะัะฐัะฐะฒะฐ, โ ะะตัั ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะะฝะดัะตะน ะธ ะฒะฟััะผั ััะฒััะฒัะตั ัะฒะพั ะฒะธะฝั ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ะดะฐะฒะธัั. โ ะ ัะพ, ััะพ ะผั ัะบััะฒะฐะตะผ ะฑะตะณะปัั
ะฟัะตัััะฟะฝะธะบะพะฒ? ะะฐ ััะพ ะฝะต ะพะฑัะทะฐะฝ?
— ะฅะพัะพัะพ, ั
ะพัะพัะพ, โ ะัะฑะพัะบะธะน ะฒะทะผะฐั
ะฝัะป ััะบะพะน, ัะปะพะฒะฝะพ ััะฑั ะฝะตะฒะธะดะธะผัั ััะตะฝะบั. โ ะะฐะบ ะะธะทะบะฐ?
— ะะฐ ะฒัั ั ะฝะตะน ะฑัะดะตั ะฒ ะฟะพััะดะบะต, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะปัะณะฐ. ะะพะฟััะฐะปะฐัั ะฒัะฝััั ะธะท ััะบ ะดะตะฒะพัะบะธ ะฑะปะพะบะฝะพั. โ ะะฐะดะตััั. ะะน ะฟะพัะฟะฐัั ะฑั ะฝะฐะดะพโฆ
ะะฝะฐ ัะบะปะพะฝะธะปะฐ ะณะพะปะพะฒั ะฝะฐะฑะพะบ ะธ ั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝัะผ ัะผะธะปะตะฝะธะตะผ ัะบะฐะทะฐะปะฐ:
— ะะตะดะฝะฐั ะะธะทะฐ. ะกะพะฒัะตะผ ะผะฐะปััะบะฐ. ะกะพะฟะธั ัะตะฑะต ะบะฐะบโฆ ะบะฐะบ ะฑะพะฑััะฝะพะบโฆ ะขั ะดะฐะฒะฐะน, ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะน. ะฏ ะตั ะทะฐ ััะบั ะฟะพะดะตัะถั, ะตะน ัะฐะบ ัะฒะฝะพ ัะฟะพะบะพะนะฝะตะต.
ะัะฑะพัะบะธะน ะณะปัะฑะพะบะพ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป.
— ะะตััโฆ ะะปัโฆ ะ ะพะฑัะตะผ, ััะพ ั ะฒะพ ะฒััะผ ะฒะธะฝะพะฒะฐั. ะั ะธ ะะธะทะฐ, ะฝะตะผะฝะพะณะพ. ะะพ ะพะฝะฐ ะฑั ะฝะธัะตะณะพ, ะตัะปะธ ะฑั ั ะตั ะฝะต ะฟะพะดะฝะฐัะธะฒะฐะปโฆ ะฏ ะฒะธะฝะพะฒะฐั.
— ะ ััะผ? โ ะะตัั ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะป ะธ ะฟัะธะฝัะปัั ัะพะฑะธัะฐัั ะฟะพะปะพัะตะฝัะฐ ะธ ะฒะตัะธ ั ะฟะพะปะฐ, ะฑัะตะทะณะปะธะฒะพ ะฟะพะดะฝะธะผะฐั ะธั
ะดะฒัะผั ะฟะฐะปััะฐะผะธ.
— ะะพ ะฒััะผ! ะะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะะธะทะฐโฆ ะพะฝะฐ, ะฝัโฆ โ ะะฝะดัะตะน ะฒะทะดะพั
ะฝัะป. โ ะะพะผะฝะธัั, ะะตัั, ะบะฐะบ ะผั ั ะฝะตะน ะฟะพะดััะถะธะปะธัั?
— ะขะฒะพั ะฟะพะดััะณะฐ โ ัั ะธ ะฟะพะผะฝะธ. ะั ั ะฟะตัะฒะพะณะพ ะบะปะฐััะฐ ะฒะผะตััะต.
— ะะตั, ะฒ ะฟะตัะฒะพะผ ะบะปะฐััะต ั ะฝะฐ ะฝะตั ะธ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั ะฝะต ะพะฑัะฐัะฐะป, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะฝะต ะกะพะฝั ะฝัะฐะฒะธะปะฐัั. ะ ะัะปั ะฝะตะผะฝะพะถะบะพ, ะพะฝะฐ ะบัะฐัะธะฒะฐั. ะ ัััะพัะบั ะะฐัะฐัะบะฐ.
— ะะฐ ัั ั ะฝะฐั ะะฐะทะฐะฝะพะฒะฐโฆ โ ะฑัะพัะธะปะฐ ะะปั.
— ะ ะฒะพ ะฒัะพัะพะผ ะบะปะฐััะต ั ะฒะดััะณ ะฒ ะะธะทั ะฒะปัะฑะธะปัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะ ะฐะทะพะผ. ะกะธะถั, ัะผะพััั, ะบะฐะบ ะพะฝะฐ ััะพ-ัะพ ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพัะต ะบะฐะปัะบะฐะตั. ะ ะฒะดััะณ ะฟะพะฝะธะผะฐั, ััะพ ะฝะต ะผะพะณั ะณะปะฐะท ะพัะฒะตััะธ. ะะฐ ะฟะตัะตะผะตะฝะต ะฟะพะดะพััะป ะธ ะณะพะฒะพัั: ยซะะฐะฒะฐะน ั ัะพะฑะพะน ะดััะถะธัั!ยป ะะธะทะฐ ะณะปะฐะทะฐ ะพะฟัััะธะปะฐ ะธ ัะตะฟัะตั: ยซะะฐะฒะฐะนยป.
— ะะฐ, ะฒัะฟะพะผะฝะธะป! โ ะพะถะธะฒะธะปัั ะะตัั. โ ะั ะถะต ะฒะฐั ะดัะฐะทะฝะธะปะธ ะฟะพะปะณะพะดะฐ!
— ะั ะฒะพัโฆ ะพะฝะฐ ัะถะต ะฟะพัะพะผ ะผะฝะต ัะบะฐะทะฐะปะฐ. ะ ะฟััะพะผ ะบะปะฐััะต, โ ะะฝะดัะตะน ะฒะทะดะพั
ะฝัะป. โ ะะฝะต ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ัะดะฐะฒะฐะปะพัั ััะฐะฟะตัะธั ะฝะฐะบะฐัะฐัั. ะะฝะฐ ัะทะฝะฐะปะฐ ะธ ะณะพะฒะพัะธั: ยซะฏ ะฟะพะผะพะณัยป. ะะทัะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพั ะธ ะฝะฐะฟะธัะฐะปะฐโฆ ะฝั ะฒัะพะดะต ัะฐััะบะฐะท ัะฐะบะพะนโฆ ะบะฐะบ ั ะปะตะณะบะพ ะฝะฐะบะฐัะฐะปััโฆ ะฏ ะธ ะฝะฐะบะฐัะฐะปัั. ะััััะพ.
— ะะฝะฐ ัะตะฑั ัะฐะบ ั
ะพัะพัะพ ะผะพัะธะฒะธััะตั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะปั.
— ะะฝะฐ ัะฐะบ ะฟะธัะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน ััะฟะพัะพะผ. โ ะฃ ะฝะตั ะดะฐั, ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต? ะัะปะธ ะะธะทะบะฐ ัะตะณะพ-ัะพ ั
ะพัะตั ะธะปะธ ะฒะพ ััะพ-ัะพ ะฒะตัะธั, ัะพ ะตะน ะฝะฐะดะพ ัะพะปัะบะพ ะฝะฐะฟะธัะฐัั ะฟัะพ ััะพ. ะฃะฑะตะดะธัะตะปัะฝะพ ะธ ะปัััะต ะฑะตะท ะพัะธะฑะพะบ. ะขะพะณะดะฐ ััะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั. ะัะปะธ ะฑั ะพะฝะฐ ะถะธะปะฐ ะปะตั ะดะฒะตััะธ ะฝะฐะทะฐะด ะธ ะฟะธัะฐัั ะฝะต ัะผะตะปะฐ โ ะฝะธะบะฐะบะธั
ััะดะตั ะฑั ะฝะต ะฟัะพะธัั
ะพะดะธะปะพ.
ะะฐัััะฟะธะปะฐ ัะธัะธะฝะฐ. ะะธะทะฐ ะฒัั ัะฐะบ ะถะต ะปะตะถะฐะปะฐ ั ะผะพะบััะผ ะฟะพะปะพัะตะฝัะตะผ ะฝะฐ ะปะฑั, ะะปั ัะถะธะผะฐะปะฐ ะตั ะปะฐะดะพะฝั, ะะตัั ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะฝะดัะตั.
ะะฝะดัะตะน, ะฟะพั
ะพะถะธะน ะฝะฐ ัะฝะพะณะพ ะณัะตัะตัะบะพะณะพ ะฑะพะณะฐ, ะฟะพ ะพัะธะฑะบะต ะพะฑะปะฐััะฝะฝะพะณะพ ะฒ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัั ะพะดะตะถะดั, ะฟะพะฝััะพ ััะพัะป ะฒะพะทะปะต ะดะธะฒะฐะฝะฐ.
— ะจััะธัั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะปั. ะะต ะดะพะถะธะดะฐััั ะพัะฒะตัะฐ ะฒะทัะปะฐ ะบะพัะตะนะฝัั ัะฐัะบั ะธ ะดะฒะธะฝัะปะฐัั ะบ ะฑะฐัั. ะััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั ะธ ะฟะพััะฐะฒะธะปะฐ ัะฐัะบั ะฝะฐ ััะพะป. โ ะะตั, ะฟัะฐะฒะดะฐ? ะัั ััะพ ัะณะพะดะฝะพ?
— ะะต ะฒัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะขะพ, ััะพ ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ะฝะต ะฟะพะปััะธััั. ะขั ะฝะต ััะฐะฝะตัั ะฝะตะณัะพะผโฆ
— ะงะตัะฝะพะบะพะถะธะผ, โ ะฟะพะฟัะฐะฒะธะปะฐ ะะปั, ะฟะพะผะพััะธะฒัะธัั.
— โฆะฟะพัะพะผั ััะพ ัั ัะถะต ะฑะตะปัะน, โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะะฝะดัะตะน. โ ะ ะตัะปะธ ััะบะฐะผะธ ะฒะทะผะฐั
ะฝััั, ะฝะต ะฟะพะปะตัะธัั โ ะฒะตะดั ะปัะดะธ ะฝะต ะฟัะธัั. ะ ัะพ, ััะพ ัะถะต ัะปััะธะปะพัั, ะฝะฐะทะฐะด ะฝะต ะฒะตัะฝััั โ ะฟัะพ ัะพ, ััะพ ะผั ัะฑะตะถะฐะปะธ ะพั ะฟะพะปะธัะธะธ, ะะธะทะบะฐ ะฝะฐะฟะธัะฐะปะฐ, ะธ ะฒัั ะฟะพะปััะธะปะพัั, ะฝะพ ัะพะฒัะตะผ ะพัะผะตะฝะธัั ะทะฐะดะตัะถะฐะฝะธะต ะฝะต ัะผะพะณะปะฐโฆ. ะ ะฒะพั ะตัะปะธ ะฟัะธะดัะผะฐัั, ััะพ ะถะตะฝัะธะฝะฐ ะฟะพะฒะตะปะตะฒะฐะตั ะฒะพะดะพะน ะธ ะปะตัะธั ะฒััะบะธะต ะฒะพะดัะฝะบะธ ะธ ะฟัััะธ, ัะพ ััะพ ั
ะพัั ะธ ะณะปัะฟะพ, ะฝะพ ะฟะพะปััะธััั.
— ะขะพ ะตััั ััั ะดะตะปะพ ะฝะต ะฒ ะทะฐะบะพะฝะฐั
ัะธะทะธะบะธ ะธะปะธ ะทะดัะฐะฒะพะผ ัะผััะปะต, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะปั ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ. โ ะ ะฒ ะตั ัะฟะพัะพะฑะฝะพััะธ ะฟะพะฒะตัะธััโฆ
ะะฝะฐ ะฒะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะะธะทะต ะธ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ะฒะทััั ะตั ะฑะปะพะบะฝะพั.
— ะะตะปะพ ะฝะต ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพัะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะตะปะพ ะฒ ะฝะตะน ัะฐะผะพะน.
— ะะฑะธะดะฝะพ, โ ะะปัะณะฐ ะทะฐะดัะผะฐะปะฐัั. โ ะะฐ. ะะพ ะผะฝะต ะบะฐะถะตััั, ั ะฝะฐั ะฟะพัะฒะธะปะธัั ะฟะตััะฟะตะบัะธะฒั!
ะะปะฐะฒะฐ 12. ะะฐะปะตัะธะน ะะพัะบะพะฒ. ะะตะฝั ะทะพะฒัั ะญัะธะบะฐ


ะะฐะผััั ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปะฐัั ััะฐะณะผะตะฝัะฐะผะธ. ะะฑััะฒะบะฐะผะธ, ะฝะต ัะฒัะทะฐะฝะฝัะผะธ ะผะตะถะดั ัะพะฑะพะน ะฝะธ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ, ะฝะธ ะผะตััะพะผ. ะัะฟะปัะปะฐ ัะฐะผะธะปะธั โ ะญัั
ะฐัะด. ะะพะบัะพั ะญัั
ะฐัะด. ะญัะพั ะปะตัะธะป ะตั ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ: ะธะท ัะตะผะฝะพัั ะฟัะพัััะฟะธะปะธ ะตะณะพ ััะบะธ, ัะพะฝะบะธะต, ะฟะพััะธ ะถะตะฝัะบะธะต. ะะฐ ะผะธะทะธะฝัะต ััะฐะปัะฝะพะต ะบะพะปััะพ. ะ ะทะฐะฟะฐั
โ ัััะฐะฝะฝัะน, ั
ะพะปะพะดะฝัะน. ะะพ ัะฐะทะฒะต ะทะฐะฟะฐั
ะผะพะถะตั ะฑััั ั
ะพะปะพะดะฝัะผ? ะะพะฝะตัะฝะพ, ะผะพะถะตั โ ัะฐะบ ะทะธะผะพะน ะฟะฐั
ะฝะตั ะฟัะพะผััะทัะตะต ะถะตะปะตะทะพ.
ะ ะฒะพั ะธ ะณะพะปะพั: ยซะะตะผะปั ะธะผะตะตั ะพะฑะพะปะพัะบั; ะธ ััะฐ ะพะฑะพะปะพัะบะฐ ะฟะพัะฐะถะตะฝะฐ ะฑะพะปะตะทะฝัะผะธ. ะะดะฝะฐ ะธะท ะฝะธั
ะฝะฐะทัะฒะฐะตััั ัะตะปะพะฒะตะบยป.
ะะตั, ััะพ ะฝะต ะดะพะบัะพั, ััะพ ัะบะฐะทะฐะป ะบัะพ-ัะพ ะดััะณะพะน. ะ ะดะพะบัะพั ัะบะฐะทะฐะป ะฒะพั ััะพ: ยซะัะดั ะดะพะฑัะฐ ะบ ะญัะธะบะต. ะญัะพ ะฒ ัะฒะพะธั
ะถะต ะธะฝัะตัะตัะฐั
ยป.
ะะฝั ะพัะบััะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ. ะะฐะฝะฝะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ. ะขัะฟะปัะน ะผัะฐะผะพั ะฟะพะด ัะตะบะพะน. ะะฝะฐ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ะฟะพะดะฝััััั, ะฒััะฐะปะฐ ะฝะฐ ัะตัะฒะตัะตะฝัะบะธ, ะดะพััะฝัะปะฐัั ะดะพ ะบัะฐั ะฒะฐะฝะฝะพะน. ะะพะป ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะบัะดะฐ-ัะพ ะฝััะฝัะป, ะบะพะผะฝะฐัั ะบะฐัะฝัะปะพ, ััะฐะปั ะธ ั
ัะพะผ ะพัะปะตะฟะธัะตะปัะฝะพ ะฑะปะตัะฝัะปะธ. ะะฝั ะทะฐะถะผััะธะปะฐัั. ะะต ะพัะฟััะบะฐั ะบัะฐะน ะฒะฐะฝะฝั, ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฒัะฟััะผะธะปะฐัั.
โ ะะตะฝั ัะตะนัะฐั ะฒััะฒะตัโฆ โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ.
ะะตัะถะฐัั ะทะฐ ััะตะฝั, ะพะฝะฐ ะดะพะฑัะฐะปะฐัั ะดะพ ัะฐะบะพะฒะธะฝั, ะพัะบััะปะฐ ั
ะพะปะพะดะฝัะน ะบัะฐะฝ. ะกัะฝัะปะฐ ะณะพะปะพะฒั ะฟะพะด ััััั. ะงะตะน-ัะพ ะณะพะปะพั, ะถะตะฝัะบะธะน ะธ ัััะพะณะธะน, ะฟัะพะธะทะฝัั:
โ Nabelkรผsser ist tod. [1]
ะะฝั ะพะณะปัะฝัะปะฐัั. ะ ะฒะฐะฝะฝะพะน ะบะพะผะฝะฐัะต ะฝะธะบะพะณะพ ะฝะต ะฑัะปะพ. ะะฝะฐ ะทะฐะบััะปะฐ ะฒะพะดั. ะะดะต-ัะพ ััะดะพะผ ะทะฒัะบะฝัะป ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ. ะะฐ ะฟะพะปั, ััะดะพะผ ั ัะฝะธัะฐะทะพะผ, ะปะตะถะฐะป ะตั ัะตะปะตัะพะฝ. ะะฝั ะพััะพัะพะถะฝะพ ะพะฟัััะธะปะฐัั ะฝะฐ ะบะพะปะตะฝะธ, ะดะพััะฝัะปะฐัั ะดะพ ะผะพะฑะธะปัะฝะพะณะพ. ะะฐ ัะบัะฐะฝะต ะฑัะปะฐ ัะฐ ะถะต ััะฐะทะฐ ยซNabelkรผsser ist todยป. ะงััั ะฝะธะถะต ะบัััะธะปัั ะบััะถะพะบ, ะฟัะพัะตะฝัั ะทะฐะณััะทะบะธ ะดะพะฑะตะถะฐะปะธ ะดะพ ััะฐ, ัะตะปะตัะพะฝ ัะฝะพะฒะฐ ะทะฒัะบะฝัะป ะธ ะฒัะดะฐะป ะฝะฐะดะฟะธัั ยซะะบัะธะฒะฐัะธั ะฟัะพัะปะฐ ััะฟะตัะฝะพยป.
ะะฐ ะผะตััะพ ัะพัะฝะพัั ะฟัะธัะปะฐ ัะปะฐะฑะพััั. ะะฐะถะต ะฝะต ัะปะฐะฑะพััั โ ะฝะตะผะพัั: ะบะพะณะดะฐ ะฝะตั ะฝะธ ัะธะป, ะฝะธ ะฒะพะปะธ ะฟะพัะตะฒะตะปะธัั ะดะฐะถะต ะฟะฐะปััะตะผ. ะกะพััะพัะฝะธะต ะฑัะปะพ ะทะฝะฐะบะพะผะพะต, ัะฐะบ ะพัั
ะพะดะธัั ะพั ะฐะฝะตััะตะทะธะธ. ะขะฐะบ ะฑัะปะพ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ. ะะฝะพะณะพ ัะฐะท. ะะพัะปะต ะพะฟะตัะฐัะธะน. ะกะฟะตัะฒะฐ ะฟะพัะฒะปัะตััั ัะฒะตั โ ะตะณะพ ะบัะพ-ัะพ ะดะตะปะฐะตั ะฒัั ัััะต ะธ ัััะต. ะะพ ะพัะปะตะฟะธัะตะปัะฝะพ ะฑะตะปะพะณะพ. ะะพัะพะผ โ ะทะฒัะบะธ. ะะพะด ะบะพะฝะตั ะฟะพัะฒะปััััั ะทะฐะฟะฐั
ะธ.
ะะฝั ะฟะพะดะพัะปะฐ ะบ ะทะตัะบะฐะปั. ะะฝะฐ ะฑัะปะฐ ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะณะพะปะฐั. ะขะพะปัะบะพ ัะตะนัะฐั ะดะพ ะฝะตั ะดะพัะปะพ, ััะพ ััะพ ะฑัะปะฐ ะฒะฐะฝะฝะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะผะฐัะตัะธ. ะะฝั ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะฐ ะปะธัะพ ะบ ัะฒะพะตะผั ะพััะฐะถะตะฝะธั, ะพั ะดัั
ะฐะฝะธั ะฝะฐ ะทะตัะบะฐะปะต ะฟะพัะฒะธะปัั ััะผะฐะฝะฝัะน ะบััะถะพะบ. ะะฝะฐ ััััะปะฐ ะตะณะพ ะปะฐะดะพะฝัั. ะะพัะพะผ ะฟะพััะพะณะฐะปะฐ ะฟะฐะปััะตะผ ัะฒะพะน ะฝะพั, ะฟัะพะฒะตะปะฐ ะฟะพ ะณัะฑะฐะผ. ะัััะฝัะปะฐ ะฒะฝะธะท ะฒะตะบะพ ะฟัะฐะฒะพะณะพ ะณะปะฐะทะฐ.
ะะฐ ะฟะพะปะบะต ััะตะดะธ ะผะฐัะตัะธะฝัะบะพะณะพ ั
ะปะฐะผะฐ โ ัะตะปะพะณะพ ั
ะพัะพะฒะพะดะฐ ัะฐะทะฝะพัะฒะตัะฝัั
ะฑัััะปะพัะตะบ, ััะตะบะปัะฝะฝัั
ะฑะฐะฝะพัะตะบ, ะฟัะทัััะบะพะฒ ะธ ัะปะฐะบะพะฝัะธะบะพะฒ โ ะปะตะถะฐะปะฐ ัะฟะฐะบะพะฒะบะฐ ะฑัะธัะฒ. ะฏัะบะพ-ัะพะทะพะฒะพะณะพ ัะฒะตัะฐ. ะะฝั ะฒัะฝัะปะฐ ะพะดะฝั, ัะฝัะปะฐ ั ะปะตะทะฒะธั ะทะฐัะธัะฝัะน ะฟะปะฐััะธะบ. ะะบะบััะฐัะฝะพ, ััะฐัะฐััั ะฝะต ะฟะพัะฐะฝะธัััั, ัะฑัะธะปะฐ ะฑัะพะฒะธ โ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ะฟัะฐะฒัั, ะฟะพัะพะผ ะปะตะฒัั. ะะฐ ะผะตััะต ะฑัะพะฒะตะน ะพััะฐะปะธัั ะฑะปะตะดะฝัะต ะฟะพะปะพัะบะธ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะทะฐะผะตัะฝัะต. ะะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะตัะปะธ ัะฑัะธัั ะฑัะพะฒะธ, ัะพ ะพัะตะฝั ัะปะพะถะฝะพ ะธะทะพะฑัะฐะทะธัั ะฝะฐ ะปะธัะต ัะดะธะฒะปะตะฝะธะต. ะะฐ ะธ ะดััะณะธะต ัะผะพัะธะธ ัะพะถะต.
ะะฝั ะพััััะฟะธะปะฐ, ัะฐะทะณะปัะดัะฒะฐั ะพััะฐะถะตะฝะธะต. ะะธัะพ, ัะตั, ัะพัะธะต ะบะปััะธัั. ะััะดะธ ะฑัะปะธ ะพััััะต ะธ ะฝะตัะฑะตะดะธัะตะปัะฝัะต โ ยซะบะพะทัะธ ัะธััะบะธยป, ะบะฐะบ ะพะฑะพะทะฒะฐะปะฐ ะธั
ะัะปัะบะฐ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะฒ ัะฐะทะดะตะฒะฐะปะบะต. ะฃ ัะฐะผะพะน ะัะปัะบะธ ะฑัะป ะบัะตะฟะบะธะน ััะตัะธะน ะฝะพะผะตั ัะถะต ะฒ ะฒะพััะผะพะผ ะบะปะฐััะต.
โ ะะพัะพะฒะฐโฆ โ ะะฝั ะปะฐะดะพะฝัะผะธ ะฟัะพะฒะตะปะฐ ะฟะพ ะฟะปะพัะบะพะผั ะถะธะฒะพัั. โ ะะพะณะปัะดะธะผ ะฝะฐ ัะตะฑั ัะตัะตะท ะดะตัััั ะปะตั.
โ ะั ััะพ, ะะฝะฝะฐ, โ ะพะฑัะฐัะธะปะฐัั ะบ ัะฒะพะตะผั ะพััะฐะถะตะฝะธั. โ ะะฝะฐะบะพะผะธัััั ะฑัะดะตะผ? ะฏ โ ะญัะธะบะฐ.
***
ะะฐะปะฐััะฒะบะฐ ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะปะฐ ะทะพะฝั ะฒะพะตะฝะฝัั
ะดะตะนััะฒะธะน. ะะฐ ะผะตััะต ัะณะปะพะฒะพะณะพ ะดะพะผะฐ ะฒััะธะปะฐัั ะณะพัะฐ ัััะพะธัะตะปัะฝะพะณะพ ะผััะพัะฐ ะธ ะบะพะปะพััั
ะบะธัะฟะธัะตะน. ะะพะปััะพะน ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะน ะฑัะป ะฟะตัะตะณะพัะพะถะตะฝ ะทะฐะฑะพัะพะผ. ะขัั ะถะต ััะพัะปะฐ ะฟะฐัััะปัะฝะฐั ะผะฐัะธะฝะฐ. ะะฒะฐ ะผัะฐัะฝัั
ะผะตะฝัะฐ ะผะพะปัะฐ ะบััะธะปะธ, ะธะทัะตะดะบะฐ ัะฟะปัะฒัะฒะฐั ะฟะพะด ะฝะพะณะธ.
ะญัะธะบะฐ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะฟะพะบะปะฐะดะธััะพะน ะดะตะฒะบะพะน. ะ ะฝะฐ ัะตะดะบะพััั ะบะพะผะฟะฐะฝะตะนัะบะพะน. ะ ัะพะผั ะถะต ะะฝั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ ัะตะฑั ัะฐะบ ะบะปะฐััะฝะพ โ ัะฐะบะพะน ะฑะพะดัะพะน, ัะฐะบะพะน ัะฝะตัะณะธัะฝะพะน, ัะฐะบะพะน ัะฐะดะพััะฝะพะน. ะะพะปะถะฝะพ ะฑััั, ะฟัะธะผะตัะฝะพ ัะฐะบ ะพัััะฐะตั ัะตะฑั ััะฐััะปะธะฒัะน ัะตะปะพะฒะตะบ.
โ ะะพัะฟะพะดะฐ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะต! โ ะฟะธัะบะปัะฒัะผ ะณะพะปะพัะพะผ ะพะฑัะฐัะธะปะฐัั ะพะฝะฐ ะบ ะผะตะฝัะฐะผ.
โ ะั ะธ ัััะตะปะพ, โ ะฑััะบะฝัะป ะพะดะธะฝ ะดััะณะพะผั. โ ะะพะปัะฝัั, ะฟะพัะปะธ-ะบะฐ ััั ะณััะผะทั.
โ ะัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ! โ ะะพะปัะฝัั, ะฝะฐะฑััะฐัั, ะณัะพะทะฝะพ ะดะฒะธะฝัะปัั ะบ ะะฝะต. โ ะัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ, ะฟัะพั
ะพะด ะทะฐะบััั! ะกััะพะธัะตะปัะฝัะต ัะฐะฑะพัั!
ะัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ โ ัััะฝัะต ะพัะบะธ, ะฑะปะตััััะธะน ะฑะตะปัะน ะฟะปะฐั (ะผะฐัะตัะธะฝัะบะฐั ยซะฟัะฐะดะฐยป ะธะท ะทะผะตะธะฝะพะน ะบะพะถะธ, ะฝะฐ ะดะฒะฐ ัะฐะทะผะตัะฐ ะฑะพะปััะต), ะบัะฐัะฝะฐั ะฑะตะนัะฑะพะปัะฝะฐั ะบะตะฟะบะฐ ะบะพะทัััะบะพะผ ะฝะฐะทะฐะด โ ะฟะพะดะพัะปะฐ ะฒะฟะปะพัะฝัั ะบ ะผะฐัะธะฝะต.
โ ะัะดะฐ ะฟัััั? โ ะทะฐะพัะฐะป ะะพะปัะฝัั. โ ะขั ัั, ัะปะตะฟะฐั?
โ ะะฐ, โ ะฑะตะท ะทะฐะฟะธะฝะบะธ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะณัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ. โ ะ ััะพ โ ะธ ััะพ ะทะฐะฟัะตัะตะฝะพ?
ะะพะปัะฝัั ัะฐััะตััะปัั. ะัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ ะฟะพะดะพัะปะฐ ะบ ะฝะตะผั ะฒะฟะปะพัะฝัั ะธ ัะฟััะปะฐัั ะฒ ััะณะพะต ะฑััั
ะพ.
โ ะฃ ะฒะฐั ััั ัะฐะดะธะพััะฐะฝัะธั ะตััั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะณัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ, ะพััะฟัะฒะฐั ะบััะฟะฝะพะต ัะตะปะพ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะพะณะพ. โ ะงัะพะฑ ะฒัะตะผ ะฟะพััะฐะผ ะ ะพััะธะนัะบะพะน ะคะตะดะตัะฐัะธะธโฆ
โ ะะฐะบะพะน ะตัั ัะตะดะตัะฐัะธะธโฆ ะะพัะฐ! โ ะพะฑัะฐัะธะปัั ะะพะปัะฝัั ะบ ะฝะฐะฟะฐัะฝะธะบั. โ ะัะทะพะฒะธ ัะบะพััั, ะฟัััั ััั ััะผะธัะบั ัะฒะตะทัั ะฝะฐ ัะธะณ.
ะะพัะฐ ะฒัะฑัะพัะธะป ะพะบััะพะบ, ะปะตะฝะธะฒะพ ะดะพััะฐะป ัะฐัะธั ะธะท ะบะฐะฑะธะฝั, ััะปะบะฝัะป.
โ ะะปั! ะะปั, ัะพัะพะบ ะฒัะพัะพะน ััะพ. ะก ะะฐะปะฐััะฒะบะธ. ะะปัโฆ
ะะฝ ะฝะต ััะฟะตะป ะดะพะณะพะฒะพัะธัั. ะะฐะปัะฝะตะนัะตะต ะฟัะพะธะทะพัะปะพ ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะธ ะฟะพััะธ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ. ะะพะปัะฝัั ะฒะทะฒัะป ะธ, ัะฐัะบะธะฝัะฒ ััะบะธ ะบัะตััะพะผ, ะฟะตัะตะปะตัะตะป ัะตัะตะท ะบะฐะฟะพั ะผะฐัะธะฝั. ะะพัะฐ, ะพะฝ ะบะฐะบ ัะฐะท ะฝะฐัะฐะป ะฟะพะฒะพัะฐัะธะฒะฐัััั ะฝะฐ ะบัะธะบ, ััะฟะตะป ัะฒะธะดะตัั ะปะธัั ะผะตัะฝัะฒัะธะนัั ะบ ะฝะตะผั ะฑะตะปะพ-ะบัะฐัะฝัะน ัะผะตัั ะธ ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐัั ัะดะฐั ะฒ ัะตะปัััั. ะ ะณะพะปะพะฒะต ะฒะทะพัะฒะฐะปัั ะพัะปะตะฟะธัะตะปัะฝัะน ัะฐั. ะจะฐั ะปะพะฟะฝัะป ะธ ัะฐัััะฟะฐะปัั ะฝะฐ ัััััั ะทะพะปะพััั
ะธัะบั. ะขะพัะฝะพ ัะฐะบะพะน ัะตะนะตัะฒะตัะบ ะะพัะฐ ะฒะธะดะตะป ะฟัะพัะปัะผ ะปะตัะพะผ, ะบะพะณะดะฐ ะตะทะดะธะป ั ะถะตะฝะพะน ะฝะฐ ะะธะฟั.
ะะพัะฐ ัะฟะพะปะท ะฟะพ ะบััะปั ะฝะฐ ะฐััะฐะปัั. ะะฐะบ ะถะต ัะพ ะผะตััะพ ะฝะฐะทัะฒะฐะปะพัั? ะกะผะตัะฝะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะฐะทัะฒะฐะปะพััโฆ ะะณะฐ, ะะฐัะพัโฆ
ะะณะพ ััะบะฐ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะฐ ัะถะธะผะฐัั ัะฐัะธั. ะัััะดะฐ ะดะพะฝะพัะธะปัั ะณะพะปะพั ะพะฟะตัะฐัะพัะฐ. ะัะฐะถะดะฐะฝะบะฐ ะฒะทัะปะฐ ัะฐัะธั.
โ ะะฝะธะผะฐะฝะธะต! ะญะบัััะตะฝะฝะพะต ัะพะพะฑัะตะฝะธะต. ะ ะฐะฑะพัะฐัั ะฒัะต ัะฐะดะธะพััะฐะฝัะธะธ ะกะพะฒะตััะบะพะณะพ ะกะพัะทะฐ!
ะะฝะฐ ั
ะธั
ะธะบะฝัะปะฐ, ะบะฐัะปัะฝัะปะฐ ะฒ ะบัะปะฐะบ ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะธะปะฐ ะทะฐะณัะพะฑะฝัะผ ะณะพะปะพัะพะผ:
โ ะะตะผะปั ะฑะพะปััะต ะฝะต ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะธั ะถะธะฒัะผ. ะะฝะฐ ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะธั ะฝะฐะผ, ะผัััะฒัะผ. ะั ัั
ะพะดะธะผ ะฒ ะทะตะผะปั, ะผั ัั
ะพะดะธะผ ะฒะณะปัะฑั, ะผั ะฟัะพัะฐััะฐะตะผ ะบะพัะฝัะผะธ. ะะพะดะฒะพะดะฝัะต ัะตะบะธ ะฝะตััั ะฝะฐัะธ ะพััะฐะฝะบะธ ะฒ ะผะพัั, ะฒะตัะตั ะฟะพะดะฝะธะผะฐะตั ะบะฐะฟะปะธ ะฒ ะฝะตะฑะพ ะธ ะผะตััะฒะตัั ะดะพะถะดัะผ ะฟัะพะปะธะฒะฐัััั ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒั ะถะธะฒัั
. ะะฐัะต ะฒัะตะผั ะบะพะฝัะธะปะพัั! Nabelkรผsser ist tod.
ะะฝะฐ ะฒัะบะปััะธะปะฐ ัะฐัะธั. ะะทะผะฐั
ะฝัะปะฐ ััะบะฐะผะธ ะธ ะปะตะณะบะพ, ะฑัะดัะพ ะฝะฐ ะฟััะถะธะฝะฐั
, ะทะฐะฟััะณะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะบัััั ะฟะพะปะธัะตะนัะบะพะน ะผะฐัะธะฝั. ะะณะปัะดะตะปะฐัั. ะ ะฐัะฟะฐั
ะฝัะฒ ะฟะพะปั ะฟะปะฐัะฐ, ะบะฐะบ ะดะฒะฐ ะฑะตะปัั
ะบััะปะฐ, ะปะพะฒะบะธะผ ัััะฑะพะปัะฝัะผ ะฟะธะฝะบะพะผ ะดะพะปะฑะฐะฝัะปะฐ ะฟะพ ะผะธะณะฐะปะบะต. ะขะฐ, ะพะฟะธัะฐะฒ ะดัะณั, ะฟะตัะตะปะตัะตะปะฐ ัะตัะตะท ะทะฐะฑะพั.
ะขะฐะผ, ะทะฐ ะพะณัะฐะถะดะตะฝะธะตะผ, ะฒััะธะปะธัั ะณะพัั ะฑะธัะพะณะพ ะบะธัะฟะธัะฐ. ะัั, ััะพ ะพััะฐะปะพัั ะพั ัะณะปะพะฒะพะณะพ ะดะพะผะฐ. ะะณะพ ะบัััะธะปะธ ะฝะฐัะฟะตั
, ะบัะฐะฝ ั ะณะธัะตะน ะดะฐะถะต ะฝะต ััะฟะตะปะธ ัะฒะตะทัะธ. ะะท ะพะฑะปะพะผะบะพะฒ ััะตะฝ ัะพััะฐะปะฐ ัะถะฐะฒะฐั ะฐัะผะฐัััะฐ, ะบะฐะฝะฐะปะธะทะฐัะธะพะฝะฝัะต ัััะฑั, ะฒะตััะฒะบะฐะผะธ ะฑะพะปัะฐะปะธัั ะฟัะพะฒะพะดะฐ. ะะฐ ััะดะพะผ ััะตะปะตะฒัะตะผ ะบะธัะฟะธัะฝะพะผ ะดัะผะพั
ะพะดะต ะดัะตะผะฐะปะฐ ะบััะฟะฝะฐั ัะพะทะพะฒะฐั ะฟัะธัะฐ. ะญัะพ ะฑัะป ัะปะฐะผะธะฝะณะพ. ะะฝ ััะพัะป ะฝะฐ ะพะดะฝะพะน ะปะฐะฟะต.
โ Das ist echt Spitze! โ ะญัะธะบะฐ ัะบะฝัะปะฐ ััะบะพะน ะฒ ััะพัะพะฝั ะฟะตัะฝะพะน ัััะฑั. โ ะัั ัะธะฟ-ัะพะฟ, ัะตัััะธัะบะฐ! ะะพั ะพะฝ โ ะะพััะฐะป! ะั
ะพะด ะฒ ะะธะถะฝะธะน ะะธั. ะ ะตะบะฐ ะกัะธะบั ะธ ะฒัั ัะฐะบะพะต. ะขะฐะผ ะฑัะปะฐ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะฐ, ะฟะพะผะฝะธัั? ะะฐะปะฐััะฒ ะฟะพัััะพะธะป ะฟะพะด ะฝะตะน ะปะฐะฑะธัะธะฝั, ัะพัะฝัั ะบะพะฟะธั ะบัะธััะบะพะณะพ ะปะฐะฑะธัะธะฝัะฐ. ะขะพะณะพ ัะฐะผะพะณะพ, ะณะดะตโฆ
โ ะะธะฝะพัะฐะฒั ะฟัััะฐะปัั! โ ะทะฐะบะพะฝัะธะปะฐ ะะฝั. โ ะะฐ ะพัััะพะฒะต ะัะธั.
โ Genau! ะขะพะปัะบะพ ะฝะธะบะฐะบะพะน ะพะฝ ะฝะต ะบัะฟะตั, ััะพั ะะฐะปะฐััะฒ. ะะตะบัะพะผะฐะณ ะัะฒัะตะฝะฝ. ะะผะตะฝะฝะพ ะพะฝ ัะบัะฐะป ัะฒััะตะฝะฝัะน ะผะตั ะัั
ัะปะธะฝะฐ. ะขะพะณะดะฐ, ะฒ ะดะตะฒััะพะผ ะฒะตะบะต. ะ, ะฟะพะดะบัะฟะธะฒ ะบัะทะฝะตัะฐ, ะฝะฐะฝัั ะฝะฐ ััะตั ัะฒะพั ะธะผั. ะะพ ั
ะพะทัะธะฝ ะผะตัะฐ ะะพัะผะฐะบ ะผะฐะบ ะัั ะฒัะทัะฒะฐะป ัะฒะธะดะตัะตะปั โ ะผะตััะฒะตัะฐ, ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ัะฑะธัะพะณะพ ััะธะผ ะผะตัะพะผ, โ ะธ ะธัะฟัะพัะธะป ะตะณะพ ะผะฝะตะฝะธะต ะพ ัะพะผ, ะบัะพ ั
ะพะทัะธะฝ ะผะตัะฐ. ะะตััะฒะตั ัะบะฐะทะฐะป ะธััะธะฝะฝะพะณะพ ั
ะพะทัะธะฝะฐ, ะธ ััะด ะฟัะธะฝัะป ััะพ ัะฒะธะดะตัะตะปัััะฒะพโฆ
โ ะขััะฟ ะดะฐะฒะฐะป ะฟะพะบะฐะทะฐะฝะธั ะฒ ััะดะต?
โ ะะณะฐ! ะ ะฝะต ะฟัะพััะพ ัััะฟ โ ะพะฑะตะทะณะปะฐะฒะปะตะฝะฝัะน ัััะฟ! ะขะฐะผ ะบััะฐ ัะผะตัะฝะพะณะพ, ั ัะตะฑะต ะฟะพัะพะผ ัะฐััะบะฐะถั, ัะตะนัะฐั ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฝะตั. ะะพะณะฝะฐะปะธ!
โ ะัะดะฐ?
โ ะขัะดะฐ!
***
ะะฐะฒะตะป ะจะตัะณะธะฝ ะฒะปะตัะตะป ะฒ ะบะฒะฐััะธัั. ะัะพั
ะฝัะป ะดะฒะตััั.
โ ะะฝั! โ ะบัะธัะฐะป, ะฟัะพะฑะตะณะฐั ะฟะพ ะบะพะผะฝะฐัะฐะผ. โ ะะฝั! ะั ะณะดะต ะถะต ัั, ะณะพัะฟะพะดะธโฆ
ะะฐ ะบัั
ะฝะต ะตั ัะพะถะต ะฝะต ะฑัะปะพ. ะ ะฐัะฟะฐั
ะฝัะป ะดะฒะตัั ะฒ ััะตะฝะฐะถััะฝัะน ะทะฐะป โ ะฟัััะพ. ะะฐะณะปัะฝัะป ะฒ ัะฐัะฝั โ ะฝะธะบะพะณะพ.
ะจะตัะณะธะฝ ะฒัะฝัะป ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ, ัะฝะพะฒะฐ ัะบะฝัะป ะฒ ะตั ะฝะพะผะตั.
โ ะะพัะฟะพะดะธโฆ ะั ะฟะพะถะฐะปัะนััะฐโฆ
ะัะบัะดะฐ-ัะพ ัะฐะทะดะฐะปะพัั ะฟะธะปะธะบะฐะฝัะต ะฐะฝัะบะธะฝะพะณะพ ัะตะปะตัะพะฝะฐ. ะจะตัะณะธะฝ ะฑะตะณะพะผ ะฑัะพัะธะปัั ะฝะฐ ะทะฒัะบ. ะงะตัะตะท ะณะพััะธะฝัั โ ะฝะฐ ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะถะตะฝั. ะะฒะตัั ะฒ ะฒะฐะฝะฝัั ะฑัะปะฐ ัะฐัะฟะฐั
ะฝััะฐ ะฝะฐััะตะถั. ะะฐ ะฟะพะปั ะปะตะถะฐะป ะฐะนัะพะฝ ะธ ะฒะตัะตะปะพ ะฒัะทะฒะฐะฝะธะฒะฐะป ยซะขััะตัะบะธะน ะผะฐััยป.
ะจะตัะณะธะฝ ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน. ะะพะดะฝัะป ัะตะปะตัะพะฝ ะดะพัะตัะธ, ัะบัะฐะฝ ะฑัะป ะทะฐะฑะปะพะบะธัะพะฒะฐะฝ. ะะฐ ะบะฐััะธะฝะบะต ะฑะตะปะตะปะธ ะบัะฟะพะปะฐ ะกะฐะบัะต-ะัั, ัััั ัะพะทะพะฒะฐััะต ะพั ะทะฐะบะฐัะฐ.
ะคะพัะพ ัะดะตะปะฐะปะฐ ะะฝั ะฒะพ ะฒัะตะผั ะธั
ะฒะตัะตะฝะฝะตะน ะฟะพะตะทะดะบะธ. ะะพััะบะฐะฒ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะฒ ัะธััั ะบะพะดะฐ, ะจะตัะณะธะฝ ัะฟัััะฐะป ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ ะฒ ะบะฐัะผะฐะฝ.
โ ะั ััะพ ัั ะฑัะดะตััโฆ โ ะจะตัะณะธะฝ ะฒะตัะฝัะปัั ะฒ ะณะพััะธะฝัั.
ะะฝ ัะตะป ะฒ ะบัะตัะปะพ, ะฝะพ ััั ะถะต ัะฝะพะฒะฐ ะฒัะบะพัะธะป. ะัะพัะธะปัั ะบ ะฑะฐะปะบะพะฝั, ัะฐัะฟะฐั
ะฝัะป ะดะฒะตัั. ะะฐัะฐ ะณะพะปัะฑะตะน ั ะฟะตัะตะฟัะณั ะบัะฑะฐัะตะผ ะบะธะฝัะปะธัั ะฒะฝะธะท.
โ ะะพะฝ ะพัััะดะฐ! โ ะทะฐะพัะฐะป ะฝะฐ ะฟัะธั.
ะะฐะปะบะพะฝ ะพะฟะพัััะฒะฐะป ะฒะตัั ััะฐะถ ะฟะตะฝัั
ะฐััะฐ ะฟะพ ะฟะตัะธะผะตััั. ะจะตัะณะธะฝ ัะดะตะปะฐะป ะบััะณ, ะฟะพ ะฟััะธ ะฟะฝัะป ัะตะทะปะพะฝะณ ะถะตะฝั, ะทะปะพ ะฟะปัะฝัะป ะฒะฝะธะท ะธ ะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะณะพััะธะฝะพะน. ะะฝ ะฒัะตะฟะธะปัั ะฒ ะฟะตัะธะปะฐ, ัะถะฐะป ะดะพ ะฑะตะปัั
ะบะพััััะตะบ.
ะะฝะธะทั ะณัะตะผะตะปะพ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต, ัะบะฒะพะทั ะดัะผะบั ะฑะปะตััะตะปะฐ ัะตะบะฐ, ัััะฝัะผ ัะบะตะปะตัะพะผ ะฒััะธะปัั ะฝะตะธะทะฑะตะถะฝัะน ะััั. ะะฐ ะฟะฐะผััะฝะธะบะพะผ ัะฐัั ะผะตััะฐะปะธ ะปัะบะพะฒะธัั ัะตัะบะฒะธ. ะจะตัะณะธะฝ ะฟะพะผะฝะธะป, ะบะพะณะดะฐ ัะฐะผ, ะฝะฐ ะผะตััะต ัะตัะบะฒะธ, ะฑัะป ะฑะฐััะตะนะฝ. ะะธะผะฝะธะผะธ ััะผะตัะบะฐะผะธ ะพะฝ ะดัะผะธะปัั ะณััััะผ ะฑะตะปัะผ ะฟะฐัะพะผ. ะะพั
ะฝะฐััะต ะบะปัะฑั, ะฟัะพะฑะธััะต ะปััะฐะผะธ ะถัะปััั
ะฟัะพะถะตะบัะพัะพะฒ, ะฒััะฐะฒะฐะปะธ ะปะตะฝะธะฒัะผะธ ะฒะตะปะธะบะฐะฝะฐะผะธ; ะพะฝะธ ัะฐัะฟัะฐะฒะปัะปะธ ััะผะฐะฝะฝัะต ะฟะปะตัะธ, ััะตัะฝะพ ะฟััะฐััั ะฟัะธะฟะพะดะฝััั ััะณัะฝะฝะพะต ะผะพัะบะพะฒัะบะพะต ะฝะตะฑะพ.
ะะตัะพะผ ะฑะฐััะตะนะฝ ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะป ัะฐะนัะบะธะน ะพะฐะทะธั: ะฑะธััะทะพะฒะฐั ะฒะพะดะฐ ะผะตะปััะตัะธะปะฐ ัะพะปะฝะตัะฝัะผะธ ะทะฐะนัะธะบะฐะผะธ, ะฝะฐ ะฑะตะปะพะบะฐัะตะปัะฝัั
ะฑะตัะตะณะฐั
ัะพะผะธะปะธัั ะณะพะปัะต ะปัะดะธ ะฒัะตั
ะพััะตะฝะบะพะฒ ะฟัะพะถะฐัะตะฝะฝะพััะธ โ ะพั ัะพะทะพะฒะฐัะพะณะพ ะดะพ ัะฒะตัะฐ ะบะพะฟััะฝะพะน ัะบัะผะฑัะธะธ. ะะฝะพะณะดะฐ ะฑะฐััะตะนะฝ ะฝะฐะบััะฒะฐะปะพ ะฑะพะถะตััะฒะตะฝะฝัะผ ะฐัะพะผะฐัะพะผ โ ััะพ ัะถะฝัะน ะฒะตัะตั ะดะพะฝะพัะธะป ะทะฐะฟะฐั
ะณะพัััะตะน ะบะฐัะฐะผะตะปะธ, ะบะพัะพััั ะฒะฐัะธะปะธ ะฝะฐ ยซะัะฐัะฝะพะผ ะะบััะฑัะตยป. ะะธัะฟะธัะฝะพะต ะทะดะฐะฝะธะต ัะพะบะพะปะฐะดะฝะพะน ัะฐะฑัะธะบะธ ััะพัะปะพ ะฝะฐ ะฟัะพัะธะฒะพะฟะพะปะพะถะฝะพะผ ะฑะตัะตะณั ะะพัะบะฒั-ัะตะบะธ. ะะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะฒ ะณะพะดั ะธั
ะฒัะตะผ ะบะปะฐััะพะผ ะฒะพะดะธะปะธ ะฒ ะฑะฐััะตะนะฝ ะดะปั ัะดะฐัะธ ะบะฐะบะธั
-ัะพ ัะธะทะบัะปััััะฝัั
ะฝะพัะผะฐัะธะฒะพะฒ. ะััััะตะน ะฒัะตั
ะฟะปะฐะฒะฐะปะฐ ะะฝัะบะฐ ะะพะถะฐััะบะฐั, ะบ ะดะตะฒััะพะผั ะบะปะฐััั ะพะฝะฐ ะฒัะณะปัะดะตะปะฐ ะฝะฐััะพััะตะน ะฑะฐัััะฝะตะน: ะฑะปะตะดะฝะฐั ะธ ะฒััะพะบะฐั, ั ะผัะณะบะพะน ะณััะดัั ะฒ ัะตัะฝะพะผ ัััะฝะพะผ ะบัะฟะฐะปัะฝะธะบะต. ะะฝัะบะฐ ะทะฐะฟัะพััะพ ะผะพะณะปะฐ ะฟัะพะฝััะฝััั ะผะตััะพะฒ ะดะตัััั. ะจะตัะณะธะฝ ะฑัะป ะฟะพ ััะธ ะฒะปัะฑะปัะฝ ะฒ ะะพะถะฐััะบัั ัะตะปัั
ะดะฒะต ัะตัะฒะตััะธ โ ะดะพ ัะฐะผัั
ะบะฐะฝะธะบัะป. ะะพ ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะบัะฐัะฐะฒะธัะตะน, ะฐ ะพะฝ โ ััะฐัััะผ ััะพะตัะฝะธะบะพะผ. ะ ัะพะผั ะถะต ััะพัะป ััะตััะธะผ ะพั ะบะพะฝัะฐ ะฝะฐ ััะพะบะต ัะธะทัั. ะะธะถะต ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฑัะปะธ ัะพะปัะบะพ ะะฐะถะธะฝ ะธ ะะตััะธะบะพะฒ.
ะะผะตะฝะฝะพ ะะฝัะบะฐ ัะฐััะบะฐะทะฐะปะฐ ะตะผั ะฟัะพ ะฆะตัะบะพะฒะฝะพะณะพ ะขะพะฟะธัะตะปั. ะฏะบะพะฑั, ัะฐ ะดะตะฒัะพะฝะบะฐ ะธะท ะฝะตะผะตัะบะพะน ัะบะพะปั, ััะพ ััะพะฝัะปะฐ ะฟัะพัะปัะผ ัะตะฝััะฑััะผ, ะธ ัะพั ะฟะฐัะฐะฝ, ัััะฟ ะบะพัะพัะพะณะพ ะฒัะปะพะฒะธะปะธ ะฒ ัะฟะพััะธะฒะฝะพะผ ัะตะบัะพัะต, ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะถะตััะฒั ัะตะปะธะณะธะพะทะฝะพะณะพ ะผะฐะฝััะบะฐ.
โ ะกะตะบัะฐะฝัั! ะัััั ะทะฐ ัะฐะทัััะตะฝะฝัะน ั ัะฐะผ. ะะฐััะตะฝะธัะพะฒะฐะปะธัั โ ะผะพะณัั ะฟะพะด ะฒะพะดะพะน ะฟะพ ะฟััั ะผะธะฝัั ัะธะดะตัั. ะะพะดะฝััะฝัั ัะฐะบะพะน ัะทะฐะดะธโฆ
ะะพัะพะผ, ะผะฝะพะณะพ ะปะตั ัะฟัััั, ะจะตัะณะธะฝ ัะทะฝะฐะป, ััะพ ัะถะต ัะพะณะดะฐ, ะฒ ะดะตะฒััะพะผ ะบะปะฐััะต, ะะฝัะบะฐ ะฒัััะตัะฐะปะฐัั ั ะธั
ัะธะทััะบะพะผ, ะะปะตะณ-ะะฐะปััะตะผ. ะ ะฐััะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฑ ััะพะผ ะฅะพั
ะปะพะฒะฐ, ะฝะฐ ะพะดะฝะพะผ ะธะท ัะฑะพัะธั ะบะปะฐััะฐ. ะะพะถะฐััะบะฐั ะบ ัะพะผั ะฒัะตะผะตะฝะธ ััะฟะตะปะฐ ะฒัะนัะธ ะทะฐะผัะถ ะทะฐ ะฑะพะณะฐัะตะฝัะบะพะณะพ ะฝะตะผัะฐ, ัะตั
ะฐัั ะฒ ะัะตะผะตะฝ ะธ ัะฐะผ ัะฐะทะฑะธัััั ะฝะฐัะผะตััั ะฝะฐ ะผะพัะพัะธะบะปะต.
ะั ัะตะปะตัะพะฝะฝะพะณะพ ะทะฒะพะฝะบะฐ ะจะตัะณะธะฝ ะฒะทะดัะพะณะฝัะป. ะะฝ ะฒะตัะฝัะปัั ะฒ ะณะพััะธะฝัั, ะทะฐั
ะปะพะฟะฝัะป ะดะฒะตัั. ะะฒะพะฝะธะปะฐ ะฝะต ะดะพัั, ะทะฒะพะฝะธะป ะะพะปะผะฐัะพะฒ.
โ ะั ััะพ ะตัั? โ ััะฒะบะฝัะป ะจะตัะณะธะฝ ะฒ ัััะฑะบั.
ะะฝ ะฟะฝัะป ะบัะตัะปะพ, ะฑัััััะผ ัะฐะณะพะผ ะดะพััะป ะดะพ ะดะธะฒะฐะฝะฐ, ัะฐะทะฒะตัะฝัะปัั.
โ ะงัะพ? โ ะพััะฐะฝะพะฒะธะปัั ะธ ะฒะทะผะฐั
ะฝัะป ััะบะพะน. โ ะะฐะบะพะน, ะบ ัะตััั, ัะตะปะตะฒะธะทะพั? ะขั ััะพ, ะะพะปะผะฐัะพะฒ, ั ะดัะฑะฐ ััั
ะฝัะป? ะงัะพ? ะงัะพโฆ ะะพะณะพะดะธโฆ ะฟะพะณะพะดะธโฆ
ะกัะตะดะธ ะดะธะฒะฐะฝะฝัั
ะฟะพะดััะตะบ ะจะตัะณะธะฝ ะฝะฐััะป ะฟัะปัั.
โ ะะพะปะผะฐัะพะฒโฆ ะะพะณะพะดะธ. ะัะพ ะตะณะพ ะทะฐะฒะฐะปะธะป? ะะฐะบ? ะะดะต? ะ ะฟะพะดะผะพัะบะพะฒะฝะพะนโฆ ะะพ ะบะฐะบ? ะขะฐะผ ัะฐะบะฐั ะพั
ัะฐะฝะฐโฆ ะกััะพะฒ? ะ ะฝะต ะัะทัะผะธะฝ? ะัะพ-ะบัะพ? ะัะธะฝัะฒะฐ?! ะะฐััะบะฐ ะัะธะฝัะฒะฐ? ะะฐ ััโฆ ะ ะะฐัะฐะบะพะทะพะฒ ะพะฑััะฒะธะป ะพ ะฟะพะดะดะตัะถะบะตโฆ ะฃะถะต? ะ ะณะฒะฐัะดะธั? ะะพั ะณะฐะดัโฆ ะฏ ัะฐะบ ะธ ะทะฝะฐะป, ััะพ ะ ะพะณะพะถะธะฝ ะฟะตัะฒัะผ ะฟัะพะดะฐััโฆ ะะพ ะบะฐะบ? ะะฐะบ? ะัะธะฝัะฒะฐโฆ ะั ะทะฝะฐั-ะทะฝะฐั, ะตัั ะฟะพ ะดะตะฒัะฝะพัััะผ. ะะฐััะบะฐโฆ ะั, ััะฐ ะฑัะดะตั ะฝะฐ ััะพะปะฑะฐั
ะฒะตัะฐััโฆ
ะะฝ ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน, ัััะฐะฒะธะปัั ะฒ ัะตะปะตะฒะธะทะพั.
ะะท ัะตัะฝะพัั ัะตะปะตะฒะธะทะธะพะฝะฝะพะณะพ ัะบัะฐะฝะฐ ะฒัะฟะปัะปะฐ ะบะฐััะธะฝะบะฐ โ ะฝะตะธะฝัะตัะตัะฝะฐั ะดะตะบะพัะฐัะธั ะธะทะพะฑัะฐะถะฐะปะฐ ะฝะพัะฝะพะน ะปะตั. ะะฐะด ะพััััะผะธ ัะปะบะฐะผะธ ะฒะธัะตะปะฐ ะปัะฝะฐ. ะะฐ ะฟะตัะตะดะฝะตะผ ะฟะปะฐะฝะต ะฑัะป ะฟััะด, ะพะบััะถัะฝะฝัะน ะฒะตััะผะฐ ััะปะพะฒะฝัะผะธ ะบะฐะผััะฐะผะธ. ะจะตัะณะธะฝ ะฟะตัะตะบะปััะธะป ะบะฐะฝะฐะป, ัะฐะผ ะฑัะป ัะพั ะถะต ะปะตั ะธ ัะพั ะถะต ะฟััะด. ะะฐ ัะปะตะดัััะตะผ ัะพะถะต.
โ ะัะธะฝัะฒะฐ ะทะฐะฒะฐะปะธะปะฐ ัะธะฑะทะดะธะบะฐโฆ โ ะจะตัะณะธะฝ ะฟัะธะฑะฐะฒะธะป ะทะฒัะบ. โ ะั ะดะตะปะฐโฆ
ะะท ะดะธะฝะฐะผะธะบะพะฒ ะทะฐะทะฒััะฐะปะธ ัะบัะธะฟะบะธ, ะฒะตัะตะปะพ ะธ ะฟัััะบะพ. ะัั ะฟัะพะถะตะบัะพัะฐ ะพัะฒะตัะธะป ะฟะตัะตะดะฝะธะน ะฟะปะฐะฝ. ะกะฑะพะบั, ะธะท-ะทะฐ ะฟะปะพัะบะธั
ะบัััะพะฒ, ะฟะพัะฒะธะปะฐัั ััะฐะนะบะฐ ะฑะฐะปะตัะธะฝ. ะะฝะธ ัะตะทะฒะพ ะฒััััะพะธะปะธัั ะฒ ัะตัะตะฝะณั, ะฒะทัะปะธัั ะทะฐ ััะบะธ ะธ, ะปะพะฒะบะพ ัะตะผะตะฝั ะฑะตะปัะผะธ ะฝะพะณะฐะผะธ ะฒ ัะฐะบั ะผัะทัะบะต, ะฒะฟัะธะฟััะถะบั ะดะพะฑัะฐะปะธัั ะดะพ ัะตะฝััะฐ ััะตะฝั.
ะกะฝะพะฒะฐ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ัะตะปะตัะพะฝ. ะะพะผะตั ะทะฒะพะฝะธะฒัะตะณะพ ะฑัะป ะทะฐะฑะปะพะบะธัะพะฒะฐะฝ. ะจะตัะณะธะฝ ะฒะบะปััะธะป ะณัะพะผะบัั ัะฒัะทั.
โ ะะฐ, โ ะฑััะบะฝัะป. โ ะัะพ ััะพ?
โ ะะฐะฟะฐ! โ ะะพะปะพั ะะฝะธ ะฑัะป ะบะฐะฟัะธะทะตะฝ. โ ะั ะณะดะต ัั?
โ ะะฝั! ะะดะต ัั? ะฏ ััั ะฒัะตั
ะฝะฐ ััะธ ะฟะพััะฐะฒะธะป, ะฐ ััโฆ
โ ะะฐ ััั ั! ะั ัะตะฑั ะถะดัะผ-ะถะดัะผ, ะฐ ัะตะฑั ะฒััโฆ
โ ะัะพ ะผั?
โ ะะฐะบ ะบัะพ? ะฏ ะธ ะญัะธะบะฐ.
โ ะัะพ ััะพ? ะะดะต ะฒั?
โ ะะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบะต! ะะดะต ัะณะปะพะฒะพะน ะดะพะผ ะฑัะป. ะขะฐะผ ะปะตััะฝะธัะฐ ะฒ ะฟะพะดะฒะฐะป. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะบะพัะธะดะพั, ะดะปะธะฝะฝัะน-ะดะปะธะฝะฝัะน, ะฐ ะฟะพัะปะต ะดะพโฆ
ะ ัััะฑะบะต ััะพ-ัะพ ะทะฐััะตัะฐะปะพ, ะณะพะปะพั ะพะฑะพัะฒะฐะปัั ะฝะฐ ะฟะพะปััะปะพะฒะต.
***
ะขะฐะผ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฑัะป ะบะพัะธะดะพั.
โ ะัะบัะดะฐ ััั ัะฒะตั? โ ะจะตัะณะธะฝ ััะพะฝัะป ัะพะฝะฐัั, ะฒะธัะตะฒัะธะน ะฟะพะด ะฝะธะทะบะธะผ ัะฒะพะดัะฐััะผ ะฟะพัะพะปะบะพะผ. โ ะะฑัะตะบั ะดะพะปะถะตะฝ ะฑััั ะพะฑะตััะพัะตะฝโฆ
ะััะพัะพะถะฝะพ ัะฟัััะธะปัั ะฟะพ ัะตัะฑะฐััะผ ัััะฟะตะฝัะผ. ะกััะฟะตะฝัะบะธ ะฒัะต ะฑัะปะธ ัะฐะทะฝะพะน ะฒััะพัั, ะจะตัะณะธะฝ ะพััะฐะฝะพะฒะธะปัั ะฝะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะน ะธ ะทััะฝะพ ะณะฐัะบะฝัะป:
โ ะะฝั!
ะะพะป, ะฑะตัะพะฝะฝัะน ะธ ะฟัะปัะฝัะน, ััะป ะฟะพะด ัะบะปะพะฝ, ัะฐะบ ััะพ ะฝะพะณะธ ะฟะตัะตัััะฟะฐะปะธ ัะฐะผะธ ัะพะฑะพะน, ะฒะตะดั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะพั ะพะดะฝะพะณะพ ัััะบะปะพะณะพ ัะพะฝะฐัั ะดะพ ะดััะณะพะณะพ.
โ ะะฝั! โ ัะฝะพะฒะฐ ะบัะธะบะฝัะป ะพะฝ. โ ะะฝั! ะะดะต ัั?
ะัะบัะดะฐ ะทะดะตัั ะฒะทัะปัั ััะพั ะฟะพะดะทะตะผะฝัะน ั
ะพะด? ะัะดะฐ ะพะฝ ะฒะตะดัั? ะะปะธ ััะพ ะฒััะพั
ัะตะต ัััะปะพ ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะน ัะตะบะธ? ะะพ ะพัะบัะดะฐ ัะพะณะดะฐ ะฑะตัะพะฝ? ะ ัะพะฝะฐัะธ?
โ ะะฝั! โ ะบัะธะบ ัะปะตัะตะป ะฒ ะฒะฐัะฝัั ะฟัััะพัั.
ะจะตัะณะธะฝ ะพะณะปัะฝัะปัั, ะตะผั ะพัะตะฝั ะทะฐั
ะพัะตะปะพัั ะฒะตัะฝััััั ะฝะฐะทะฐะด. ะััะผะพ ัะตะนัะฐั. ะฃะบะปะพะฝ ััะฐะป ะบัััะต, ะดะพะปะถะฝะพ ะฑััั, ััั ัััะปะพ ัั
ะพะดะธะปะพ ะฒะณะปัะฑั. ะจะตัะณะธะฝ ะฟะพัะบะพะปัะทะฝัะปัั, ัั
ะฒะฐัะธะปัั ะทะฐ ััะตะฝั.
โ ะะฝั! โ ะทะฐะพัะฐะป ะพะฝ.
ะะตัะพะฝะฝัะต ะฟะปะธัั ะฟะพััะตัะบะฐะปะธัั ะธ ะปะตะถะฐะปะธ ะฝะตัะพะฒะฝะพ, ะจะตัะณะธะฝ ะทะฐะฟะฝัะปัั, ัะฟะฐะป, ัะฐัััะฝัะฒัะธัั ะฒะพ ะฒะตัั ัะพัั. ะะพะปั ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปะฐ ะตะณะพ, ะพะฝ ัะปะธะทะฝัะป ะบัะพะฒั ั ะปะฐะดะพะฝะธ. ะะบััะฐ ะฝะต ะพัััะธะป, ะบัะพะฒั ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะฟัะตัะฝะพะน, ะบะฐะบ ะฒะพะดะฐ. ะะฝ ะฟะพะผะพัะฐะป ะณะพะปะพะฒะพะน, ะทะปะพ ัะฟะปัะฝัะป ะธ, ะดะตัะถะฐัั ััะบะพะน ะทะฐ ััะตะฝั, ะฟะพััะป ะดะฐะปััะต.
ะะฝ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ะทะฐัะตะผ-ัะพ ััะธัะฐะป ัะพะฝะฐัะธ, ะฝะพ ัะฑะธะปัั ะฝะฐ ะฒัะพัะพะผ ะดะตัััะบะต. ะขะตะฟะตัั, ะฟัะธะฑะปะธะถะฐััั ะบ ะพัะตัะตะดะฝะพะน ะปะฐะผะฟะต, ะจะตัะณะธะฝ ั ัะฐะทะผะฐั
ั ะฟัะธะฟะตัะฐััะฒะฐะป ะปะฐะดะพะฝั ะบ ััะตะฝะต, ะฟััะฐััั ะพััะฐะฒะธัั ะฝะฐ ะฑะตัะพะฝะต ะบัะพะฒะฐะฒัั ะผะตัะบั. ะกัะตะฝั ะทะดะตัั ััะฐะปะธ ะฒะปะฐะถะฝัะผะธ ะธ ัะบะพะปัะทะบะธะผะธ, ัะปะพะฒะฝะพ ะฒัะฟะพัะตะปะธ. ะจะตัะณะธะฝ ัะดะธะฒะปัะฝะฝะพ ะทะฐะผะตัะธะป, ััะพ ะบัะพะฒั ะฝะฐ ะฝะธั
ะฝะต ะพัะฟะตัะฐััะฒะฐะปะฐัั.
ะะฝ ัะฟะพััะบะฐะปัั, ะฝะพ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ัะฐะณะฐัั ะฒะฟะตััะด. ะกะบะพะปัะบะพ ะผะธะฝัั ะธะปะธ ัะฐัะพะฒ ะฟัะพัะปะพ, ะจะตัะณะธะฝ ะดะฐะถะต ะฝะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะป, ะฒัะตะผั ัะตะบะปะพ ััะฒะบะฐะผะธ, ัะตัะตะดัั ัะณัััะบะธ ะฟะพะดัะพะฑะฝะตะนัะธั
, ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพ ะฝัะดะฝัั
ััะฐะณะผะตะฝัะพะฒ ั ะฑะตะทะฝะฐะดัะถะฝะพ ะณะปัั
ะธะผะธ ะฟัะพะฒะฐะปะฐะผะธ.
ะะพัะธะดะพั ะบะพะฝัะธะปัั ะธ ัะฟัััั ะฒ ะดะฒะพะนะฝัั ะฒััะพะบัั ะดะฒะตัั, ะฟะพััะธ ะฒะพัะพัะฐ. ะจะตัะณะธะฝ ะฑะตะท ะพัะพะฑะพะน ะฝะฐะดะตะถะดั, ัััะฐะปะพ ัะพะปะบะฝัะป ะพะฑะต ััะฒะพัะบะธ. ะะฒะตัั ะบะฐัะฝัะปะฐัั, ััะถะตะปะพ ะฟะพะดะฐะปะฐัั ะธ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ัะฐัะบััะปะฐัั. ะั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพััะธ ะจะตัะณะธะฝ ะดะฐะถะต ะฝะต ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปัั. ะะฐะผะตั ะฒ ะฝะตัะตัะธัะตะปัะฝะพััะธ, ะฒะณะปัะดัะฒะฐััั ะฒ ัะตะผะฝะพัั.
ะะตัะตะด ะฝะธะผ ัะฐัััะธะปะฐะปะฐัั ะฟัััะพัั, ะฟะพัะพััะฐั ะฑััััะฝะพะผ ะธ ะฝะธะทะบะธะผ ะบัััะฐัะฝะธะบะพะผ, ะดะฐะปััะต ัะปะธ ะพะณะพัะพะดั, ะบะพัะพััะต ัะฟััะบะฐะปะธัั ะบ ััะผะฝะพะน ัะตะบะต, ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะพะน ะธ ะผะฐัะปัะฝะธััะพะน, ะบะฐะบ ะดัะณะพัั, ั ะทะตะปะตะฝะพะฒะฐัะพะน ะปัะฝะฝะพะน ะดะพัะพะถะบะพะน. ะะฐ ัะพะน ััะพัะพะฝะต ัะตะบะธ ะฒะธะดะฝะตะปะฐัั ะผะตะปัะฝะธัะฐ, ัะตัะฝะตะปะพ ะบะพะปะตัะพ, ะฒะดะพะปั ะฑะตัะตะณะฐ ัะพัะปะธ ััะฐััะต ะธะฒั. ะ ะปัะฝะฝะพะผ ัะฒะตัะต ะผะฐะบััะบะธ ะธั
ะบะฐะทะฐะปะธัั ะฟัะธะฟะพัะพัะตะฝั ะธะฝะตะตะผ. ะะฐ ะธะฒะฝัะบะพะผ ะฝะฐัะธะฝะฐะปัั ะปัะณ, ัะพะถะต ัะตัะตะฑัะธัััะน ะพั ะปัะฝั, ะพะฝ ะฟะพะปะพะณะพ ััะฝัะปัั ะดะพ ัะฐะผะพะณะพ ะณะพัะธะทะพะฝัะฐ. ะะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะพััั ัะตะบะธ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะพะฑะผะฐะฝัะธะฒะพะน, ะจะตัะณะธะฝ ัะฐะทะณะปัะดะตะป, ะบะฐะบ ัะตัะตะฝะธะต ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ-ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ัะฝะพัะธั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฑะปะตััััะธะน ะฟัะตะดะผะตั ัะธะปะธะฝะดัะธัะตัะบะพะน ัะพัะผั.
ะจะตัะณะธะฝ ัะดะตะปะฐะป ัะฐะณ, ั
ะผัะบะฝัะป ะธ ัะฐะทะฒัะป ััะบะฐะผะธ, ัะปะพะฒะฝะพ ะธะทะฒะธะฝัััั ะฟะตัะตะด ะบะตะผ-ัะพ. ะ ะดะฐะปัะฝะตะผ ัะณะปั ัะพะทะฝะฐะฝะธั ะฒัะฟะปัะปะฐ ะฒัะปะฐั ะผััะปั: ยซะงัะพ ะทะฐ ะฑัะตะด? ะฏ ะฒะตะดั ะฒ ะะพัะบะฒะต, ะฒ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต. ะญัะพะณะพ ะฟัะพััะพ ะฝะต ะผะพะถะตั ะฑัััยป. ะะพ ะณะปะฐะทะฐ, ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ะฟัะธะฒัะบะฐั ะบ ัะตัะพะน ััะผะต, ัะฐะทะณะปัะดัะฒะฐะปะธ ะฒัั ะฑะพะปััะต ะฟะพะดัะพะฑะฝะพััะตะน โ ััะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต.
ะกะบะฒะพะทั ะบัััั ะธ ัะตััะพะฟะพะปะพั
ะฟัะพะณะปัะดัะฒะฐะป ะบัะฐัะฝะพะฒะฐััะน ัะฒะตั, ัะฐะผ ััะพ-ัะพ ะฒัะฟัั
ะธะฒะฐะปะพ ะธ ะผะตััะฐะปะพ. ะจะตัะณะธะฝ ะฟะตัะตะปะตะท ัะตัะตะท ะฝะตะฒััะพะบะธะน ะทะฐะฑะพั ะธะท ะดะธะบะพะณะพ ะบะฐะผะฝั, ะพะฑะพะณะฝัะป ััะฐััั, ััะตัะฝัะฒััั ะฟะพะฟะพะปะฐะผ ัะฑะปะพะฝั, ะฒัั ะฒ ััะพะดะปะธะฒัั
ะฝะฐัะพััะฐั
.
ะ ะปะพัะธะฝะต ะณะพัะตะป ะฝะตััะบะธะน ะบะพัััั. ะะตัะตะด ะพะณะฝัะผ ะฝะฐ ะทะตะผะปะต ัะธะดะตะป ะฑะพัะพะน ััะฐัะธะบ, ะทัะฑะบะพ ะฒัััะฐะฒะธะฒ ะฒะฟะตััะด ั
ัะดัะต ะณััะทะฝัะต ััะบะธ. ะะฝ ะฑัะป ะฟะปะตัะธะฒ ะธ ะผะฐะป ัะพััะพะผ, ะฝะต ะฑะพะปััะต ัะตััะธะบะปะฐััะฝะธะบะฐ.
โ ะะพัะฟะพะดะธโฆ โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะป ะจะตัะณะธะฝ. โ ะญัะพ ะถะตโฆ
ะขัะธ ะณะพะดะฐ ะฝะฐะทะฐะด ะัะทัะบะธะฝ ะฒะบะปััะธะป ะตะณะพ ะฒ ะดะตะปะตะณะฐัะธั ะผััะธะธ, ะธั
ะฟัะธะฝะธะผะฐะปะธ ะฒ ะัะตะผะปะต, ะฟัะธะฝะธะผะฐะปะธ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะฒัััะตะผ ััะพะฒะฝะต. ะจะตัะณะธะฝั ัะพะณะดะฐ ะฟะพััะฐััะปะธะฒะธะปะพัั ัะดะพััะพะธัััั ััะบะพะฟะพะถะฐัะธั. ะะพะถะต, ะบะฐะบ ะถะต ะพะฝ ะฑัะป ััะฐััะปะธะฒ! ะะฐะบ ัะตะฑัะฝะพะบ, ะฑะพะถะตโฆ ะ ะฝะธะบะพะผั ะฝะต ัะบะฐะทะฐะป, ััะพ ััะบะพะฟะพะถะฐัะธะต ะฑัะปะพ ะฒัะปะพะต, ะฐ ะปะฐะดะพะฝั ัััะปะฐั ะธ ะฟะพัะฝะฐั. ะะฐะบ ัะฝัะปะฐั ััะฑะฐ.
ะะฐ ััะฐัะธะบะต ะฑัะป ัะฐะฑะพัะธะน ะบะพะผะฑะธะฝะตะทะพะฝ ะธ ัะธัะพะบะธะน ะบะปัะฟะฐะฝัะน ะฟะพัั ั ะบะฐัะฐะฑะธะฝะพะผ, ะบะฐะบะธะผ ะพะฑััะฝะพ ะฟะพะปัะทััััั ะฒะตัั
ะพะปะฐะทั. ะะฝ ัะฐััะตัะฝะฝะพ ะณะปะฐะทะตะป ะฝะฐ ะพะณะพะฝั ะธ ัะธั
ะพะฝัะบะพ ะฝะฐัะฒะธัััะฒะฐะป ะบะฐะบัั-ัะพ ะฟะตัะตะฝะบั. ะะปะฐะผั ะปะธะทะฐะปะพ ะตะณะพ ะปะฐะดะพะฝะธ, ะฟะปััะฐะปะพ ะผะตะถะดั ะฟะฐะปััะตะฒ โ ะจะตัะณะธะฝ ััะพ ััะฝะพ ะฒะธะดะตะป, ะพะฝ ะฟะพะดะพััะป ะฑะปะธะถะต ะธ ะพะบะปะธะบะฝัะป ััะฐัะธะบะฐ. ะขะพั ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั, ะฟัะฐะฒะฐั ััะพัะพะฝะฐ ะปะธัะฐ ะฟัะปะฐะปะฐ ะพัะฐะฝะถะตะฒัะผ, ะปะตะฒะฐั ะบะฐะทะฐะปะฐัั ัะธะพะปะตัะพะฒะพะน ะดััะพะน. ะกัะฐัะธะบ ะตะดะฒะฐ ะทะฐะผะตัะฝะพ ัะปัะฑะฝัะปัั ะธ, ะบะธะฒะฝัะฒ ะณะพะปะพะฒะพะน ะฒ ััะพัะพะฝั ัะตะบะธ, ัะบะฐะทะฐะป:
โ ะฃะถะต ัะบะพัะพ…
ะจะตัะณะธะฝ ะทะฐะผะตัะธะป, ะบะฐะบ ะฒ ัะตัะฝะพัะต ะดะฐะปัะฝะตะณะพ ะฑะตัะตะณะฐ ะฒะพะทะฝะธะบ ะฝะตััะฝัะน ัะธะปััั, ะฒ ัะธัะธะฝะต ะฟะพัะปััะฐะปัั ัะธั
ะธะน ะฒัะฟะปะตัะบ, ะฟะพ ะปัะฝะฝะพะน ะดะพัะพะถะบะต ะฟะพัะปะธ ะบััะณะธ, ะธ ะพะฝะฐ ัะฐัััะฟะฐะปะฐัั, ะบะฐะบ ะฟัะธะณะพััะฝั ะผะตะปะบะธั
ะผะพะฝะตั, ะฐ ะตัั ัะตัะตะท ะผะณะฝะพะฒะตะฝัะต ะฝะฐ ะพัะฒะตััะฝะฝะพะผ ะฟะปััะต ะฟะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ัะธะณััะฐ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ. ะะพ ะฒะพะดะต ััะตะปะธะปัั ััะผะฐะฝ, ะธ ะจะตัะณะธะฝั ะฟะพััะดะธะปะพัั, ัะธะณััะฐ ัะบะพะปัะทะธั ะฟััะผะพ ะฟะพ ะฒะพะดะต, ะฟัะธะฑะปะธะถะฐััั ะบ ะตะณะพ ะฑะตัะตะณั.
ะะฐะด ัะตะบะพะน ะธ ะปัะณะฐะผะธ ะฟะปัะปะฐ ะฟะพะปะฝะฐั ะปัะฝะฐ, ะฝะตััะบะฐั ะธ ัะฐะทะผััะฐั, ัะปะพะฒะฝะพ ะทะฐะดััะฝััะฐั ะผะฐัะปะตะน. ะัะพะณะปัะดัะฒะฐะปะธ ะทะฒัะทะดั. ะัะณะบะฐั ะผััั ะทะฐััะธะปะฐะปะฐ ะฒัั ะฝะตะฑะพ ะธ ะฝะตัะพัะพะฟะปะธะฒะพ ะฟะพะปะทะปะฐ ะฝะฐ ะฒะพััะพะบ, ะณะดะต ะฒะดะฐะปะธ ะณััะดะธะปะธัั ัััะฝัะต ะณัะพะทะพะฒัะต ัััะธ, ะพัะฒะตััะฝะฝัะต ะฟะพ ะบัะฐั ะทะตะปะตะฝะพะฒะฐััะผ ัะฒะตัะพะผ.
ะะฐัะปั ะฟะปะฐะฒะฝะพ ัะฐะทะพัะปะฐัั, ะธ ะฒ ะฟัะพัะตั
ั ะฒัะณะปัะฝัะปะฐ ะปัะฝะฐ. ะงััะฝะฐั ะฟัะพัะตั
ะฐ ะฒัััะฝัะปะฐัั ะธ ััะฐะปะฐ ะฟะพั
ะพะถะฐ ะฝะฐ ะบะธัะฐะนัะบะพะณะพ ะดัะฐะบะพะฝะฐ, ัะพัะฝะฐั ัะปัะพัะตััะตะฝัะฝะฐั ะปัะฝะฐ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ัะธัััะธะผ ะดัะฐะบะพะฝัะธะผ ะณะปะฐะทะพะผ. ะะพ ะฒะพะดะต ะฟัะพะฑะตะถะฐะปะพ ะทะตะปะตะฝะพะฒะฐัะพะต ะผะตััะฐะฝัะต, ะปััะธััะพะต ะธ ััะบะพะต, ัะปะพะฒะฝะพ ะพััะฐะถะตะฝะธะต ะฝะตะพะฝะพะฒัะน ะฒัะฒะตัะบะธ.
ะะพ ะฝะตะฑั ัะธัะบะฝัะปะฐ ะทะฒะตะทะดะฐ. ะจะตัะณะธะฝ ะทะฝะฐะป, ััะพ ะฝัะถะฝะพ ะทะฐะณะฐะดะฐัั ะถะตะปะฐะฝะธะต. ะะธัะตะณะพ ะทะฐะณะฐะดัะฒะฐัั ะฝะต ะฟัะธัะปะพัั: ะฒ ะฑะตัะตะณ ัะถะต ััะบะฝัะปัั ััะพััะฝะธะบะพะฒัะน ะฟะปะพั, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ััะพัะปะฐ ะตะณะพ ะดะพัั ะะฝะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ. ะะฝะฐ ะผะพะปัะฐ ะบะธะฒะฝัะปะฐ ะพััั ะธ ะฟะพะผะฐะฝะธะปะฐ ะตะณะพ ััะบะพะน, ะฟัะธะณะปะฐัะฐั ะฝะฐ ะฟะปะพั.
[1] ะจะธะฑะทะดะธะบ ัะดะพั (ะฝะตะผ.)
ะะปะฐะฒะฐ 13. ะะปะตะบัะฐะฝะดั ะัะธะณะพัะตะฝะบะพ. ะะปะฐัะพะฝ


— ะะฐะบ ัั ะฟะพะฟะฐะปะฐ ััะดะฐ?
ะจะตัะณะธะฝ ัะฟัะฐัะธะฒะฐะป, ะฟะพะฝะธะผะฐั ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพััั ะฒะพะฟัะพัะฐ.
ะะฝะธ ััะพัะปะธ ะฝะฐ ะฟะปะพัั, ะบะพัะพััะน ะพัะดะฐะปัะปัั ะพั ะฑะตัะตะณะฐ ัะฐะบ ะฟะปะฐะฒะฝะพ, ะฑัะดัะพ ะฟะพะด ะฝะธะผ ัะฒะตัะดั, ะฐ ะฝะต ะฒะพะดะฐ. ะจะตัะณะธะฝ ะพัะผะฐััะธะฒะฐะป ัััะฐะฝะฝะพะต ะพะดะตัะฝะธะต ะดะพัะตัะธ, ะฑะพะปััะพะต ะฒะตัะปะพ ะฒ ะตะต ััะบะต โ ะฝะตะปะตะฟะพััั ััะพะณะพ ะฟะพะดะพะฑะธั ะฟะฐัะบะพะฒะพะน ััะฐััะธ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฝะต ะฒะตัะตะปะธะปะฐ ะธ ะฝะต ัะฐะทะดัะฐะถะฐะปะฐ. ะะตัะตะถะธัะพะต ะทะฐ ััะพั ะบัะฐัะบะธะน ะฟัะพะผะตะถััะพะบ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะพะฟัััะพัะธะปะพ ะตะณะพ โ ะพะฝ ะดะฐะถะต ะฝะต ะถะดะฐะป, ััะพ ะดะพัั ะพัะฒะตัะธั. ะะพ ะพะฝะฐ ะพัะฒะตัะธะปะฐ.
— ะัะปะธ ัััะตััะฒัะตั ะดะฒะตัั, ัะพ ะบัะพ-ัะพ ะดะพะปะถะตะฝ ะฒ ะฝะตะต ะฒะพะนัะธ. ะขะฐะบ ะฟัััั ััะธะผ ยซะบัะพ-ัะพยป ะฑัะดั ั.
ะะธัะพ ะตะต ะพััะฐะถะฐะปะพ ะฑะตะทะถะธะทะฝะตะฝะฝัะน ะฟะปะพัะบะธะน ัะฒะตั, ะณัะฑั ะดะตัะถะฐะปะธ ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝัั ะฟะพะปััะปัะฑะบั, ะพั ะบะพัะพัะพะน ะจะตัะณะธะฝั ะฒะดััะณ ััะฐะปะพ ัััะฐัะฝะพ. ะะฝ ัั
ะฒะฐัะธะป ะตะต ะทะฐ ะฟะปะตัะธ, ะฒััััั
ะฝัะป, ะบัะธะบะฝัะป: ยซะะฝั!ยป, ะฝะพ ัะปัะฑะบะฐ ะฝะต ะธััะตะทะปะฐ.
— ะขั ะฒะตะดั ะผะพะน ะพัะตั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝะฝะฐ, โ ัะฐะบ ะฒะตะดั?
— ะะฝั, ัั ััะพ…
— ะั ะธ ะฒะพั. ะะพะปะถะฝะฐ ะถะต ั ะทะฝะฐัั, ััะพ ัั ะทะฐะดัะผะฐะป ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต. ะะฐะบ ะฒะธะดะธัั, ัะตะฑะต ะฒัะต ัััะดะฝะตะต ัะบััะฒะฐัั ัะพ, ัะฐะดะธ ัะตะณะพ ัั ะธ ัะต, ะบัะพ ะทะฐ ัะพะฑะพะน, ัะฐะทะฒะพัะพัะธะปะธ ัะตะปัั ัะปะธัั, ัะพะณะฝะฐะปะธ ั ะพะฑะถะธััั
ะผะตัั ะบััั ะปัะดะตะน, ัะฐะทัััะธะปะธ ะธั
ะถะธะทะฝั. ะ ะผะพั ะฒ ัะพะผ ัะธัะปะต โ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะตัััั ะพะฑ ััะพะผ?
— ะฏ ัะฐััะบะฐะถั ัะตะฑะต, โ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป ะจะตัะณะธะฝ, โ ัะฐััะบะฐะถั ะฒัะต! ะกะฐะผะพะน ะฟะตัะฒะพะน. ะะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ. ะะพโฆ ะฟะพัะพะผ, ัััั ะฟะพะทะถะต. ะะพะฒะตัั ะผะฝะต, ะดะตัะพัะบะฐ ะผะพั.
— ะฅะฐ-ั
ะฐ-ั
ะฐ, โ ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะดะตัะพัะบะฐ, โ ัะฐะบ ั ะธ ะดัะผะฐะปะฐ. ะั ะฒัะต ัะฐะบโฆ ะ ะผะฐะผะฐ ัะพะถะต ะฑัะปะพ ะฝะฐัะฐะปะฐ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐัั, ะฐ ะฟะพัะพะผ โ ั
ะปะพะฟ, ะธ ัะพั ะฝะฐ ะทะฐะผะพะบ, ะฟัะพะดะพะปะถะตะฝะธะต ะฒ ัะปะตะดัััะตะน ัะตัะธะธโฆ
— ะงัะพ?! ะงัะพ ะพะฝะฐ ัะบะฐะทะฐะปะฐ?
— ะ ะะพะฒะพะน ะะพัะบะฒะต ัััะพะธัั ะฒัะณะพะดะฝะตะตโฆ
— ะะฝะพะณะพ ะพะฝะฐ ะฟะพะฝะธะผะฐะตั, ัะฒะพั ะผะฐะผะฐ!
— ะะพะณะฐะดัะฒะฐััั, ััะพ ะฑะพะปััะต ัะตะฑั, โ ัะปัะฑะบะฐ ััะฐะปะฐ ะธะทะดะตะฒะฐัะตะปััะบะพะน, โ ะพะฝะฐ ะฒะตะดั ะณะธะดัะพะปะพะณ. ะ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ััะพ ะฑัะปะฐ ะตะต ะธะดะตั.
— ะัะผะฐะน, ััะพ ะณะพะฒะพัะธัั, ะธะดะธะพัะบะฐ ัะพะฟะปะธะฒะฐั!
ะจะตัะณะธะฝ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฝะฐะทัะฒะฐะป ะดะพัั ะพะฑะธะดะฝัะผะธ ัะปะพะฒะฐะผะธ โ ัะฐะฝะตะต ะพะฝะฐ ะฝะต ะดะฐะฒะฐะปะฐ ะฟะพะฒะพะดะฐ.
ะะฝะตะฒ ัะฐะทะฑัะดะธะป ะจะตัะณะธะฝะฐ. ะ ะถะธะทะฝะธ ะตะผั ะฟัะธั
ะพะดะธะปะพัั ะฟะตัะตะถะธะฒะฐัั ะฒััะบะพะต, ะฝะพ ะพะฝ ะทะฝะฐะป ะทะฐ ัะพะฑะพะน ะพะดะฝะพ ัะฟะฐัะธัะตะปัะฝะพะต ัะฒะพะนััะฒะพ: ะบะพะณะดะฐ ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐ ะฟัะธะฟะตัะฐะปะธ ะตะณะพ ะบ ััะตะฝะต, ะฒะดััะณ ะพัะบะปััะฐะปัั ัััะฐั
, ัะพัะบะฐ, ะผััะปะธ, ะฒ ะดััะต ะฝะฐ ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะฒะพะดะฒะพััะปะฐัั ะฐะฑัะพะปััะฝะฐั ัะธัะธะฝะฐ, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ะฝะฐัะธะฝะฐะปะธ ะทะฐะณะพัะฐัััั ะบะพะผะฐะฝะดั, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะฐะฒะฐัะธะนะฝะพะผ ัะฐะฑะปะพ. ะกะตะนัะฐั ัะฐะฑะปะพ ะฟัะธะบะฐะทัะฒะฐะปะพ โ ะฝะต ัะผะพััะตัั ะฟะพ ััะพัะพะฝะฐะผ, ะฝะต ะดัะผะฐัั, ะธะดัะธ ะพะฑัะฐัะฝะพ, ะฝะฐ ะฟะพะฒะตัั
ะฝะพััั. ะะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ. ะัะฑะพะน ัะตะฝะพะน.
— ะะฐะน-ะบะฐ, โ ะจะตัะณะธะฝ ัั
ะฒะฐัะธะปัั ะทะฐ ะฒะตัะปะพ ะฒ ััะบะฐั
ะดะพัะตัะธ โ ะดะพัั ะฝะต ะพัะดะฐะฒะฐะปะฐ, ะจะตัะณะธะฝ ัะฒะฐะฝัะป ั ัะธะปะพะน โ ะฝะธ ะดะตะฒััะบะฐ, ะฝะธ ะฒะตัะปะพ ะดะฐะถะต ะฝะต ัะตะปะพั
ะฝัะปะธัั, ะฑัะดัะพ ะฟะตัะตะด ะฝะธะผ ะธ ะฒะฟััะผั ะฑัะปะฐ ััะฐััั. ะะพัะพัะบะธะผ ะทะฐะผะฐั
ะพะผ ะจะตัะณะธะฝ ะฒะปะตะฟะธะป ะดะพัะตัะธ ะฟะพัะตัะธะฝั โ ะฑะตะนัะฑะพะปะบะฐ ัะฟะฐะปะฐ ะฒ ัะตะบั, ัะปัะฑะบะฐ ะพััะฐะปะฐัั ัะฐ ะถะต.
— ะัะฝะธัั!
ะะฝั ะผะพะปัะฐะปะฐ.
— ะะต ะฝะฐะดะพ ะฑะธัั ะดะตัะตะนโฆ
ะะพะปะพั, ะผัะณะบะธะน ะธ ัััะฐะปัะน, ะฒะพะทะฝะธะบ ะทะฐ ัะฟะธะฝะพะน ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะธ ะฟะพัะฒะธะฒัะตะตัั ัะฐะฑะปะพ ัะพ ัะฟะฐัะธัะตะปัะฝัะผะธ ะบะพะผะฐะฝะดะฐะผะธ ะผะณะฝะพะฒะตะฝะฝะพ ะพัะบะปััะธะปะพัั โ ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปะธัั ะฝะตะฟะพะฝััะฝัะต ะทะฒัะบะธ, ะผััะปะธ, ะฟัะตะดััะฒััะฒะธั.
ะะฐ ะตะณะพ ัะฟะธะฝะพะน, ะฝะฐ ะบัะฐะตัะบะต ะฟะปะพัะฐ, ัะธะดะตะป, ัะบัะตััะธะฒ ะฝะพะณะธ, ััะฐัะธะบ โ ะฟะปะตัะธะฒัะน, ะฒ ัะฐะฑะพัะตะผ ะบะพะผะฑะธะฝะตะทะพะฝะต โ ัะพั ัะฐะผัะน, ะบะพัะพัะพะณะพ ะพะฝ ะฒะธะดะตะป ั ะบะพัััะฐ ะธ ะฟัะธะฝัะป ะทะฐ ะฟัะธะทัะฐะบ, ะณะฐะปะปััะธะฝะฐัะธัโฆ ะจะตัะณะธะฝ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะป, ะบะฐะบ ััะฐัะธะบ ะฟะพะฟะฐะป ะฝะฐ ะฟะปะพั, ะฝะฐั
ะพะดะธะฒัะธะนัั ัะถะต ะฝะฐ ัะตัะตะดะธะฝะต ัะตะบะธ. ะกัะฐัะธะบ ัะปัะฑะฐะปัั โ ะตะณะพ ะทะฝะฐะบะพะผะฐั ะฒัะตะผั ะผะธัั ัะปัะฑะพัะบะฐ ะพััะฐะถะฐะปะฐัั ะฝะฐ ะปะธัะต ะะฝะฝั โ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ, ะฐ ะฝะต ะฝะฐ ะพััะฐ ะพะฝะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฒัะต ััะพ ะฒัะตะผั.
— ะะต ะฝะฐะดะพ ะฑะธัั ะดะตัะตะน, โ ะฟะพะฒัะพัะธะป ััะฐัะธะบ. โ ะะฐะบะปะธัะตัะต ัะตะฑะต ะฑะตัะฟะพะบะพะนะฝัั ััะฐัะพััั. ะขะฐะบัั, ะบะฐะบ ั ะผะตะฝั. ะะฐัะตะผ ะฒะฐะผ ััะพ? ะัะธัะฐะถะธะฒะฐะนัะตััโฆ
ะะพััะตะฟัะธะธะผะฝัะผ ะถะตััะพะผ ะพะฝ ัะบะฐะทะฐะป ะฝะฐ ะบัะฐะน ะฟะปะพัะฐ, ะธะท ะบะพัะพัะพะณะพ, ัะฐะทััะฒะฐั ะบะฐะผััะพะฒัะต ัะฒัะทะบะธ, ะฒััะพั ะธะทััะฝัะน ะทะพะปะพัะพะน ัะฐะฑััะตั.
— ะ ะฒั, ะะฝะตัะบะฐ, ัะพะถะตโฆ ะฑะตะดะฝะฐั ะฒั ะผะพั. ะััะฐัะธ, โ ะพะฝ ะพะถะธะฒะธะปัั, ะพะฑัะฐัะฐััั ะบ ะจะตัะณะธะฝั, โ ัะฒะพะธั
ั ะฝะธ ัะฐะทั ะฝะต ัะปัะฟะฝัะป. ะ ะพะฝะพ ะฒะพะฝ ะบะฐะบ ะฒััะปะพโฆ ะั, ะดะฐ ะปะฐะดะฝะพ, ะฝะต ะฟัะธะฒัะบะฐัั.
— ะ ะบะฐะบะพะผ ัะผััะปะต ยซะฝะต ะฟัะธะฒัะบะฐััยป? โ ัะฟัะพัะธะป ะพัะพัะพะฟะตะฒัะธะน ะจะตัะณะธะฝ.
— ะัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฒ ะฟััะผะพะผ, โ ะฒ ะณะพะปะพัะต ััะฐัะธะบะฐ ะฟะพัะฒะธะปะฐัั ัะฐ ะณะปัั
ะฐั ะฝะพัะบะฐ, ะบะพัะพััั ะทะฝะฐะปะธ ะบะฐะบ ะฟัะตะดะฒะตััะธะต ะฑะพะปััะพะณะพ ัะฐะทะฝะพัะฐ. โ ะะตะฝั ัะฑะธะฒะฐัั ัะตะณัะปััะฝะพ. ะะพ ะผะตะฝััะตะน ะผะตัะต ะฒ ัะพะทะพะฒัั
ะผะตััะฐั
ัะฒะพะธั
. ะะพ ะธะฝะพะณะดะฐ ะฟัะพะฑััั ะธ ะฟะพ-ะฝะฐััะพััะตะผั. ะ ะฐะทะฒะต ะฝะต ะทะฝะฐะตัะต? ะ ััะพะผ ะฝะตั ะฝะธัะตะณะพ ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะพะณะพ ะดะปั ะปัะดะตะน ะผะพะตะน ะฟัะพัะตััะธะธ, ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะฒ ะ ะพััะธะธ. ะัะต ะผะตะฝะตะต ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะพ, ััะพ ะดะตะปะฐัั ััะพ ัะฐะผัะต ะฑะปะธะทะบะธะต โ ะฒะตะดั ะธะผ ะดะฐะถะต ััะฝััััั ะฝะต ะฝะฐะดะพ. ะ ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ โ ะพะฑะธะดะฝะพ.
— ะะพะดะพะถะดะธัะต, โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะป ะจะตัะณะธะฝ, โ ะฐ ะฒ ััะพั ัะฐะทโฆ
ะะพ ััะฐัะธะบ ะฝะต ะดะฐะป ะตะผั ะทะฐะบะพะฝัะธัั.
— ะงะฐััะพ ัะตะฑั ัะฟัะฐัะธะฒะฐั ะธ ะฒ ััะพั ัะฐะท ัะฟัะพัั: ะะปะฐัะพะฝ ะะปะฐัะพะฝะพะฒะธั, ัะพะบะพะปะธะบ, ะฝั ะทะฐัะตะผ ัะตะฑะต ะฒัะต ััะพ? โ ะะฝ ะณะพะฒะพัะธะป ัะปัะฑะฐััั, ะฝะฐัะฐัะฟะตะฒ. โ ะจะตะป ะฑั ะฝะฐ ะฟะพะบะพะน. ะะพ ะฟะพะบะพั ะฝะต ะฑัะดะตั. ะะพัะพะผั ััะพ ะฟัะณะฐัั ะปัะดะตะน โ ัะปะธัะบะพะผ ะดะพัะพะณะพ. ะะฐะดะพะฑัะธัั โ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ. ะงะตะปะพะฒะตะบ ะฝะตะธัะฟัะฐะฒะธะผ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฝะตะฝะฐัััะตะฝ. ะะฐะบ ััะฐัะธะบะธ ะณะพะฒะพัะธะปะธ, ัะตัะฒั ะบะฐะฟัััั ะณะปะพะถะตั, ะฐ ัะฐะผ ะฟัะตะถะดะต ัะพะณะพ ะฟัะพะฟะฐะดะฐะตโฆ
ะะฝ ะฒััะฐะป โ ะฑัะดัะพ ะฒะทะปะตัะตะป, ัะฐะบ ััะพ ะบะพะปะตัะบะธ ะฝะฐ ะฟะพััะต ะทะฒัะบะฝัะปะธ, โ ัะฒะตัะตะฝะฝัะผะธ ะดะฒะธะถะตะฝะธัะผะธ ะฝะฐัะฐะป ะผะฐััะธัะพะฒะฐัั ะบะพะปะตะฝะธ. ะจะตัะณะธะฝ ะทะฐะผะตัะธะป, ััะพ ะฟัะตะถะฝะตะน ะดะตััะบะพะน ัะปะฐะฑะพััะธ, ะฟะพะฝััะพััะธ ะฒ ะตะณะพ ัะธะณััะต ัะถะต ะฝะตั, ะณะพะปะพั ะฝะฐะปะธะฒะฐะปัั ัะธะปะพะน.
— ะ, ะบััะฐัะธ, ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ, ะฝะต ะพัััะฒะฐััั ะพั ัะฒะพะตะณะพ ะทะฐะฝััะธั, โ ะฒ ัะฒะตัะต ะฟะพัะปะตะดะฝะธั
ัะพะฑััะธะน ะฒะฐัะต ััะฐััะธะต ะฒ ะฟัะพะตะบัะต ะฟะพะด ะฒะพะฟัะพัะพะผ. ะกะฐะผ ะฟัะพะตะบั ะพััะฐะฝะตััั, ะฐ ะฒั โ ะฒััะด ะปะธ. ะะฐะดะตััั, ะฝะต ะฝะฐะดะพ ะพะฑัััะฝััั โ ะฟะพัะตะผั?
— ะะตัะฐัั ะฑัะดัั? โ ัะธะฟะปะพ ะฟัะพะผะพะปะฒะธะป ะจะตัะณะธะฝ.
— ะฏ ะฒะฐั ัะผะพะปัั, โ ะะปะฐัะพะฝ ัะฐััะผะตัะปัั, โ ะฒะตัะฐัั ะฑัะปะพ ัะตะปะตัะพะพะฑัะฐะทะฝะพ ะปะตั ััะพ ะฝะฐะทะฐะด ะธะปะธ ั
ะพัั ะฑั ะฒ 90-ะต โ ัะพะณะดะฐ, ััะพะฑั ะฝะฐะฟัะณะฐัั ะปัะดะตะน, ะฝัะถะฝั ะฑัะปะธ ัะฐะดะธะบะฐะปัะฝัะต ััะตะดััะฒะฐ. ะ ัะตะนัะฐั ะดะพััะฐัะพัะฝะพ ะพัะฝััั ะปัะฑะธะผัะต ะธะณัััะบะธ ะธะปะธ ะดะฐะถะต ะฟัะธะณัะพะทะธัั, ััะพ ะพัะฝะธะผัั, โ ะธ ะฑัะดัั ะผััะธัััั, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะดัะฑะต. ะ ะฒัั ะฟะพะดะฟะธััั. ะัะปะธ ะฝะต ัะฑะตะณัั, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะั ััะพ ะธ ะฑะตะท ะผะตะฝั ะฟัะตะบัะฐัะฝะพ ะทะฝะฐะตัะต. ะขะฐะบ ััะพ, ะดะฐะฒะฐะนัะต ั
ะพัั ะฑั ะทะดะตัั ะฝะต ะฑัะดะตะผ ะพะฑ ััะพะผ.
— ะ ะณะดะต ััะพ ยซะทะดะตััยป? โ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฟะพะดะฐะปะฐ ะณะพะปะพั ะะฝะฝะฐ.
— ะัะตะบัะฐัะฝัะน ะฒะพะฟัะพั, ะะฝะตัะบะฐ, ะฒัะต ะถะดะฐะป, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฟัะพะทะฒััะธั. ะกะฐะผะธ-ัะพ ะบะฐะบ ะดัะผะฐะตัะต?
— ะะพััะฐะป ะฒ ะฝะธะถะฝะธะน ะผะธั. ะ ัะฐัััะฒะพ ะผะตััะฒัั
.
— ะะพะถะฝะพ ะธ ัะฐะบ ัะบะฐะทะฐัั. ะขะพะปัะบะพ ะบ ะผะตััะฒัะผ โ ะฒั
ะพะด ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฒ ะดััะณะพะผ ะผะตััะต, ะฟะพัะพะผ ัะทะฝะฐะตัะต. ะะดะตัั, ะฒะพะพะฑัะต, ะผะฝะพะณะพ ัะตะณะพ ะธะฝัะตัะตัะฝะพะณะพ. ะ ัะพ, ััะพ ะฒั ัะตะนัะฐั ะฒะธะดะธัะต, ะฟัะพัะต ะฝะฐะทะฒะฐัั ะธะทะฝะฐะฝะบะพะน. ะะธัะตะณะพ ะฝะฐััะพััะตะณะพ โ ะฝะธ ะปะตัะฐ, ะฝะธ ัะตะบะธ, ะฝะธ ะฝะตะฑะฐโฆ ะ ะฒะผะตััะต ั ัะตะผ, ััะพ ัะฐะผะพะต ััะพ ะฝะธ ะฝะฐ ะตััั ะฝะฐััะพััะตะต โ ััะพ ะพะฑัะฐะทั ะฒะตัะตะน, ะพ ะบะพัะพััั
ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะปัั ะผะพะน ะดัะตะฒะฝะตะณัะตัะตัะบะธะน ัะตะทะบะฐโฆ ะะทะฝะฐะฝะบะฐ ะฝะต ัะฐะบ ะบัะฐัะธะฒะฐ, ะบะฐะบ ะฒะตัั, ะฝะพ ะพะฝะฐ ะฟัะฐะฒะดะธะฒะฐ, ะพะฝะฐ ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐะตั, ะบะฐะบ ััะพ ัะดะตะปะฐะฝะพ. ะ ัะฐะผะฐั ะณะปะฐะฒะฝะฐั ะพัะพะฑะตะฝะฝะพััั ะทะดะตัะฝะธั
ะผะตัั โ ะพะฝะธ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐัั ะพ ะปัะดัั
ะฒะฐะถะฝัะต ะฒะตัะธ. ะัะตะฝั, ั ะฑั ัะบะฐะทะฐะป, ะธะฝัะธะผะฝัะต. ะะปะฐะฒะฝะพะต ะทะฝะฐัั, ะณะดะต ัะฟัะพัะธัั. ะะพั ะทะดะตัั, ะฟัะธัะพัะผะพะทะธัะต, ะะฝะตัะบะฐ.
ะะฝะฝะฐ ะพะฟัััะธะปะฐ ะฒะตัะปะพ, ะฟะปะพั ะทะฐะผะตั, ะธ ััะฐัะธะบ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ััะบะพะน ะฒ ััะพัะพะฝั ะปะพะถะฑะธะฝั, ัััะปะฐะฝะฝะพะน ัะตััะผ ััะผะฐะฝะพะผ.
— ะกะผะพััะธัะต ััะดะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ะจะตัะณะธะฝั. โ ะะต ะพัะฒะปะตะบะฐัััั. ะะต ะพะฑะพัะฐัะธะฒะฐัััั.
ะจะตัะณะธะฝ ะฟะพะดัะธะฝะธะปัั ะธ ััะพัะป ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะผะธะฝัั. ะะฝ ัะฒะธะดะตะป: ะฒ ัะตัะพะน ะบะธัะตะต ะฟัะพัััะฟะฐัั ะพัะตััะฐะฝะธั ัะธะณััั, ะพะฝะธ ััะฐะฝะพะฒัััั ะฒัะต ััะฝะตะต, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ะฝะฐ ะฑะตัะตะณ ะฒััะตะป ัะตะปะพะฒะตะบ โ ะฝะตะผะตัะบะธะน ัะพะปะดะฐั, ัะฐัะธัั โ ะทะฐัััะตะฝะฝัะต ััะบะฐะฒะฐ, ะบะฐัะบะฐ, ัะผะฐะนัะตัโฆ ะะตะผะตั ัะตะป ะฟะพ ะฑะตัะตะณั, ะฟะพัะพะผ ะฟะพ ะฒะพะดะต. ะจะตัะณะธะฝ ัะทะฝะฐะป ะตะณะพ ะธ ะตะดะฒะฐ ะฝะต ะทะฐะบัะธัะฐะป.
ะะตัะฒัะน ะธ ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะน ัะฐะท ะฒ ะถะธะทะฝะธ ะพะฝ ะฒะธะดะตะป ััะพะณะพ ะฝะตะผัะฐ ะปะตั ะฒ ะฟััั-ัะตััั โ ะตะผั ัะฝะธะปัั ะฑะพะน, ัะฐะบะพะน, ะบะฐะบ ะฒ ะฝะตะดะฐะฒะฝะตะผ ะบะธะฝะพ, ะฒ ะฟััะตะณะปะฐะทะพะผ ัะตะปะตะฒะธะทะพัะต ยซะ ะฐะดัะณะฐยปโฆ ะะผั ัะฝะธะปัั ะฑะพะน, ะฒัะฐะณะธ ัะฑะธะปะธ ะฒัะตั
ะฝะฐัะธั
, ะฑะพะน ััะธั
, ะฟะพ ะธะทัััะพะน ััะถะตะน ะทะตะผะปะต ััะตะปะธะปัั ะดัะผ, ะฒัะฐะณะธ ัั
ะพะดะธะปะธ, ะฝะพ ััะพั ะฝะตะผะตั ะฒะดััะณ ะทะฐะผะตัะธะป ะตะณะพ, ะจะตัะณะธะฝะฐ ะะฐัั, ะธ ะฟะพัะตะป ะบ ะฝะตะผั โ ะฒะพั ัะฐะบ, ะบะฐะบ ัะตะป ัะตะนัะฐั, โ ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปัั ะฝะฐััะพะปัะบะพ, ััะพ ะพะฝ ัะฒะธะดะตะป ะพะณัะพะผะฝัั ะฟัะณะพะฒะธัั, ะฐ ะฝะฐ ะฝะตะน ัััะฐัะฝัั ะฟัะธัั ัะพ ัะฒะฐััะธะบะพะน ะฒ ะบะพะณััั
. ะะตะผะตั ัะฝัะป ะฐะฒัะพะผะฐั, ะฟัะธััะฐะฒะธะป ะบ ะตะณะพ, ะฟะฐัะบะธะฝะพะผั, ะณะพัะปัโฆ ะะฐัะบะฐ ะทะฐะพัะฐะป ะธ ะฟัะพัะฝัะปัั.
ะก ัะตั
ะฟะพั ะฝะตะผะตั ะฝะต ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปัั, ะฝะพ ะจะตัะณะธะฝ ะฟะพะผะฝะธะป ะตะณะพ โ ะฟะพะผะฝะธะป ะธะฝะพะณะดะฐ ััะฝะตะต, ัะตะผ ะผะฝะพะณะธั
ะถะธะฒัั
. ะะต ะฑะพัะปัั ะฝะตะผัะฐ, ะฟะพัะผะตะธะฒะฐะปัั, ะธะฝะพะณะดะฐ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะป ะพ ะฝะตะผ ะดััะทััะผ, ะฝะพ โ ะฟะพะผะฝะธะป.
— ะั, ะบะฐะบ? ะัะปะธ ะทะดะตัั ะพัะบััะฒะฐัััั ะบะพัะผะฐัั ะฒะฐัะตะณะพ ัะพะทะพะฒะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ, ัะพ ะธ ะฒัะต ะพััะฐะปัะฝะพะต ะฝะต ัะฐะบะฐั ัะถ ัะฐะนะฝะฐ, โ ััะฐัะธะบ ะฟัะธััะฐะปัะฝะพ ะณะปัะดะตะป ะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะฒะธะดะธะผะพ, ัะดะพะฒะปะตัะฒะพัะตะฝะฝัะน ะตะณะพ ะพัะพัะพะฟัั; ะฟะพัะพะผ ะพะฑะตัะฝัะปัั ะฒ ััะพัะพะฝั ัะพะปะดะฐัะฐ ะธ ะบัะธะบะฝัะป: ยซะกะฒะพะฑะพะดะตะฝ!ยป ะะตะผะตั ััั ะถะต ัะฐะทะฒะตัะฝัะปัั ะธ ะธััะตะท ะฒ ััะผะฐะฝะฝะพะน ะปะพะถะฑะธะฝะต.
— ะะพะตั
ะฐะปะธ, โ ััะฐัะธะบ ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะะฝะฝะต.
— ะ ะผะฝะต ัะฐะบ โ ะผะพะถะฝะพ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ, ะพะฟััะบะฐั ะฒะตัะปะพ ะฒ ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝัั ะฒะพะดั.
— ะะฐัะตะผ? ะ ัะฒะพะตะผ ะฟัะพัะปะพะผ ะฟะพะบะฐ ะฝะธัะตะณะพ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพะณะพ ะฝะตั.
— ะะพัะตะผั ััะพ ะฝะตั?
— ะะพัะพะผั ััะพ ัั ะตัะต ัะตะฑัะฝะพะบ, ะธ ะพััะฐะฒะฐะนัั ะธะผ ะฟะพะดะพะปััะต.
— ะะฐะฒะฐะนัะต, ั ัะฐะผะฐ ะฑัะดั ัะตัะฐัั, ะบะตะผ ะผะฝะต ะพััะฐะฒะฐััััโฆ
ะจะตัะณะธะฝ ะพะฑะพัะฒะฐะป ะธั
.
— ะั ะถะธะฒะพะน ะธะปะธ ะฝะตั?
ะกัะฐัะธะบ ะฑัะดัะพ ะถะดะฐะป ััะพะณะพ ะฒะพะฟัะพัะฐ โ ะฒัััะตะฟะตะฝัะปัั ะฒะตัั.
— ะ ัะตะฑะต ัะฐะผะพะผั ะบะฐะบ ะฑะพะปััะต ะฝัะฐะฒะธััั? Nabelkรผsser ist tod, oder nicht[1]? ะัะฒะตัะฐะน!
— ะะฝะต ะฝัะถะตะฝ ัะฐะบั, ะฐ ะฝะตโฆ
— ะคะฐะบั! โ ะฒะพััะพัะถะตะฝะฝะพ ะทะฐะบัะธัะฐะป ััะฐัะธะบ. โ ะคะฐะบั โ ััะพ ัะพ, ะฒะพ ััะพ ัั ะฒะตัะธัั! ะ ัะตะฑะต ะฒะตัะธัั ัะถะต ะฝะตัะตะผ โ ะฒะตัะธะปะบะฐ ัะปะพะผะฐะปะฐัั. ะะฐะฒะฝะพ, ะตัะต ะฒ ะบะพะผัะพะผะพะปััะบะพะน ัะฝะพััะธ. ะะพะณะดะฐ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะป ะฒัะตะผ ะบะปะฐััะพะผ ะฝะฐะฟะธัะฐัั ะฟะธััะผะพ ะ ะตะนะณะฐะฝั, ััะพะฑั ัะฑัะฐะป ัะฐะบะตัั ะธะท ะะตัะผะฐะฝะธะธ, ะธ ะฟะพัะพะผ ัะฐะผ ะพัะฝะตั ะตะณะพ ะฝะฐ ะฟะพะผะพะนะบั… ะะดะธะฝ ะฒะตัะตั ะฟะพะดัะป โ ัั ะฒ ะพะฟะฟะพะทะธัะธั ะทะฐะฟะธัะฐะปัั, ะดััะณะพะน โ ะฒ ะฟะฐััะธะพัั. ะขั, ะะฐะฒะปะธะบ, ะฝะธ ะฒะพ ััะพ ะฝะต ะฒะตัะธัั, ะบัะพะผะต ัะธััะฐัะธะธ. ะ ะพะฝะฐ โ ะดะตะฒััะบะฐ ะบะพะบะตัะปะธะฒะฐั. ะ, ะทะฐ ะบะพะณะพ ัะตะฑะต ัะตะฟะตัั ะฑััั, ัั ะฝะต ะทะฝะฐะตัั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฝะต ะฒะตัะธัั ะฝะธ ะฒ ะปัะดะตะน, ะฝะธ ะฒ ะะพะณะฐ, ะฝะธ ะฒ ัััะฐะฝัโฆ ะะพ-ะพะฝ, โ ะะปะฐัะพะฝ ะปัะบะฐะฒะพ ะฟัะธัััะธะปัั, โ ะฒะธะถั, ะบะฐะบ ะฒ ัะตัะตะฟะบะต ัะฒะพะตะผ ัะธัะตัะบะธ ะทะฐะฑะตะณะฐะปะธ, ะฑัะดัะพ ัะฐัะฐะบะฐะฝั ะฝะฐ ะฟะพะถะฐัะต. ะะฐะฒะปะธะบ ัั ะธ ะตัััโฆ ะฟะฐะฒะปะธะบ.
— ะะฐะผะพะปัะธ, โ ะฟัะพัะธะฟะตะป ะจะตัะณะธะฝ, โะทะฐะผะพะปัะธ, ะณะฐะดะธะฝะฐ. ะขั ัะฐะผ ัะฐะบะพะน, ั ะทะฝะฐั…
— ะขะฐะผ, โ ะะปะฐัะพะฝ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะฟะฐะปััะตะผ ะฒะฒะตัั
, โ ัั ัะตัะธะปัั ะฑั ะผะฝะต ัะฐะบ ัะบะฐะทะฐัั? ะ ะปะธัะพ?
ะ, ะฝะต ะดะพะถะธะดะฐััั ะพัะฒะตัะฐ, ััะฐัะธะบ ะฝะฐัะฐะป ัะธั
ะพะฝะตัะบะพ ัะผะตััััั โ ะผะตะปะบะธะผะธ ะฟะปะตะฒะบะฐะผะธ ัะผะตั
ะปะตัะตะป ะฒ ะปะธัะพ ะจะตัะณะธะฝะฐ.
ะะปะฐัะพะฝ, ะทะฐะดัั
ะฐััั, ัะธะปะธะปัั ะตัะต ััะพ-ัะพ ัะบะฐะทะฐัั, ะฝะพ ะฝะต ัะผะพะณ โ ะฑะตะทะทะฒััะฝะพ ะพะฟะธัะฐะฒ ะดัะณั, ะฝะฐ ะตะณะพ ะณะพะปะพะฒั ะพะฑัััะธะปะพัั ะดััะฐะปะตะฒะพะต ะฒะตัะปะพ. ะกะปะพะถะธะฒัะธัั, ะบะฐะบ ะฑัะพัะตะฝะฝะฐั ะผะฐัะธะพะฝะตัะบะฐ, ััะฐัะธะบ ัะบะฐัะธะปัั ะฒ ะฒะพะดั, ะฝะต ะพััะฐะฒะธะฒ ะฝะธ ะฒะพะปะฝั, ะฝะธ ะบััะณะพะฒ.
— ะะต ะฟะตัะตะฝะพัั, ะบะพะณะดะฐ ะฝะฐะด ัะพะฑะพะน ะธะทะดะตะฒะฐัััั, โ ะณะพัะดะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั. ะ, ะฟัะตะถะดะต ัะตะผ ะจะตัะณะธะฝ ััะฟะตะป ัะฐัะบัััั ัะพั, ะฟัะพะดะพะปะถะธะปะฐ. โ ะะฐะดะพะตะปะพ โ tod, oder nicht… ะ ัะฐะบ โ ั ะฝะฐั ะตััั ั
ะพัั ะบะฐะบะฐั-ัะพ ัะฒะตัะตะฝะฝะพััั.
ะะฝะธ ะณะปัะดะตะปะธ ะฝะฐ ะณะปะฐะดะบัั ะฟะปะตะฝะบั ะฒะพะดั, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะน ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ, ะบัะพะผะต ะพััะฐะถะตะฝะธะน ะธ ัะพะณะพ ะฝะตะฟะพะฝััะฝะพะณะพ ะฟัะตะดะผะตัะฐ ัะธะปะธะฝะดัะธัะตัะบะพะน ัะพัะผั, ะฟะปัะฒัะตะณะพ ะฒ ะดะตัััะบะต ะผะตััะพะฒ ะพั ะฟะปะพัะฐ. ะะท ัะตะบะธ ะฟะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะผะฐะปะตะฝัะบะฐั ััะบะฐ, ะฝะต ัะฟะตัะฐ ะฒะทัะปะฐ ะฟัะตะดะผะตั ะธ ัะฒะปะตะบะปะฐ ะฟะพะด ะฒะพะดั. ะขัั ะถะต ัะตะบะฐ ะฝะฐัะฐะปะฐ ะผะตะปะตัั, ะบะฐะบ ะฒะฐะฝะฝะฐ, ะธะท ะบะพัะพัะพะน ะฒัะฝัะปะธ ะฟัะพะฑะบั, ะธ ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะพ ะฝะฐะบัะตะฝะธะปะพัั, ัั
ะพะดั ะณะพัะธะทะพะฝัะพะผ ะฒ ะฑะตะทะดะฝั, ะธ ัะตะบะฐ ะฟัะตะฒัะฐัะธะปะฐัั ะฒ ะณะพัะฝัะน ะฟะพัะพะบ, ัะทะบะธะน ะธ ะทะปะพะน, ะธ ะฟะพะฝะตัะปะฐ ะฟะปะพั ั ัะฐะบะพะน ัะบะพัะพัััั, ััะพ ะพะณะพะปะตะฝะฝะพะต ัััะปะพ ะธ ะทะฐัะพัะปะธ ะฝะฐ ะฑะตัะตะณะฐั
ัะปะธะปะธัั ะฒ ะพะดะฝั ัะตััั ะปะตะฝัั.
***
ะฃ ะฒัะตั
ะทะฐะณะฐะดะพัะฝัั
ัะฒะปะตะฝะธะน โ ัะฝะตะถะฝะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ะปะพั
ะฝะตััะบะพะณะพ ััะดะพะฒะธัะฐ, ะปะตัะฐััะธั
ัะฐัะตะปะพะบ, ะปะตะฒะธัะธััััะธั
ะฐัะบะตัะพะฒ ะธ ะฟัะพัะตะณะพ โ ะตััั ะพะดะฝะพ ะพะฑัะตะต ัะฒะพะนััะฒะพ. ะะธะดัั ะธั
ัะตะณัะปััะฝะพ, ะพะดะฝะฐะบะพ ั ะพัะตะฒะธะดัะตะฒ ะฐ) ะบะฐะบ ะฝะฐะทะปะพ, ะฝะตั ะฟะพะด ััะบะพะน ะฝะธะบะฐะบะพะน ัะธะบัะธััััะตะน ะฐะฟะฟะฐัะฐัััั; ะฑ) ะฐะฟะฟะฐัะฐัััะฐ ะตััั, ะฝะพ ะฒ ัะพั ัะฐะผัะน ะผะพะผะตะฝั ะพะฝะฐ ััะฐะฑะฐััะฒะฐะตั ะฝะฐััะพะปัะบะพ ะณะฐะดะบะพ, ััะพ ะฒัะดะฐะตั ะบะฐะบะธะต-ัะพ ัะฐะทะผัััะต ัะธะปัััั ะธ ะฟััะฝะฐ. ะ ะพะฑะพะธั
ัะปััะฐัั
ะพัะตะฒะธะดัั ะฟัะพััั ะฟะพะฒะตัะธัั ะธะผ ะฝะฐ ัะปะพะฒะพ. ะ ัะฐะบ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตััั ะฑะตะท ะผะฐะปะพะณะพ ะปะตั ััะพ.
ะฆะตะฟั ะดะพัะฐะดะฝัั
ะฝะตะดะพัะฐะทัะผะตะฝะธะน ะฟัะตัะฒะฐะปะฐัั ะฝะฐ ัะฒะฐะดะตะฑะฝะพะผ ัะพัะพะณัะฐัะต ะญะดัะฐัะดะต ะะพัะธะดะพัะพะฒะต. ะ ัะพั ะดะตะฝั, ััะฝัะน, ะฝะต ะฟะพ-ะพัะตะฝะฝะตะผั ัะตะฟะปัะน, ะพะฝ ัะฝะธะผะฐะป ะฑัะฐะบะพัะพัะตัะฐะฝะธะต ะฟะพัะพะผััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ะณะฐะทะพัะปะตะบััะพัะฒะฐััะธะบะฐ ะะปะตะบัะฐะฝะดัะฐ ะคะตัะดะธะฝะฐะฝะดะพะฒะธัะฐ ะะตัะณะตะฝัะตะนะดะตัะฐ ะธ ัะฝะพะน ะะฝะถะตะปะธะบะธ, ะดะพัะตัะธ ะฒะปะฐะดะตะปััะฐ ะผะฐะปะพะณะพ ะฟัะตะดะฟัะธััะธั ะฟะพ ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒั ะผััะฝัั
ะฟะพะปััะฐะฑัะธะบะฐัะพะฒ ยซะะฐะฑััะบะธะฝ-steakยป ะะธะบะพะปะฐั ะคะตะดะพัะพะฒะธัะฐ, ัะพะพัะฒะตัััะฒะตะฝะฝะพ, ะะฐะฑััะบะธะฝะฐ.
ะกะฒะฐะดัะฑะฐ ะฑัะปะฐ ะผะฝะพะณะพะปัะดะฝะพะน, ัะถะต ั
ะพัะพัะพ ะฟะพะดะณัะปัะฒัะตะน, ะพััะตะณะพ ะะพัะธะดะพัะพะฒั ััะพะธะปะพ ัััะดะพะฒ ัะพะฑัะฐัั ะฒัะตั
ะดะปั ะพะฑัะตะณะพ ัะฝะธะผะบะฐ ะฝะฐ ัะพะฝะต ัะตะปะตะฑะฝะพะณะพ ะธััะพัะฝะธะบะฐ, ัะปัะฒัะตะณะพ ะดะพััะพะฟัะธะผะตัะฐัะตะปัะฝะพัััั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะะตะฝะธััะตะฒัะบะพะณะพ ัะตะปััะพะฒะตัะฐ, ะฝะพ ะธ ะฒัะตะณะพ ัะฐะนะพะฝะฐ. ะััะพัะฝะธะบ ะฒััะตะบะฐะป ะธะท ะฑะพะปััะพะน, ัะฒะตะฝัะฐะฝะฝะพะน ะบัััะตะน ั ะบัะดััะฒัะผะธ ะฝะฐะปะธัะฝะธะบะฐะผะธ, ัััะฑั, ะบะพัะพัะฐั ัะพััะฐะปะฐ ะธะท ะพะฑััะฒะฐ ะฝะฐ ะฒััะพัะต ะฑะพะปะตะต ะฟะพะปััะพัะฐ ะผะตััะพะฒ. ะญะดัะฐัะด ะฝะต ะฝะฐะดะตัะปัั, ััะพ ะณะพััะธ ะฑัะดัั ะถะดะฐัั ยซะฟัะธัะบัยป, ะฟะพััะพะผั ะฒัััะฐะฒะธะป ะฝะฐ ะบะฐะผะตัะต ะฒััััั ัะบะพัะพััั ััะตะผะบะธ โ ะฟััั ะบะฐะดัะพะฒ ะฒ ัะตะบัะฝะดั.
ะกะฝะธะผะฐั, ัะฒะธะดะตะปโฆ ะะท ัััะฑั, ะฑัะดัะพ ะธะท ะฟััะบะธ โ ัะพะปัะบะพ ะฑะตะท ะทะฒัะบะฐ, ะฒัะปะตัะตะปะธ ะดะฒะฐ ัะตะปะฐ, ะฑะพะปััะพะต ะธ ะฟะพะผะตะฝััะต, ะธ ะธััะตะทะปะธ ะฒ ะทะฐัะพัะปัั
ัะฐะปัะฝะธะบะฐ. (ะะพะทะดะฝะตะต, ะพัะผะฐััะธะฒะฐั ัะฝััะพะต, ะะพัะธะดะพัะพะฒ ัะฑะตะดะธะปัั โ ัะตะฝะพะผะตะฝ ะทะฐะฟะตัะฐัะปะตะฝ ะพั ะฝะฐัะฐะปะฐ ะดะพ ะบะพะฝัะฐ ะธ ะฒ ะธะดะตะฐะปัะฝะพะผ ะบะฐัะตััะฒะต.) ะกะฒะฐะดัะฑะฐ, ััะพัะฒัะฐั ะบ ัะตะฝะพะผะตะฝั ััะปะพะผ, ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะฐ ะธ ะฝะต ัะปััะฐะปะฐ. ะกะฒะฐะดัะฑะฐ ัะพัะพะฟะธะปะฐัั, ะฝะฐัะฐะปะฐ ััะผะฝะพ ัะฐััะฐะถะธะฒะฐัััั ะฟะพ ะผะฐัะธะฝะฐะผ, ะธ ัะพะปัะบะพ ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะผะพะผะตะฝั ะบัะพ-ัะพ ะฟะพะด ะพะฑัะธะน ั
ะพั
ะพั ะบัะธะบะฝัะป ะฒัะปะตะด ัะพัะพะณัะฐัั, ััััั ััััะตะผะธะฒัะตะผััั ะบ ัะฐะปัะฝะธะบะพะฒัะผ ะทะฐัะพัะปัะผ: ยซะะฐะปะธะดะพั! ะะฐะฒะฐะน ะทะดะตัั, ะฒัะต ัะฒะพะธยป.
ะขะพ, ััะพ ะญะดัะฐัะด ัะฒะธะดะตะป ะฒ ะบัััะฐั
, ะฟะพัะฐะทะธะปะพ ะตะณะพ ะฝะต ะผะตะฝััะต, ัะตะผ ัะฐะผ ะฟะพะปะตั โ ะผัะถัะธะฝะฐ ะธ ะดะตะฒััะบะฐ ัะฟะฐะปะธ. ะกะฒะตัะปะฐั ะณะพะปะพะฒะบะฐ ะดะตะฒััะบะธ ะปะตะถะฐะปะฐ ะฝะฐ ะพัะบะธะฝััะพะน ััะบะต ะผัะถัะธะฝั. ะะฝััะธะฝะบัะธะฒะฝะพ ัะพัะพะณัะฐั ัะดะตะปะฐะป ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะบะฐะดัะพะฒ ะธ ัะฐะณะฝัะป ะฒะณะปัะฑั ะทะฐัะพัะปะตะนโฆ
ะะพ ัะฒะฐะดัะฑะฐ ะฝะต ั
ะพัะตะปะฐ ะถะดะฐัั, ะฑะตัะตะฝะพ ัะธะณะฝะฐะปะธะปะฐ, ะฒัะบัะธะบะธะฒะฐั ะตะณะพ ะธะผัโฆ ะะฐะฑััะบะธะฝ ะฟะปะฐัะธะป ัะตะดัะพ, ั ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ ััะธ ะผะตัััะฐ ะฝะต ะฑัะปะพ ะทะฐะบะฐะทะพะฒโฆ ะกะปะพะถะธะฒ ะดัะพะถะฐัะธะต ะฟะตัััั, ะพะฝ ะฟะตัะตะบัะตััะธะป ัะฟััะธั
ะธ ะทะฐัััะธะป ะพะฑัะฐัะฝะพ, ะฝะต ะพะฑัะฐัะฐั ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั ะฝะฐ ะบะฐะผะตัั, ะบะพัะพัะฐั ะฑะพะปัะฝะพ ะฑะธะปะฐ ะฟะพ ะฟัะทั, ะฐ ะพะฝะพ ั ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ ะฑัะปะพ ะฑะพะปััะพะต, ะบะฐะบ ะธ ะฒัะต ะฟัะพัะตะต.
ะะตัั ะพััะฐัะพะบ ะดะฝั ะญะดัะฐัะด ะฑัะป ัะพััะตะดะพัะพัะตะฝะฝะพ-ะผะพะปัะฐะปะธะฒ.
***
ะะพะณะดะฐ ั ะฟะฐะฟั ะฟะพัะฒะปัะปะพัั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฒะพะฑะพะดะฝัั
ะดะฝะตะน, ะพะฝ ััะฐะถะธะฒะฐะป ะะฝะตัะบั ััะดะพะผ ั ัะพะฑะพะน ะฝะฐ ะดะธะฒะฐะฝ ะธ, ะทะฐะณะฐะดะพัะฝะพ ัะปัะฑะฐััั, ัะฟัะฐัะธะฒะฐะป: ยซะั, ััะพ โ ะฟะพะตะดะตะผ ะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั?ยป ะะฝะตัะบะฐ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะปะฐัั, ััะพ ััะพ ยซะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดัยป ะฝะฐั
ะพะดะธััั ะฒ ะกะตะฝ-ะขัะพะฟะต, ะะฐัะธะถะต, ะฒ ะัะฑะปะธะฝะต ะธะปะธ ะงะตัะฐะปั, ะณะดะต ั ะจะตัะณะธะฝัั
ะฑัะปะฐ ะฒะธะปะปะฐ, ะฝะตะฑะพะปััะฐั, ะฝะพ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะฐั. ะะฟัะพัะตะผ, ะธ ะผะฝะพะณะธะต ะดััะณะธะต ะณะพัะพะดะฐ ะผะธัะฐ ะฑัะปะธ ะตะน ั
ะพัะพัะพ ะทะฝะฐะบะพะผั; ะฝะตะบะพัะพััะต โ ะฝะฐััะพะปัะบะพ, ััะพ ะพะฝะฐ ะผะพะณะปะฐ ัะทะฝะฐัั ะธั
ั ะทะฐะฒัะทะฐะฝะฝัะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ โ ะฟะพ ะฒะพะทะดัั
ั, ะทะฒัะบะฐะผ ะธ ะทะฐะฟะฐั
ะฐะผ. ะะดะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะต, ะพ ัะตะผ ะพะฝะฐ ะดะฐะถะต ะฝะต ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะปะฐัั ะบ ัะฒะพะธะผ ัะตะผะฝะฐะดัะฐัะธ ะณะพะดะฐะผ, ััะพ ยซะดััะณะธะต ะณะพัะพะดะฐยป, ะธ ะดะฐะถะต ะฝะต ัะพะฒัะตะผ ะณะพัะพะดะฐ, ะฑัะฒะฐัั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฒ ะะฒัะพะฟะตโฆ ะะพะทะดัั
, ะทะฒัะบะธ ะธ ะทะฐะฟะฐั
ะธ ะทะดะตัั ะฑัะปะธ ัะฐะบะธะต, ะบะฐะบะธะต ะพะฝะฐ ะฝะต ะฒัััะตัะฐะปะฐ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะธ ะฝะธะณะดะต โ ะธ ะะฝะตัะบะต ะฒะดััะณ ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะพะฝะฐ ะฝะฐ ะดััะณะพะน ะฟะปะฐะฝะตัะต, ะบัะดะฐ ะฑะพะปะตะต ะดะฐะปะตะบะพะน, ัะตะผ ัะพ ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะต ัะฐัััะฒะพ, ะฟะฐะผััั ะพ ะบะพัะพัะพะผ ะฑัะปะฐ ััะตััะฐ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝัะผ ัะฝะพะผ ะธ ะฒะพัััะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐะปะฐัั ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะบะฐะบ ะพัะตะฝั ะดะฐะปะตะบะพะต ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะต. ะะฝะธ ัะปะธ ะฟะพ ะฟััััะฝะฝะพะผั ัะพััะต, ัะตัะดัะต ะตะต ะบะพะปะพัะธะปะพัั ะฟัะธ ะฒะธะดะต ะณะพัะธะทะพะฝัะฐ, ะธัะฟะตััะตะฝะฝะพะณะพ ัััะฐะฝะฝัะผะธ ัััะพะตะฝะธัะผะธ, ะฐ ะบะพะณะดะฐ ะฟะตัะตะด ะฝะตะน ะฒะพะทะฝะธะบ ะฑะตะปัะน ะดะพัะพะถะฝัะน ะทะฝะฐะบ ั ััะดะพะฒะธัะฝะพะน ะฝะฐะดะฟะธััั ยซะะตะฝะธััะตะฒะพยป, ะฝะพะณะธ ะพะฑะผัะบะปะธ, ะะฝะตัะบะฐ ะฒัะตะฟะธะปะฐัั ะฒ ััะบะฐะฒ ะพััะพะฒัะบะพะณะพ ะฟะปะฐัะฐ ะธ ะทะฐะฟะปะฐะบะฐะปะฐ: ยซะะฐะฟะพัะบะฐ, ะณะดะต ะผัโฆ ะฟะฐะฟะพัะบะฐ, ะทะฐะฑะตัะธ ะผะตะฝัโฆยป
ะจะตัะณะธะฝ ะณะปะฐะดะธะป ะตะต ะฒะพะปะพัั ะธ ะฟะพะฒัะพััะป ะพัะธะฟัะธะผ ะณะพะปะพัะพะผ: ยซะขะธั
ะพ, ะดะตัะพัะบะฐโฆ ัะธั
ะพโฆ ะฒัะต ัะตัะธะผยป. ะกะพะดะตัะถะธะผะพะต ะณะพัะธะทะพะฝัะฐ ะตะผั, ะฒ ะพัะปะธัะธะต ะพั ะดะพัะตัะธ, ะฑัะปะพ ะทะฝะฐะบะพะผะพ โ ั
ะพัั ะฑั ะฟะพ ัััะดะตะฝัะตัะบะพะน ัะฝะพััะธ โ ะฒะพั ัะตัะผะฐ, ะดะพะปะถะฝะพ ะฑััั, ะทะฐะฑัะพัะตะฝะฝะฐั, ะฒะพั ะดะพะผ ััะดะพะผ ั ะฝะตะนโฆ ะะดะฝะฐะบะพ ะฒัะต ะพััะฐะปัะฝะพะต ะพััะฐะฒะฐะปะพัั ััะณะพััะฝะพะน ะทะฐะณะฐะดะบะพะน. ะะพ ะฟัะพะฟะฐะฒัะตะต ัะฐะฑะปะพ ะฟะพัะฒะธะปะพัั ะฒะฝะพะฒั ะธ ะทะฐัะฒะตัะธะปะพัั ะพะดะฝะธะผ ะทะตะปะตะฝัะผ ัะปะพะฒะพะผ ยซะฒะฟะตัะตะดยป, ะธ ััะพ ะฝะตะผะฝะพะณะพ ััะฟะพะบะพะธะปะพ ะตะณะพ.
ะะฐ ะณะพัะธะทะพะฝัะต ะผะตััะฐะปะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะพะณะพะฝัะบะพะฒ, ะฒะพะทะฝะธะบ ะตัะต ะพะดะธะฝ โ ะพะฝ ะฟัะธะฑะปะธะถะฐะปััโฆ
ะกะฒะตั ะธะทะปััะฐะปะฐ ััะตัะฝัะฒัะฐั ัะฐัะฐ ัะบััะตัะฐ ยซะฏะผะฐั
ะฐยป, ะฒัะต ะธะทัะฐะฑะพัะฐะฝะฝะพะต, ะธะทะฑะธัะพะต ัะตะปะพ ะบะพัะพัะพะณะพ ััะพะฝะฐะปะพ ะฟะพะด ััะถะตัััั ัััะธ ัะพัะพะณัะฐัะฐ ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ. ะะพะถะดะฐะฒัะธัั, ะฟะพะบะฐ ัะฒะฐะดัะฑะฐ ัะฐะทะดะตะปะธััั ะฝะฐ ััะฐััั ะธ ะผะพะปะพะดัั ะฟะพะปะพะฒะธะฝั โ ะผะพะปะพะดะฐั ัะนะดะตั ะฒะตัะตะปะธัััั ะดะฐะปััะต, ััะฐัะฐั ะพััะฐะฝะตััั ะฟะธัั ัะฐะน, ะพะฑััะถะดะฐัั ะฒะธะดั ะฝะฐ ััะพะถะฐะน ะธ ััะณะฐัั ะฝะฐัะฐะปัััะฒะพ โ ะธ ัะฝะธะผะฐัั ััะฐะฝะตั ะฝะตัะตะณะพ, ะญะดัะฐัะด ะพัะตะดะปะฐะป ัะบััะตั ะธ ัะฒะฐะฝัะป ะดะพะผะพะน. ะะธะป ะพะฝ ัะพะฒัะตะผ ััะดะพะผ, ะฒ ัะฐะนัะตะฝััะต, ัะพ ะตััั ะฒ ััะธะดัะฐัะธ ะฟััะธ ะบะธะปะพะผะตััะฐั
ะพั ะะตะฝะธััะตะฒะฐ, ะฟะพััะพะผั ัะฐัะฐ ัะตัะตะท ะดะฒะฐ ัะฝะธะผะบะธ ัะตะฝะพะผะตะฝะฐ ะดะพะปะถะฝั ะฟะพัะฒะธัััั ะฒ ะกะตัะธ, ะธ ั ัะตะปััะบะพะณะพ ัะฒะฐะดะตะฑะฝะพะณะพ ัะพัะพะณัะฐัะฐ ะฝะฐัะฝะตััั ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะฐั ะถะธะทะฝัโฆ ะะพ ะฒ ะดะพัะพะณะต ะผััะปะธ ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ ัะผะตัะฐะปะธัั: ะพะฝ ะฟะพะฝะธะผะฐะป, ััะพ ัะตะฝะพะผะตะฝ ะฒะตัั ะฒ ะตะณะพ ะฒะปะฐััะธ, ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะผะพะถะตั ะพะฟะตัะตะดะธัั ะตะณะพ, ะธ ะผะธั ะฝะต ะฟะตัะตะฒะตัะฝะตััั, ะตัะปะธ ัะดะธะฒะธััั ัััั ะฟะพะทะถะตโฆ ะ ัะพะผั ะถะต ัะตะฝะพะผะตะฝ ะฟะพััะตะฑัะตั ะพะฑัััะฝะตะฝะธะนโฆ ะ ะตัะตโฆ ัะฐะผ, ะฒ ัะฐะปัะฝะธะบะต, ะถะธะฒัะต ะปัะดะธ โ ะฐ ัะฐะบ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะธ ะณะปัะฑะพะบะพ ะดััะฐั ัะพะปัะบะพ ะถะธะฒัะต ะธ ัะฟััะธะตโฆ ะะพะถะตั, ะพะฝะธ ะฟะตัะตะปะพะผะฐะปะธัั? ะะพะถะตั, ะธั
ะฝะฐัะตะป ะบัะพ-ัะพ ะดััะณะพะน? ะ ะผะพะถะตัโฆ
ะะพัะธะดะพัะพะฒ ัะฐะทะฒะตัะฝัะปัั ะฝะฐ ะฟะพะปะฟััะธ, ัะณะพะดะธะฒ ะบะพะปะตัะพะผ ะฒ ะณะปัะฑะพะบัั ะปัะถั, ะธ ะฒะพั ัะตะฟะตัั ะพะฝ ััะพัะป ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ. ะะธะด ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผะพะณะพ, ะฝะพ ะฝะตัะพะผะฝะตะฝะฝะพ ะถะธะฒะพะณะพ ะธ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ัััะฐัะฝะพะณะพ, ะตะณะพ ะฟะตัะฒัะต ัะปะพะฒะฐ: ยซะะพั ะพะฝะธ, ะบัะฐัะฐะฒััยป โ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ััะฟะพะบะพะธะปะธ ะะฝั โ ะพะฝะฐ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปะฐัั, ะบะฐะบ ัะฐะดัะตััั ะทะฐะฑะปัะดะธะฒัะธะนัั ะฒ ะปะตัั, ััะปััะฐะฒ ะดะฐะปะตะบะธะน ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะธะน ะณะพะปะพั.
ะ ะฐะทะณะพะฒะพั ะตะต ะพััะฐ ั ะญะดัะฐัะดะพะผ โ ะพะฝ ััะฐะทั ะฟัะตะดััะฐะฒะธะปัั โ ะฟะพั
ะพะดะธะป ะฝะฐ ะฑะตัะตะดั ะทะดะพัะพะฒะพะณะพ ั ะดััะตะฒะฝะพะฑะพะปัะฝัะผ. ะะดะพัะพะฒัะผ, ัะฐะทัะผะตะตััั, ะฑัะป ะฑะพัะพะดะฐััะน ัะพะปัััะบ. ะจะตัะณะธะฝ ะดะพะปะณะพ ะพะฑัััะฝัะป ะตะผั, ะบัะพ ะพะฝ, ะฟะตัะตัะธัะปัั ะฒัะต ัะฒะพะธ ะดะพะปะถะฝะพััะธ, ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะป ะพ ะทะดะฐะฝะธัั
, ะบะพัะพััะต ัััะพะธะป, ะฐ ัะพะปัััะบ ัะปััะฐะป ะตะณะพ ั ัะพัััะฐะดะฐัะตะปัะฝัะผ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะตะผ ะธ ัะตัะฟะตะฝะธะตะผ โ ัะฐะบ ะฒะตะถะปะธะฒัะน ัะตะปะพะฒะตะบ ะฒััะปััะธะฒะฐะตั ัะธั
ะพะณะพ ะธะดะธะพัะฐ. ะะพะบัะผะตะฝัะพะฒ ั ะฝะธั
ะฝะต ะฑัะปะพ, ัะตะปะตัะพะฝะพะฒ ัะพะถะต, ะพะดะตะถะดะฐ ััะฟะตะปะฐ ะฟัะพัะพั
ะฝััั, ะฝะพ ะฒัะณะปะฐะดะธัััั ะฝะต ััะฟะตะปะฐโฆ
— ะะดะต ะผั? โ ัะฟัะพัะธะป ะจะตัะณะธะฝ
ะขะพะปัััะบ, ั ัะตะผ ะถะต ัะบะพัะฑะฝัะผ ะฒััะฐะถะตะฝะธะตะผ ะฝะฐ ะปะธัะต, ะฟัะพะดะธะบัะพะฒะฐะป ัะตะณะธะพะฝ, ัะฐะนะพะฝ โ ะผะตััะฝะพััั ะฝะฐั
ะพะดะธะปะฐัั ะฒ ะดะฒัั
ัััััะฐั
ะบะธะปะพะผะตััะพะฒ ะพั ะะะะะฐ.
ะะพัะพะผ ะพะฝ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะพััะฐ ะบะฐะผะตัั ะธ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะจะตัะณะธะฝั ัะพ, ััะพ ัะฝัะป, ะธ ะดะพะปะณะพ, ะฒะทััะบัััะต ะณะปัะดะตะป ะฝะฐ ะฝะตะณะพ. ะจะตัะณะธะฝ ะทะฐะผะพะปะบ ะธ ะฑัะดัะพ ะพัะตะฟะตะฝะตะป, ัะบะฐะทะฐะป ัะพะปัะบะพ: ยซะะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะผะฝั. ะะธัะตะณะพยป. ยซะ-ะดะฐ, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ัะพัะพะณัะฐั, ัะฟัััะฐะป ะบะฐะผะตัั ะฒ ะบะพัั, ััะผะฝะพ ะฟัะธะฝัั
ะฐะปัั, โ ะฒัะพะดะต ัะพะณะพโฆ ัะฒะตัะตะทัะตยป.
ะะฝัััะธ ั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะทะฐะณะพัะตะปะพัั ัะฐะฑะปะพ: ยซะขั ัะตะปะตัะพะฝ-ัะพ ั ะฝะตะณะพ ะฟะพะฟัะพัะธ, ัั
โฆยป โ ะธ ะจะตัะณะธะฝ ะดะฐะถะต ะฟะพะดะฟััะณะฝัะป, ัะฟัะพัะธะป ัะตะปะตัะพะฝ, ัะบะฐะทะฐะป โ ะพะดะธะฝ ะทะฒะพะฝะพะบ, ะธ ะฒัะต ะฟัะพััะฝะธััั, ะฒัะต ัะปะฐะดะธััั.
— ะะพะปะผะฐัะพะฒ! โ ะพะฝ ะบัะธะบะฝัะป ัะฐะบ, ััะพ ะธ ะะฝั, ะธ ัะพะปัััะบ ะฒะทะดัะพะณะฝัะปะธ. โ ะกัะพะฟ, ะฐ ะณะดะต ะะพะปะผะฐัะพะฒ? ะะธะทะฐ, ััะพ ะฒัโฆ โ ะฝะฐัััะฟะธะปะฐ ะฟะฐัะทะฐ, ะธ ะะฝั ัะฒะธะดะตะปะฐ: ะปะธัะพ ะพััะฐ ะฟัะตะฒัะฐัะฐะตััั ะฒ ะฝะตะบะพะต ะฟะพะดะพะฑะธะต ัะฟะพะฝัะบะพะน ัััะฐัะฝะพะน ะผะฐัะบะธ.
โ ะัะพ ะณะตะฝะตัะฐะปัะฝัะน? ะะพะปะผะฐัะพะฒ ะณะตะฝะตโฆ ะั ัะฐะผ ัะฒะธั
ะฝัะปะธัั ะฒัะต? ะะฐะบะพะน ัะพะฒะตั ะดะธัะตะบัะพัะพะฒ? ะะฐะบ ะพะฝ ะผะพะณ ััะพ-ัะพ ัะตัะธัั ะฑะตะท ะผะตะฝั?! ะั ัะฐะผ ัะฒะธั
ะฝัะปะธัั ะฒัะต?! ะะพะปะผะฐัะพะฒะฐ ะผะฝะต! ะัะปะตะน!
ะะฝ ััะพ-ัะพ ะตัะต ะบัะธัะฐะป, ะฝะพ ัะตะปะตัะพะฝ ะพัะฒะตัะฐะป ะบะพัะพัะบะธะผะธ ะณัะดะบะฐะผะธ. ะกะธะปั ะพััะฐะฒะธะปะธ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ัะตะปะตัะพะฝ ะฒััะบะพะปัะทะฝัะป ะธะท ะตะณะพ ะปะฐะดะพะฝะธ ะธ ัะฐะทะฑะธะปัั ะฑั โ ะะฝั ะฟะพะดั
ะฒะฐัะธะปะฐ. ะะฐะฟะปะตัะฐััะธะผะธัั ะฝะพะณะฐะผะธ ะจะตัะณะธะฝ ะฟะตัะตะผะตััะธะปัั ะฝะฐ ะพะฑะพัะธะฝั, ะพะฝ ััะพัะป, ัั
ะฒะฐัะธะฒัะธัั ะทะฐ ะณะพะปะพะฒั, ะธ ะฟะพะฒัะพััะป ะผะพะฝะพัะพะฝะฝะพ: ยซะขะฒะฐัะธโฆ ัะฒะฐัะธ ะฟัะพะดะฐะถะฝัะตโฆ ััะพ ะถะต ะทะฐ ะดะตะฝั ัะฐะบะพะน, ะะพัะฟะพะดะธโฆ ัะฐะบะพะน ะดะปะธะฝะฝัะน ะดะตะฝัยป.
— ะะพะถะฝะพ ะผะฝะต? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั ัะพัะพะณัะฐัะฐ.
— ะะพะฟัะพะฑัะน.
ะะฝะฐ ะฝะฐะฑัะฐะปะฐ ะฝะพะผะตั ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ โ ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะน, ะบะพัะพััะน ะทะฝะฐะปะฐ ะฝะฐะธะทัััั, โ ะฝะต ะฟะพ ะฑะพะปััะพะน ะดััะถะฑะต, ะฐ ะธะท-ะทะฐ ัะฐะผะธั
ัะธัั โ 999 888 77 66.
— ะัะธะฒะตัโฆ
— ะขะตะฑั ะธััั! ะขั ะณะดะต? โ ะฟัะพะผัะผะปะธะปะฐ ัััะฑะบะฐ.
— No time to explain, buddy,[2] โ ะะฝั ััะฐัะฐะปะฐัั ะณะพะฒะพัะธัั ะฝะตะฑัะตะถะฝะพ, ะดะฐะถะต ัะฐะทะฒัะทะฝะพ, ะฝะพ ะณะพะปะพั ะทะฐะผะตัะฝะพ ะฟะพะดัะฐะณะธะฒะฐะป, โ ัะบะฐะถะธ ะปัััะต, ัั ะตัะต ะฝะต ะฒัะต ัะฒะพะต ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ ะฟัะพะผะพัะฐะป ะฝะฐ ะฒะตัะตัะธะฝะบะฐั
?
— ะะต ะฒัะต.
— ะะฝะต ััะพัะฝะพ ะฝัะถะฝั ะดะตะฝัะณะธ.
ะขััะฑะบะฐ ะฟะพะผะพะปัะฐะปะฐ ะธ ะฟัะพะธะทะฝะตัะปะฐ ัะพ ะฒะทะดะพั
ะพะผ.
— ะะตัััะดะฝะพ ะฑัะปะพ ะดะพะณะฐะดะฐััััโฆ ะะฐัะตะผ?
— ะะฐ ะฑะธะปะตัั.
— ะะฐะบะธะต?
— ะงัะพะฑั ะดะพะฑัะฐัััั ะดะพ ะะพัะบะฒัโฆ
— ะะฐะบะพะน ะะพัะบะฒั? ะขั ะฒะพะพะฑัะต ะทะดะพัะพะฒะฐ? ะัะพััะธ, ะจะตัะณะฐ, ะฝะตะบะพะณะดะฐ ะผะฝะต ัะฒะพะธ ะณะปัะฟะพััะธ ะฒััะปััะธะฒะฐัั. ะัััะตัะธะผัั, ะฒัะต ัะฐััะบะฐะถะตัั.
— ะะพัะปััะฐะน! โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ ะะฝั, โ ัั ะผะพะถะตัั ะฟะพะฒะตัะธัั ัะตะปะพะฒะตะบั? ะัะพััะพ ัะฐะบ! ะะดะธะฝ ัะฐะท! ะะตะท ะพะฑัััะฝะตะฝะธะน! ะ?
ะขััะฑะบะฐ ะฟะพัะพะฟะตะปะฐ ะธ ัะฟัะพัะธะปะฐ.
— ะกะบะพะปัะบะพ ะฝะฐะดะพ?
ะะฝั ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ัะพัะพะณัะฐัะฐ โ ะพะฝ ะฒัะต ัะปััะฐะป.
— ะัะปะธ ะฑะตะท ะดะพะบัะผะตะฝัะพะฒ, ะฝะฐ ะฟะตัะตะบะปะฐะดะฝัั
โ ะผะฝะพะณะพ. ะขัััั ะฟัััะดะตััั.
— ะัััะดะตััั ัะผะพะถะตัั?
— ะกะผะพะณั. ะขะตะฑะต ะฝะฐ ะฐะนัะพะฝ ะบะธะฝััั?
— ะะตั ะฐะนัะพะฝะฐ, ะะตัั, ะฝะตั ะตะณะพโฆ โ ะธ ัะพัะพะณัะฐัั, ัะผะพะปัััะต, โ ะบัะดะฐ?
ะฃ ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ ะฑัะปะฐ ะฟัะธ ัะตะฑะต ะฑะฐะฝะบะพะฒัะบะฐั ะบะฐััะพัะบะฐ, ะพะฝ ะฟัะพะดะธะบัะพะฒะฐะป ะฝะพะผะตั, ะธ ะผะธะฝัั ัะตัะตะท ะฟััั ััะตะฝัะบะฝัะปะฐ ัััะผััะบะฐ. ะะฝะฐ ัะพะพะฑัะฐะปะฐ, ััะพ ะดะตะฝัะณะธ ะฟะพัััะฟะธะปะธ ะฝะฐ ััะตั ะธ ััะพ ะผะธั ะฝะต ัะฐะบ ัะถ ะฑะตะทะฝะฐะดะตะถะตะฝ.
ะัะฐะฒะดะฐ, ะฒะพัะฟะพะปัะทะพะฒะฐัััั ััะพะน ัะดะฐัะตะน ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ััะฐะทัโฆ ะะฐะฝะบะพะผะฐั, ะบะฐััั, ะฐะฒัะพะฒะพะบะทะฐะป โ ัะพะปัะบะพ ะฒ ัะฐะนัะตะฝััะต. ะฃะถะต ััะตะผะฝะตะปะพ, ะธ ะะพัะธะดะพัะพะฒ ะฟัะตะดะปะพะถะธะป ะฟะพะนัะธ ะฝะฐ ัะฒะฐะดัะฑั.
— ะะตะท ะฟัะธะณะปะฐัะตะฝะธั? โ ะผัะฐัะฝะพ ัะฟัะพัะธะป ะจะตัะณะธะฝ.
— ะฃ ะคะตะดะพัััะฐ ะดะปั ะณะพััะตะน ะพัะดะตะปัะฝัะน ะดะพะผ. ะกะบะฐะถั, ััะพ ัั ะผะพะน ะฐัะผะตะนัะบะธะน ะบะพัะตั, ะฟัะธะตั
ะฐะป ะฒะพั ั ะดะพัะตััั. ะ ะฐัะผะธะธ-ัะพ ัะปัะถะธะป?
ะะตะณะตะฝะดะฐ ะฟัะธะณะพะดะธะปะฐัั, ััะธัะฐะน, ััั ะถะต โ ะฒะทะฒะธะทะณะฝัะฒ ัะพัะผะพะทะฐะผะธ, ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั ะฟะพััะตะฟะฐะฝะฝะฐั ะผะฐัะธะฝะฐ ั ะฟัะฐะฒัะผ ััะปะตะผ. ะะท ะพะบะฝะฐ ะฟะพะบะฐะทะฐะปัั ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะน, ะฟะพั
ะพะถะธะน ะฝะฐ ะธัะฐะปััะฝัะบะพะณะพ ะผะฐัะธะพะทะธ โ ัะตัะฝัะฒัะน, ัะพะฝะตะฝัะบะธะต ััะธะบะธ, ะฟัะพะฑะพั. ะัััะฝัะป ััะบั ะธ ะฟะพะทะดะพัะพะฒะฐะปัั ั ะะพัะธะดะพัะพะฒัะผ.
— ะงั ัะฐัะฐะตะผัั? ะญัะธ โ ะบัะพ? โ ัััะพะณะพ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ.
— ะะพัะตั ะธะท ะะพัะบะฒั. ะก ะดะพัะบะพะน ะฒะพั…
— ะะพะบัะผะตะฝัั ะตััั?
— ะกััะตะฝ, ะฟะพะธะผะตะน ัะพะฒะตััั. ะัะดะธ ั ะดะพัะพะณะธ, ะฟะพะดััะฐัั ะฒััะปะธ.
— ะััะธัะต, ัะฐะทัะตัะฐั, โ ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะน ะพัะบะฐะปะธะปัั. โ ะั ััะพโฆ ะฟะพัะธัะต ัะฐะผ ะณัะปัะนัะต. ะ ัะพ ัะบะฐะถัั, ััะพ ะฒ ะะตะฝะธััะตะฒะพ ะฟัะธัะพะฝ ะพะฟะฟะพะทะธัะธะธ. ะงัะตะทะฒััะฐะนะฝะพะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต ะพัะผะตัะฐัั.
— ะกะปััะฐััั, โ ะะพัะธะดะพัะพะฒ ะพัะดะฐะป ัะตััั. โ ะะฐ ัะฒะฐะดัะฑั-ัะพ ะทะฐะณะปัะฝะตัั?
— ะัะป ัะถะต, โ ะบัะธะบะฝัะป ะฟะพะปะธัะตะนัะบะธะน, ะธ ะฟะพ ะทะฐะฟะฐั
ั ะะพัะธะดะพัะพะฒ ะฟะพะฝัะป โ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฑัะป.
— ะกััะตะฝ ะกััะพะตะฝะบะพ, ััะฐััะบะพะฒัะน ะฝะฐั. ะัะถะธะบ ัััะพะฒัะน, ะฝะพโฆ ะฟะพะฝะธะผะฐััะธะน, โ ะฟะพััะฝะธะป ัะพัะพะณัะฐั, ะบะพะณะดะฐ ะผะฐัะธะฝะฐ ัะบััะปะฐัั.
— ะงัะตะทะฒััะฐะนะฝะพะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต? โ ัะฟัะพัะธะป ะจะตัะณะธะฝ. โ ะะพะณะดะฐโฆ ะะท-ะทะฐ ัะตะณะพ?
— ะะพั ัะต ะฝะฐ. ะะฐะบ ัะฐะท ัะตะฑั ั
ะพัะตะป ัะฟัะพัะธัั, ััะพ ัะฐะผ ั ะฒะฐั ะฒ ะะพัะบะฒะต. ะ ะฝะพะฒะพัััั
ััะพ ะณะพะฒะพััั โ ัะพะปะบะพะผ ะฝะต ัะฐะทะฑะตัะตัั.
— ะ ััะพ ะณะพะฒะพััั?
— ะะดัะฐัััะต. ะะปะฐัะพะฝัั ะทะฐะฑะพะปะตะป. ะะดะฝะธ ะณะพะฒะพััั, ััะพ ะฝะต ะฒ ัะพััะพัะฝะธะธ ะธัะฟะพะปะฝััั ะพะฑัะทะฐะฝะฝะพััะธ, ะดััะณะธะต โ ััะพ ะฒ ัะพััะพัะฝะธะธ, ัะพะปัะบะพ ะฝะฐะดะพ ะฟะพะดะพะถะดะฐัั. ะั, ะธ ะฒะฒะตะปะธ ัะตะฟั, ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน. ะกััะธะฝ, ะธะปะธ ะบะฐะบ ัะฐะผ ะตะณะพ, ะฒะฒะตะปโฆ ะฏ ั ััะพะน ัะฒะฐะดัะฑะพะน ััะตัะธะน ะดะตะฝั ะฒ ะธะฝัะตัะฝะตั ะฝะต ะทะฐะปะฐะทะธะป.
ะคะพัะพะณัะฐั ะณัะพะผะบะพ ัะผัะณะฝัะป ะฝะพัะพะผ ะธ ะฑะพะดัะพ ะฟัะพะฒะพะทะณะปะฐัะธะป.
— ะะพ ะดะฐะถะต ะตัะปะธ ัะตะฟั โ ะฝะต ะถะตะฝะธัััั, ััะพ ะปะธ? โ ะะฝ ั
ะปะพะฟะฝัะป ัััะธัะฐะผะธ ะฟะพ ััะปั ัะบััะตัะฐ. โ ะะฒะธะฝัะปะธัั?
ะขะฐะบ ะพะฝะธ ะธ ัะปะธ ะฒััะพะตะผ. ะคะพัะพะณัะฐั, ะพะฑะปะธะฒะฐััั ะฟะพัะพะผ, ะบะฐัะธะป ยซะฏะผะฐั
ัยป, ะบะพัะพัะฐั ะธะทะฝัะฒะฐะปะฐ ะพั ะฑะปะฐะถะตะฝััะฒะฐ, ััะพ ะฝะต ะพะฝะฐ ะฒะตะทะตั ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ, ะฐ ะพะฝ ะตะต. ะะพัะธะดะพัะพะฒ ัะพะถะต ะธะทะฝัะฒะฐะป โ ะพั ัะปะฐะดะพััะฝะพะณะพ ะฟัะตะดะฒะบััะตะฝะธั ัะฐะนะฝั, ะบะพัะพััั ะพะฝ ะฒัะฟััะฐะตั ั ยซะธะฝะพะฟะปะฐะฝะตััะฝยป ะธ ะบะพัะพััะต ะบ ัะพะผั ะถะต ะฒัะตัะตะปะพ ะฒ ะตะณะพ ะฒะปะฐััะธ. ะ ัะดะพะผ ัะฐะณะฐะป ะจะตัะณะธะฝ, ะฟะตัะตะด ะตะณะพ ะฒะฝัััะตะฝะฝะธะผ ะฒะทะพัะพะผ ัะฒะตัะธะปะฐัั ะทะตะปะตะฝะฐั ะฝะฐะดะฟะธัั: ยซะัะฑะพะน ัะตะฝะพะน ะทะฐะฑัะฐัั ัะฝะธะผะบะธ ั ััะพะณะพโฆยป ะ ะฒะฟะตัะตะดะธ ัะตััะฒะพะฒะฐะปะฐ ะะฝะตัะบะฐ โ ะพะฝะฐ ั
ะพัั ะธ ะฟะพะผะฐะปะบะธะฒะฐะปะฐ, ะฝะพ ะพั ะฑัะปะพะณะพ ัะถะฐัะฐ ะฝะต ะพััะฐะปะพัั ะธ ัะปะตะดะฐ. ะฃะถะฐั ัะผะตะฝะธะปัั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัััะฐะฝะฝะพะน ะฒะตัะตะปะพัััั, ะพั ะบะพัะพัะพะน ะฟะพะด ะบะพะถะตะน ะฟะพะบะฐะปัะฒะฐะปะพ.
ะ, ะบะฐะบ ะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ะฝะต ะทัั ะฟะพะบะฐะปัะฒะฐะปะพ. ะะทัะพัะปัะต ะฒะตะดั ะฑัะฒะฐัั ะธะฝะพะณะดะฐ ั
ัะถะต ะดะตัะตะน, ะบะพัะพััั
ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ััะฝะตั ะฒ ะปัะถัโฆ
***
— ะะฐะฒะฐะน ะธั
ััะดะฐ!
ะะธะบะพะปะฐะน ะคะตะดะพัะพะฒะธั ะะฐะฑััะบะธะฝ ั
ะปะพะฟะฝัะป ะฟะพ ััะพะปั ัะฐะบ, ััะพ ั ะฒะตััะธะฝั ัะฒะฐะดะตะฑะฝะพะณะพ ัะพััะฐ, ะบ ะบะพัะพัะพะผั ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะฟัะธััะพะฝัะปัั, ััั
ะฝัะปะธ ะดะฒะฐ ัะพะทะพะฒัั
ัะตัะดัะฐ, ะธ ะะพัะธะดะพัะพะฒ, ะฟัะธัะตะดัะธะน ะดะพะปะพะถะธัั ะพ ะฝะพะฒัั
ะณะพัััั
, ะฟะพะฑะตะถะฐะป ะทะฐ ะฝะธะผะธ ะฒะพ ัะปะธะณะตะปั.
ะะฐัะพะดั ะทะฐ ััะพะปะพะผ ะฑัะปะพ ะฝะตะผะฝะพะณะพ โ ะธ ะบะฐะบ ััะฐะทั ะพัะผะตัะธะปะฐ ะะฝั, ะฒัะต ะฒ ะฑะพะปััะธั
ะณะพะดะฐั
, ัะพ ะตััั ััะฐััะต ะฟะฐะฟั. ะัะธัััััะฒัััะธะต ั
ะพัะพะผ ะฝะฐัะฐะปะธ ะธั
ัะณะพัะฐัั, ะฟะฐะฟั ะฝะฐะฒัะทัะธะฒะพ ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะธ ะฒัะฟะธัั, ะธ ะฟะฐะฟะฐ, ะฝะฐะดะพ ะฟัะธะทะฝะฐััโฆ ะ ะฝะต ัะฐะท.
ะขัะธ ัะตัะธ ั ะบััะณะปัะผะธ ะปะธัะฐะผะธ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะปะธ ะะฝะต ัะฐะทะฝัะต ะฑะปัะดะฐ, ะฟะพะผะธะฝััะฝะพ ะธ ะฝะฐะฟะตัะตะฑะพะน ะธะฝัะตัะตััััั, ะฟะพัะตะผั ะพะฝะฐ ัะฐะบ ะฟะปะพั
ะพ ะตัั โ ั
ะพัั ะะฝั ะปะพะฟะฐะปะฐ ะทะฐ ะพะฑะต ัะตะบะธ, ะฐ ะดะฒะต ัะตัะธ ั ะปะธัะฐะผะธ ะฒัััะฝัััะผะธ ะณะพะฒะพัะธะปะธ ะธะผ: ยซะงะตะณะพ ะฟัะธััะฐะปะธ ะบ ัะตะฑะตะฝะบั, ะพะฝ ะธ ัะฐะบ ั ะดะพัะพะณะธ ะตะปะต ะผะธะทัะบะฐะตัยป. ะะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ััะธ ะดะฒะต ัะพะฝะบะธะต ัะตัะธ ััะตะฑะพะฒะฐะปะธ ั ะฟะฐะฟั ัะฐััะบะฐะทะฐัั, ยซััะพ ั ะฒะฐั ัะฐะผ ะฒ ะะพัะบะฒะต ัะฒะพัะธัััยป, ะฐ ััะธ ัะตัะธ ะบััะณะปัะต ะฒะพะทัะฐะถะฐะปะธ ะธะผ: ยซะะฐะนัะต ะฒั ัะตะปะพะฒะตะบั ะฟะพะตัััยป. ะะฝั ะฑัะปะฐ ัะถะต ัััะฐ, ะฐ ัะตัะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะธ ัะฒะพะต, ะธ ะะฝะต ะทะฐั
ะพัะตะปะพัั ะฟัะพัะธัะธัะพะฒะฐัั ะธะผ ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ะธะท ะะตะบะปะฐัะฐัะธะธ ะฟัะฐะฒ ะธ ัะฒะพะฑะพะดโฆ
ะะพ ััั ะพะฝะฐ ัะฒะธะดะตะปะฐ ะฒะพั ััะพ: ัะพั ะฝะฐะบััััะน ัะบะฐัะตัััั ะฑะตะปัะน ััะพะปะธะบ ั ะผะฐััะธะฒะฝัะผะธ ะปะฐะบะธัะพะฒะฐะฝะฝัะผะธ ะฝะพะถะบะฐะผะธ, ััะพัะฒัะธะน ะฒ ะดะฐะปัะฝะตะผ ัะณะปั ะฑะพะปััะพะน ยซะทะฐะปัยป, ะฒะพะฒัะต ะฝะต ััะพะปะธะบ. ะญัะพ ะผะธะฝะธะฐัััะฝัะน ัะพัะปั โ ะฝะต ะธัะบะปััะตะฝะพ, ััะพ Blรผthner ะธะปะธ Petrof โ ะพ ัะฐะบะพะผ ะพะฝะฐ ะผะตััะฐะปะฐ, ะบะพะณะดะฐ ััะธะปะฐัั ะฒ ะผัะทัะบะฐะปัะฝะพะน ัะบะพะปะต, ะฝะพ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฟะฐะฟะฐ, ะบะพัะพััะน ะพะฑััะฝะพ ะฝะธ ะฒ ัะตะผ ะตะน ะฝะต ะพัะบะฐะทัะฒะฐะป, ัะฐะบ ะธ ะฝะต ัะฟะพะดะพะฑะธะปัั ะตะณะพ ะบัะฟะธัั, ั
ะพัั ะพะฑะตัะฐะป.
— ะั ะฟะพะทะฒะพะปะธัะต ะฟะพัะผะพััะตัั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ ั ั
ะพะทัะธะฝะฐ, ัะบะฐะทัะฒะฐั ััะบะพะน ะฒ ัะณะพะป.
— ะ ััะพ โ ัะผะตะตัั? โ ะฒัััะตะฟะตะฝัะปัั ะะธะบะพะปะฐะน ะคะตะดะพัะพะฒะธั, ะฑััััะพ ะฟะพะดะพัะตะป ะบ ัะพัะปั, ัะฝัะป ั ะฝะตะณะพ ัะบะฐัะตััั โ ะตั ะถะต ัะพัะปั ะธ ะฟัะพัะตั.
ะะพะบะฐ ะะฝั ะฒัะปะตะทะฐะปะฐ ะธะท-ะทะฐ ััะพะปะฐ โ ะฐ ััะพ ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ะดะตะปะพะผ ะฝะตะฑัััััะผ, ะฟะพัะบะพะปัะบั ะณะพััะธ ัะธะดะตะปะธ ะฝะฐ ะปะฐะฒะบะฐั
โ ะพะดะฝะฐ ะธะท ะบััะณะปัั
ัะตัั ะพัะฑะฐัะฐะฑะฐะฝะธะปะฐ ะผะพะฝะพะปะพะณ (ะฒะธะดะธะผะพ, ะฝะต ัะฐะท ะดะพ ัะพะณะพ ะฟัะพะธะทะฝะตัะตะฝะฝัะน), ัะผััะป ะบะพัะพัะพะณะพ ะทะฐะบะปััะฐะปัั ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะะธะบะพะปะฐะน ะคะตะดะพัะพะฒะธั ะบัะฟะธะป ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฝะตะฝัะถะฝัั ะฒะตัั ะฟะพ ัะตะฝะต ยซะบััะนะทะตัะฐยป, ะธ ะฟะพัะพะผั ะพะฝ ยซะฝะต ะฟัะธ ะปัะดัั
ะฑัะดะตั ัะบะฐะทะฐะฝะพ, ะบัะพ ัะฐะบะพะนยป.
ะะปะฐะดะตะปะตั ยซะะฐะฑััะบะธะฝ-steakยป ะฒััััะฟะธะป ั ะพัะฒะตัะฝัะผ ะธ ัะฐะบ ะถะต ั
ะพัะพัะพ ะพััะตะฟะตัะธัะพะฒะฐะฝะฝัะผ ะผะพะฝะพะปะพะณะพะผ ะพ ัะพะผ, ััะพ ัะพัะปั โ ะดะพะปะณะพััะพัะฝะฐั ะธะฝะฒะตััะธัะธั ะฒ ะฑัะดััะตะต ะผะพะปะพะดะพะน ัะตะผัะธ ะะตัะณะตะฝัะตะนะดะตัะพะฒ-ะะฐะฑััะบะธะฝัั
ะธ ััััะตััั ะฟะพะดะพะฑะฝะพะณะพ ััะพะฒะฝั ะฝะตะฟะพััะธะถะธะผั ะดะปั ัะตั
, ั ะบะพะณะพ ยซะปะธะฒะตั ะฒะผะตััะพ ะผะพะทะณะพะฒยป.
ะะตะธะทะฒะตััะฝะพ, ัะตะผ ะฑั ะฒัะต ะทะฐะบะพะฝัะธะปะพัั, ะตัะปะธ ะฑั ะะฝั ะฝะต ะทะฐะธะณัะฐะปะฐโฆ
ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะฑัะป ัะตะณัะฐะนะผ, ะธัะฟะพะปะฝะตะฝะฝัะน ะฒ ัะธัะธะฝะต, ะฒะทะพัะฒะฐะฒัะตะนัั ะพะณะปััะธัะตะปัะฝัะผะธ ั
ะปะพะฟะบะฐะผะธ ะพะณัะพะผะฝัั
ัััะธั ั
ะพะทัะธะฝะฐ. ะะพััะธ ะพะถะธะฒะธะปะธัั. ะะพัะพะผ ะฑัะป ะฝะพะบัััะฝ ะจะพะฟะตะฝะฐ, ะธ ะฐะฟะปะพะดะธัะพะฒะฐะปะธ ัะถะต ะฒัะต, ะฟะพัะพะผ ะพะดะฝะฐ ะธะท ัะตัั ัะบะฐะทะฐะปะฐ: ยซะ ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ััะณัะฐะน, ััะพะฑั ะฝะฐะผ ะฟะพะฟะตััยป.
— ะงัะพ ะธะผะตะฝะฝะพ? โ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปะฐัั ะะฝั, ะดะพะฒะพะปัะฝะฐั ัะตะผ, ััะพ ยซััะบะธ ะฟะพะผะฝััยป.
ะะพ ั
ะพะทัะธะฝ ะฟัะตัะตะบ ัะฐะทะณะพะฒะพั, ะทะฐัะฒะธะป, ััะพ ยซะฒ ะฟัะธะปะธัะฝะพะผ ะดะพะผะต ะดะพะปะถะฝะฐ ะธะณัะฐัั ัะพะปัะบะพ ะฟัะธะปะธัะฝะฐั ะผัะทัะบะฐยป โ ะธ ััะพ ะตัะต ะฝะต ะฒัะต! โ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ะฑััะบ ะฑะฐะฝะบะฝะพัั, ะฟะพะปะพะถะธะป ะฝะฐ ัะพัะปั ะธ ะฟัะพะฒะพะทะณะปะฐัะธะป:
— ะขะฐะปะฐะฝั ะพะฑัะทะฐะฝ ะฒะพะทะฝะฐะณัะฐะถะดะฐัััั!
ะะฝั ะธะณัะฐะปะฐ ะธ ะธะณัะฐะปะฐ โ ั ะฝะฐัะปะฐะถะดะตะฝะธะตะผ, ะดะพ ะธะทะฝะตะผะพะถะตะฝะธั. ะะพะณะดะฐ ะบะพะฝัะตัั ะฑัะป ะพะบะพะฝัะตะฝ, ะพะฝะฐ ัะฒะธะดะตะปะฐ, ััะพ ััะตะดะธ ะฟัะฑะปะธะบะธ, ะธััะตะบะฐะฒัะตะน ัะปะตะทะฐะผะธ, ะฝะตั ะฝะธ ะฟะฐะฟั, ะฝะธ ะะพัะธะดะพัะพะฒะฐ.
ะะฝะฐ ะฝะฐัะปะฐ ะธั
ะฒะพ ัะปะธะณะตะปะต, ะบัะดะฐ ะพัะฟัะฐะฒะธะปะฐัั ัะฟะฐัั.
ะะฐะฒะตะป ะจะตัะณะธะฝ ะธ ะญะดัะฐัะด ะะพัะธะดะพัะพะฒ, ะบัะฐัะฝัะต ะพั ะฝะฐะฟััะถะตะฝะธั, ัะธะดะตะปะธ ะทะฐ ััะพะปะธะบะพะผ, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ััะพัะปะธ ะบะฐะผะตัะฐ ะธ ะฑัััะปะบะฐ ะฒะพะดะบะธ, ะดะตัะถะฐะปะธ ะดััะณ ะดััะณะฐ ะทะฐ ะณััะดะบะธ ะธ ัััะฐะปะธ, ะบะฐะบ ะดะฒะฐ ะบะพัะฐ ะฟะตัะตะด ะฟะพะตะดะธะฝะบะพะผ.
— ะะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะพัะฟัััะธัะต ะฟะฐะฟั!
ะะฝั ัะบะฐะทะฐะปะฐ ััะพ ัะฐะบ ะณัะพะผะบะพ ะธ ะฒะปะฐััะฝะพ, ััะพ ะะพัะธะดะพัะพะฒ ััั ะถะต ะฟะพัะปััะฐะปัั.
— ะะตะฝัะณะธ ะฝะฐ ะฒะฐัะตะน ะบะฐััะต ะผะพะถะตัะต ะพััะฐะฒะธัั ัะตะฑะต, โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะปะฐ ะพะฝะฐ ัะตะผ ะถะต ัะพะฝะพะผ. โ ะกัะธัะฐะนัะต ะธั
ัะฒะพะธะผ ะณะพะฝะพัะฐัะพะผ ะทะฐ ะผะพะปัะฐะฝะธะต.
ะะฑะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะพััั:
— ะััะฐะฒั ะตะณะพ. ะฃ ะฝะฐั ะตััั ะฝะฐ ััะพ ะดะพะตั
ะฐัั.
ะ ะฟะพะบะฐะทะฐะปะฐ ะฟัั
ะปัั ัะฐะทะฝะพัะฒะตัะฝัั ะฟะฐัะบั.
ะะพะผะฐ ะธั
ะฝะต ะฑัะปะพ ะฟะพััะธ ะฝะตะดะตะปั โ ะดะฐะถะต ัะฐั, ะฟัะพะฒะตะดะตะฝะฝัะน ะฒ ะธะทะฝะฐะฝะบะต ะผะธัะฐ, ะฝะฐ ะปะธัะตะฒะพะน ััะพัะพะฝะต ัะตะป ะทะฐ ััะธ ะดะฝั. ะัะต ะดะฒะพะต ัััะพะบ ะพะฝะธ ะดะพะฑะธัะฐะปะธัั, ะฟะตัะตัะฐะถะธะฒะฐััั ั ะฐะฒัะพะฑััะพะฒ ะฝะฐ ัะปะตะบััะธัะบะธ ะธ ะฝะฐะพะฑะพัะพั. ะจะตัะณะธะฝ ะฒัั ะดะพัะพะณั ะผะพะปัะฐะป, ะฐ ะตัะปะธ ะธ ะณะพะฒะพัะธะป โ ัะพ ะปะธัั ะฟะพ ะฝะตะพะฑั
ะพะดะธะผะพััะธ. ะะผะตััะพ ะทะตะปะตะฝัั
ะบะพะผะฐะฝะด ะฟะตัะตะด ะฝะธะผ ะฒัะตะผั ะพั ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฒะพะทะฝะธะบะฐะปะพ ะฟะตัะฐะปัะฝะพะต ะปะธัะพ ะะปะฐัะพะฝะฐ โ ะพะฝ ัะพะถะต ะผะพะปัะฐะป, ัะพะปัะบะพ ัะบะฐะทะฐะป ัะธั
ะพ, ัะถะต ะฝะฐ ะฟะพะดัััะฟะฐั
ะบ ะะพัะบะฒะต: ยซะะฐ, ะะฐัะฐ, ะดะฐโฆะขัะถะบะพ ะตััั ะธะณะพ ะฝะฐ ััะฝะตั
ะะดะฐะผะปะธั
ยป, โ ะธ ะธััะตะท.
ะะฝะต ั
ะพัะตะปะพัั ะพ ะผะฝะพะณะพะผ ัะฟัะพัะธัั ะพััะฐ, ะฝะพ ะตัะต ัะธะปัะฝะตะต ะฑัะปะพ ะถะตะปะฐะฝะธะต ัะผะพััะตัั ะฒ ะพะบะฝะพ, ะทะฐ ะบะพัะพััะผ ะฟัะพัะตะบะฐะปะฐ ะถะธะทะฝั, ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผะฐั ะตะนโฆ
1. ะจะธะฑะทะดะธะบ ัะดะพั
ะธะปะธ ะฝะตั? (ะฝะตะผ.)
2. ะะตั ะฒัะตะผะตะฝะธ ะพะฑัััะฝััั, ะฟัะธััะตะปั (ะฐะฝะณะป.)
ะะปะฐะฒะฐ 14. ะัะปะฐั ะฅะฐะฝะพะฒ. ะะตะดะปะฐะนะฝ

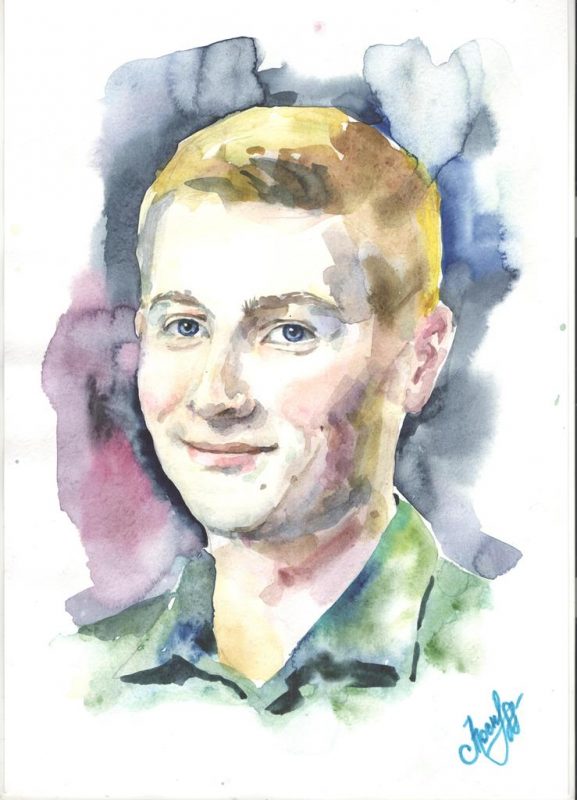
ะะตัั ัะพะฒัะตะผ ะทะฐะฟััะฐะปัั.
ะะฝ ะฝะฐัะฐะป ะทะฐะดะฐะฒะฐัััั ะฒะพะฟัะพัะพะผ, ะบะฐะบ ะผะฝะพะณะพ ะฟะตัะตะถะธะฒะฐะฝะธะน ัะฟะพัะพะฑะตะฝ ะฒัะฝะตััะธ ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฟัะตะถะดะต ัะตะผ ะฟะพะฒัะตะดะธััั ัะฐัััะดะบะพะผ. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ะฟะพะดัะพััะพะบ. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ะพะฝ, ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะฒะตัั ัะฐะบะพะน ะฝะตัะบะปัะถะธะน ะธ ะฝะตะปะตะฟัะน.
ะะพัะปะต ัะปััะฐั ั ะบัะบะปะพะน, ะฒะธัััะตะน ะฝะฐ ะดัะฑะต, ะะปั ะทะฐะผะบะฝัะปะฐัั ะฒ ัะตะฑะต. ะะฝะฐ ะฝะต ะฒัั
ะพะดะธะปะฐ ะธะท ะดะพะผะฐ, ะฝะต ะฑัะฐะปะฐ ัััะฑะบั, ะธ ัะพะปัะบะพ ัะพ ัะปะพะฒ ะะฐัะธ ะะตัั ะทะฝะฐะป, ััะพ ะะปั, ะฟััะบะฐะน ะธ ะฝะต ัะฒะพะตะฒัะตะผะตะฝะฝะพ, ั
ะพัั ะฑั ะตัั ะธ ัะฟะธั.
โ ะัะพััะพะฒะบะธ ะผะฝะต ะฒ ัะพั ะถะต ะดะตะฝั ะฒะตะปะตะปะฐ ะฒัะบะธะฝััั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฐัั. โ ะขะต, ะฑะตะปัะต, ะฟะพะผะฝะธัั?
ะ ัะพะผ, ััะพะฑั ะบะพะฟะฐัั ะทะตะผะปั ะฟะพะด ะดัะฑะพะผ ะฒ ะฟะพะธัะบะฐั
ะบะปััะฐ, ัะตะนัะฐั ะธ ัะตัะธ ะฝะต ัะปะพ. ะะพ-ะฟะตัะฒัั
, ะฒ ะพะดะธะฝะพัะบั ะฑั ะะตัั ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะฝะต ัะตัะธะปัั, ะฐ ะฒะพ-ะฒัะพััั
, ัะตัััั ัะพัะปะธ ะฑั ะตะณะพ ะฟัะตะดะฐัะตะปะตะผ. ะญัะพ ะบะฐะบ ัะฐะฝั ะบะพะฒััััั, ะฟัะธัะพะผ ะฝะตะทะฐะถะธะฒัะธะต.
ะ ัะบะพะปะต ะฑะตะทะพัััะฒะฝะพ ะบัััะธะปะฐัั ะฒะพะบััะณ ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ. ะะฝะฐ ัะพ ะฟัะพัะธะปะฐ ัะตะปะตัะพะฝ, ััะพะฑั ััะพัะฝะพ ะฟะพะทะฒะพะฝะธัั ะดะฒะพััะพะดะฝะพะน ัััะต (ั ัะฐะผะพะน ะพะฝ ัะบะพะฑั ัะฐะทััะดะธะปัั, ะฐะณะฐ), ัะพ ะธัะบะฐะปะฐ ะฟะพะฒะพะดะฐ ัะบะพะปะพัั ะะตัั.
โ ะะทะฑะตะณะฐะตัั ัั ะผะตะฝั, ะะตะทะฝะพัะพะฒ, โ ะฟัะพะธะทะฝะตัะปะฐ ะัะปั ะฒ ััะพะปะพะฒะพะน, ัะพ ะปะธ ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ, ัะพ ะปะธ ัะบะพัะธะทะฝะตะฝะฝะพ.
โ ะะธัะตะณะพ ั ะฝะต ะธะทะฑะตะณะฐั.
โ ะะพะนะดะตะผ ะฒ ะบะธะฝะพ ัะตะณะพะดะฝั?
โ ะฏ ะทะฐะฝัั.
โ ะะพะฒะพัั ะถะต, ะธะทะฑะตะณะฐะตัั.
ะ ะธั
ะดะธะฐะปะพะณ ะฒะผะตัะฐะปัั ะะฝะดัะตะน:
โ ะะธะฝะพ? ะฏ ะปัะฑะปั ะบะธะฝะพ. ะะพะนะดัะผ ะฒะผะตััะต, ะัะปั?
โ ะฏ ะทะฐ! ะะฐะบ ะฝะฐััะตั ัะตะณะพะดะฝั?
โ ะจะธะบะฐัะฝะพ! ะัะฟะธัั ะผะฝะต ะฑะธะปะตั?
ะะผะตััะพ ะพัะฒะตัะฐ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ััะตัะฝัะปะฐ ะะฝะดัะตั ะปะพะถะบะพะน ะฟะพ ะณะพะปะพะฒะต.
ะ ัะพั ะถะต ะดะตะฝั ะัะปั ะฟัะธะฝัะปะฐัั ะทะฐะธะณััะฒะฐัั ั ะคะตะดะตะน. ะะฐะฑะปัะดะฐั ะทะฐ ะตะต ัะถะธะผะบะฐะผะธ, ะะตัั ั ะฝะฐัะฐััะฐััะตะน ััะตะฒะพะณะพะน ะณะฐะดะฐะป, ััะพ ะพะฝะฐ ะฒัะบะธะฝะตั ะดะฐะปััะต.
ะ ะตัั ะฟัะพะฟะฐะปะฐ ะะฝั. ะะฝะฐ ะฟะตัะตััะฐะปะฐ ะฟะพัะฒะปััััั ะฒ ัะบะพะปะต ะธ ะธััะตะทะปะฐ ัะพ ะฒัะตั
ัะฐะดะฐัะพะฒ, ะฒัะนะดั ะฝะฐ ัะฒัะทั ะปะธัั ะตะดะธะฝะพะถะดั. ะะฑะตัะฟะพะบะพะตะฝะฝัะน ะะตัั ะฟะตัะตัะบะฐะทะฐะป ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผ ัััะฐะฝะฝัะน ัะตะปะตัะพะฝะฝัะน ะดะธะฐะปะพะณ. ะจะตัะณะธะฝะฐ ััะตะฑะพะฒะฐะปะฐ ะฟัััะดะตััั ััััั, ะธ ะณะพะปะพั ะตะต ะทะฒััะฐะป ะดะพ ะถััะธ ัะฐะทะดัะฐะถะตะฝะฝะพ. ะะฐะถะต ะฒะพ ะฒัะตะผั ัะฐะผัั
ัััั
ัะฟะพัะพะฒ ะพ ะฟะพะปะธัะธะบะต ะะฝั ะฝะต ะฑัะปะฐ ะฝะฐัััะพะตะฝะฐ ััะพะปั ะบะฐัะตะณะพัะธัะฝะพ.
โ ะะพะผั ัั ั
ะพัั ะดะตะฝัะณะธ ะฟะตัะตัะปะฐะป?
โ ะะตะบะพะตะผั ะญะดัะฐัะดั ะะฝะฐัะพะปัะตะฒะธัั ะ. ะะพะฝััะธั ะฝะต ะธะผะตั, ะบัะพ ะพะฝ ัะฐะบะพะน.
ะัะต ะฝะตะดะพัะผะตะฝะฝะพ ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปะธัั.
โ ะะฟััั ะพะฝะฐ ััะพ-ัะพ ะทะฐัะตะฒะฐะตั, โ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะฐะบ ั ยซะบััะฐะณะพะนยป.
โ ะะพัะตะผั ัะพะณะดะฐ ะธะท ะะพัะบะฒั ัะตั
ะฐะปะฐ? โ ัะฟัะพัะธะป ะะฐัั.
โ ะงัะพ, ะตัะปะธ ะฝะต ัะตั
ะฐะปะฐ?
โ ะ ะฟัััะดะตััั ััััั ะตะน ะดะปั ัะตะณะพ?
โ ะะฝะต ะธ ัะฐะผะพะผั ะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ะดะปั ัะตะณะพ. ะะดะฝะพ ััะฝะพ: ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธะทะฒะตััะฝะพ ะฟะพะฑะพะปััะต ะฝะฐัะตะณะพ.
ะ ะฟััะฝะธัั, ะฟะตัะตะด ัะฐะผัะผ ััะพะบะพะผ, ะะปัะบะพะทะฐ ะพะฑััะฒะธะปะฐ, ััะพ ะฝะฐ ั
ะธะผะธะธ ะฟะตัะตะด ััะตะฝะธะบะฐะผะธ ะฒััััะฟัั ัะฟะพะปะฝะพะผะพัะตะฝะฝัะต ะธะท ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะธัะตัะฐ ะะตะฟะฐััะฐะผะตะฝัะฐ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธั. ะจะบะพะปัะฝะธะบะธ ะฟะพัััะปะธ ะฝะตะปะฐะดะฝะพะต. ะงัะพะฑั ะะปัะบะพะทะฐ ะฟะพะทะฒะพะปะธะปะฐ ะบะพะผั-ะฝะธะฑัะดั ะพัะฝััั ั ะฝะตะต ัะฐััั ััะพะบะฐ? ะะพ ะดะพะฑัะพะน ะฒะพะปะต, ะฑะตะท ะบัะพะฒะฐะฒะพะน ะฑะธัะฒั? ะงัะพ ััะพ ะทะฐ ัะฟะพะปะฝะพะผะพัะตะฝะฝัะต ัะฐะบะธะต ะฒัะตะผะพะณััะธะต?
ะะพััะตะน ะธะท ะบะพะผะธัะตัะฐ ะฑัะปะพ ะดะฒะพะต. ะ ัะถะตะฒะพะปะพัะฐั ะถะตะฝัะธะฝะฐ ะฒ ะพะปะธะฒะบะพะฒัั
ะฑััะบะฐั
ะธ ะฑะตะปะพะผ ัะฒะธัะตัะต ั ะทะฐะบะฐัะฐะฝะฝัะผะธ ััะบะฐะฒะฐะผะธ ะฝะฐะทะฒะฐะปะฐัั ัะฟะตัะธะฐะปะธััะพะผ ะฟะพ ะณะตะพะปะพะณะธะธ ะธ ะณะตะพะดะตะทะธะธ ะะดะพะน ะะฐะบัะธะผะพะฒะฝะพะน. ะะฝะฐ ะฟัะตะดััะฐะฒะธะปะฐ ะธ ัะฒะพะตะณะพ ัะฟััะฝะธะบะฐ โ ะัะธะฟะฐ ะะปะตะบัะตะตะฒะธัะฐ, ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ะฑััะพะบัะฐัะฐ ั ะฟััะผะพัะณะพะปัะฝะพะน ะณะพะปะพะฒะพะน ะธ ั
ะธัะฝัะผะธ ัะธะฝะธะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ. ะะพะปัะฐะปะธะฒัะน ะดะพ ะฟะพัั ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะฒ ัะตัะพะผ ะบะพัััะผะต-ะดะฒะพะนะบะต ะฝะต ะฒัะฟััะบะฐะป ะธะท ััะบ ััะผะฝัะน ะดะธะฟะปะพะผะฐั.
โ ะััะผะพ G-man ะบะฐะบะพะน-ัะพ, โ ัะตะฟะฝัะป ะะพัะพั
ะพะฒ.
โ ะัะพ-ะบัะพ? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะะตัั.
ะะปัะบะพะทะฐ ะฟัะธะทะฒะฐะปะฐ ะธั
ะบ ะฟะพััะดะบั, ะธ ะพะฝะธ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะธ.
ะะดะฐ ะะฐะบัะธะผะพะฒะฝะฐ ัะผะฝัะผะธ ัะปะพะฒะฐะผะธ ะพะฑัััะฝะธะปะฐ, ะบะฐะบะฐั ะพะฟะฐัะฝะพััั ะณัะพะทะธั ะถะธัะตะปัะผ ะะฐะปะฐััะฒะบะธ, ะตัะปะธ ะพะฝะธ ะฝะต ะฟะตัะตะตะดัั. ะะปัะฑะธะฝะฝะฐั ััะพะทะธั ะฟะพัะฒั, ัะฟัะพะฒะพัะธัะพะฒะฐะฝะฝะฐั ะทะฐะฟัััะฐะฝะฝัะผะธ ะฟะพะด ะทะตะผะปะตะน ะธััะพัะฝะธะบะฐะผะธ, ะฟะพะดัะฐัะธะฒะฐะตั ััะฝะดะฐะผะตะฝัั. ะะพะผะตัะตะฝะธั ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะฝะพ ะฒะตัะฝะพ ะทะฐั
ะฒะฐััะฒะฐะตั ะฝะตะธัััะตะฑะธะผะฐั ะณัะธะฑะบะพะฒะฐั ะฟะปะตัะตะฝั ะฒัะตั
ัะฒะตัะพะฒ, ะบะพัะพัะฐั ะธััะพัะฐะตั ัะดะพะฒะธััะต ะผะธะฐะทะผั ะธ ะฟัะธะฒะพะดะธั ะบ ะฟะฝะตะฒะผะพะฝะธะธ, ะฐััะผะต ะธ ะทะฐะฑะพะปะตะฒะฐะฝะธัะผ ะพะฟะพัะฝะพ-ะดะฒะธะณะฐัะตะปัะฝะพะณะพ ะฐะฟะฟะฐัะฐัะฐ. ะ ะบะฐะฟะธัะฐะปัะฝัะน ัะตะผะพะฝั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะธัะฟัะฐะฒะธั, ัะพะปัะบะพ ะฝะฐ ะบะพัะพัะบะธะน ััะพะบ ะพัััะพัะธั ะฝะตะผะธะฝัะตะผะพะต ัะฐะทัััะตะฝะธะต ะทะดะฐะฝะธะน.
ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ััั
ะพ ะดะพะฑะฐะฒะธะป, ััะพ ะฟัะพะถะธะฒะฐะฝะธะต ะฒ ะะฐะปะฐััะฒะบะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ะฒััะพะบะธะน ัะธัะบ ะดะปั ะถะธะทะฝะธ, ะฟะพััะพะผั ะผัะฝะธัะธะฟะฐะปัะฝัะต ัะปัะถะฑั ะฒะพ ะธะทะฑะตะถะฐะฝะธะต ะฝะตะฟัะตะดะฒะธะดะตะฝะฝัั
ะฟะพัะปะตะดััะฒะธะน ััะบะพัััั ะฟะตัะตะตะทะด.
โ ะะฐะดะตะตะผัั, ะะพะฒัะน ะณะพะด ะฒั ะฒัััะตัะธัะต ะฒ ะฝะพะฒัั
ะบะฒะฐััะธัะฐั
, โ ะทะฐะบะพะฝัะธะป ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั. โ ะั ะฒัะต ะดะพะปะถะฝั ะฑััั ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝั ะฒ ััะพะผ.
ะะตัะต ะฝะฐ ัะตะบัะฝะดั ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ัะธะฝะพะฒะฝะธะบ ะดะพะฑะฐะฒะธั: ยซะะต ัะฐะบ ะปะธ?ยป, ะฝะพ ะฒะผะตััะพ ััะพะณะพ ัะฟะพะปะฝะพะผะพัะตะฝะฝัะต ะธะท ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะธัะตัะฐ ัะพัะปะฐะปะธัั ะฝะฐ ะฝะตะพัะปะพะถะฝัะต ะดะตะปะฐ ะธ ะฟะพะบะธะฝัะปะธ ะบะฐะฑะธะฝะตั.
โ ะจัั ะทะฝะฐะตั, ััะพ ัะฐะบะพะต, โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ ะะปัะบะพะทะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะดะฒะตัั ะทะฐ ะณะพัััะผะธ ะทะฐะบััะปะฐัั.
ะะฟัะพัะตะผ, ะพะทะฐะดะฐัะตะฝะฝะพััั ะฝะฐ ะตะต ะปะธัะต ะผะพะผะตะฝัะฐะปัะฝะพ ะธััะตะทะปะฐ, ะตะดะฒะฐ ะปะธัั ััะตะฝะธะบะธ ะฑัะพัะธะปะธัั ัะฟัะฐัะธะฒะฐัั, ััะพ ะะปัะบะพะทะฐ ะพะฑะพ ะฒัะตะผ ััะพะผ ะดัะผะฐะตั.
โ ะะพะด ััะผะพะบ ะฒั ัะตัะธะปะธ ั
ะธะผะธั ัะพัะฒะฐัั, ะฒะตัะฝะพ? โ ะฟัะธะบัะธะบะฝัะปะฐ ะพะฝะฐ.
ะะพะณะดะฐ ะฟัะพะทะฒะตะฝะตะป ะทะฒะพะฝะพะบ, ะะตัั ะฝะฐ ะฐะฒัะพะฟะธะปะพัะต ัะพะฑัะฐะป ะฟะพัััะตะปั ะธ ะฒััะตะป. ะะฝะฐัะธั, ัะฐััะตะปัั ะบ ะะพะฒะพะผั ะณะพะดั. ะะพัะพะผั ััะพ ััะพะทะธั ะฟะพัะฒั. ะ ะณัะธะฑะพะบ. ะ ััะพ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะฟัะพะฒะตัะธัั, ะฝะต ะพะฟัะพะฒะตัะณะฝััั.
ะ ะฐะทะฒะต ััะพ ะฝะฐะฝััั ะฝะตะทะฐะฒะธัะธะผัั
ัะบัะฟะตััะพะฒ.
ะขะพัะฝะพ, ะฝะฐะดะพ ะฟะพะณะพะฒะพัะธัั ะพะฑ ััะพะผ ั ะคะตะดะตะน ะธ ะะฝะดัะตะตะผ. ะะฐ ะฟะพะดะบัะฟ ั ะฝะธั
ััะตะดััะฒ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะต ั
ะฒะฐัะธั, ะทะฐัะพ ัััะฝัั
ัะพ ััะพัะพะฝั ะฟัะธะฒะปะตัั ะผะพะถะฝะพ. ะงัะพะฑั ะพะฟัะตะดะตะปะธัั, ะฝะฐัะบะพะปัะบะพ ััะพะธั ะดะพะฒะตัััั ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพะผั ะบะพะผะธัะตัั.
ะ ะฐะทะผััะปะตะฝะธั ะะตัะธ ะฟัะตัะฒะฐะป ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั. ะะฝ ะฒ ะพะดะธะฝะพัะตััะฒะต ััะพัะป ะฒ ะบะพัะธะดะพัะต ะธ ะฑะตะทะพัััะฒะฝะพ ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ.
โ ะั ะธัะตัะต ะฒัั
ะพะด? โ ะะตัั ัะผััะธะปัั.
โ ะะฐะปะพััั ะทะฐะฑะปัะดะธะปัั. ะัะพะฒะพะดะธัั ะผะตะฝั ะดะพ ัะฑะพัะฝะพะน?
ะะพ ะดะพัะพะณะต ะฒ ัะฑะพัะฝัั ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ัะบะฐะทะฐะป:
โ ะฅะพัะพัะฐั ั ะฒะฐั ัะบะพะปะฐ. ะะต ะถะฐะปั ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั?
โ ะัะตะฝั ะถะฐะปั, โ ะฟัะธะทะฝะฐะปัั ะะตัั.
โ ะฃะดะพะฑะฝัะน ัะฐะนะพะฝ, ััะฐััะต ะดััะทัั, ะปัะฑะธะผัะต ััะธัะตะปัโฆ ะะพะฝะธะผะฐั.
ะะฐัััั ััะธัะตะปะตะน ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฑั ะฟะพัะฟะพัะธะป, ะฝะพ ะฝะต ั ััะธะผ ัะบะพะปัะทะบะธะผ ัะธะฟะพะผ.
โ ะขั ะฒะตะดั ะะตัั, ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ?
ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฐะถ ัะฟะพัะบะฝัะปัั.
โ ะั ั ะะธัะธะปะปะพะผ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะตะผ ะฒ ัะฒะพะต ะฒัะตะผั ะทะฐะฝะธะผะฐะปะธัั ัะฐะทะปะธัะฝัะผะธ ะฟัะพะตะบัะฐะผะธ. โ ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะฑัะดัะพ ะธ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะป, ะบะฐะบ ะะตัั ะธะทัะผะธะปัั. โ ะะฝ ะฑัะป ะฟัะตะบัะฐัะฝัะผ ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ. ะัะบัะตะฝะฝะธะผ, ัะตะดััะผ, ะฟัะตะดะฐะฝะฝัะผ ะพะฑัะตะผั ะดะตะปั. ะัะผะฐั, ัั ััะฐะฝะตัั ะตะผั ะดะพััะพะนะฝัะผ ััะฝะพะผ.
โ ะ ะบะฐะบะธะผะธ ะดะตะปะฐะผะธโฆ ะะฐะบะธะผะธ ะฟัะพะตะบัะฐะผะธ ะฒั ะทะฐะฝะธะผะฐะปะธัั?
ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะฟะตัะตะปะพะถะธะป ะดะธะฟะปะพะผะฐั ะธะท ะฟัะฐะฒะพะน ััะบะธ ะฒ ะปะตะฒัั ะธ ะดะพััะฐะป ะธะท ะฒะฝัััะตะฝะฝะตะณะพ ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ะฒะธะทะธัะบั.
โ ะะพะทะฒะพะฝะธ ะผะฝะต ะฟัะธ ัะปััะฐะต. ะะฐะผ ะตััั, ะพ ัะตะผ ะฟะพะณะพะฒะพัะธัั. ะ ะะฐะปะฐััะฒะบะต, ะพ ัััะปะต ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะน ัะตะบะธ, ะพ ัะฝะตัะตะฝะฝะพะน ัะตัะบะฒะธ ัะฒััะพะณะพ ะขัะพัะธะผะฐ.
ะัะธ ัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะธ ัะตัะบะฒะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฒะทะดัะพะณะฝัะป.
ะ ััะพั ะผะพะผะตะฝั ะพะฝะธ ะดะพะฑัะฐะปะธัั ะดะพ ััะฐะปะตัะฐ. ะงะธะฝะพะฒะฝะธะบ ั ะฟััะผะพัะณะพะปัะฝะพะน ะณะพะปะพะฒะพะน ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ะฟะพะณะปัะดะตะป ะฝะฐ ะะตัั ะธ ะฟัะพะธะทะฝัั:
โ ะัะดััะต ะพััะพัะพะถะฝะตะต ั ะะธะทะพะน. ะฃ ะฝะตั ัะตะดะบะธะน ะดะฐั. ะัะดะตั ะถะฐะปั, ะตัะปะธ ะพะฝะฐ ะธัะฟะพะปัะทัะตั ะตะณะพ ะฟะพะฝะฐะฟัะฐัะฝั.
โ ะะพะฝะฐะฟัะฐัะฝั?
โ ะะฐะถะดะพะต ััะดะพ, ะะตัะตะฝัะบะฐ, ััะตะฑัะตั ะบะพะปะพััะฐะปัะฝัั
ัะฝะตัะณะตัะธัะตัะบะธั
ะทะฐััะฐั ะธ ะฝะต ะฟัะพั
ะพะดะธั ะฑะตััะปะตะดะฝะพ ะดะปั ัะพะณะพ, ะบัะพ ััะดะตัะฐ ัะฒะพัะธั. ะะพััะพะผั ะฑะตัะตะณะธัะต ะฒะฐัั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธัั.
ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ัะบะพะฝััะถะตะฝะฝัะน ะดะพะฒะตัะธัะตะปัะฝะพะน ะธะฝัะพะฝะฐัะธะตะน ะธ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ยซะะตัะตะฝัะบะพะนยป, ะพะฟัััะธะป ะณะปะฐะทะฐ ะพั ัะฐะบะพะน ัะฐะผะธะปัััะฝะพััะธ.
โ ะขะตะฑะต, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฟะพัะฐ ะบ ะดััะทััะผ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั. โ ะกะบะพัะพ ะทะฒะพะฝะพะบ. ะัั
ะพะด ั ะฝะฐะนะดั.
ะงะธะฝะพะฒะฝะธะบ ัะบััะปัั ะทะฐ ะดะฒะตััั. ะะตัั ะฝะต ัะดะธะฒะธะปะพ ะฑั, ะตัะปะธ ะฑั ะทะฐะณะฐะดะพัะฝัะน ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผะตั ัะตะปะตะฟะพััะธัะพะฒะฐะปัั ะฒ ัะฒะพะต ัััะตะถะดะตะฝะธะต ะฟััะผะพ ะธะท ะบะฐะฑะธะฝะบะธ.
ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะฒัั ะตัั ะดะพะฝะตะปัะทั ัะผััะตะฝะฝัะน, ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฒะธะทะธัะบั.
ะะฐะทะดะตะตะฒ ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั
ะะพะบัะพั ัะธะปะพัะพััะบะธั
ะฝะฐัะบ
ะััะฐัะพั ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐัะตะปัะฝัั
ะฟัะพะตะบัะพะฒ
ะะธะถะต ะฐะดัะตั ะธ ะดะฒะฐ ัะตะปะตัะพะฝะฝัั
ะฝะพะผะตัะฐ โ ัะปัะถะตะฑะฝัะน ะธ ะผะพะฑะธะปัะฝัะน.
ะฅะพัั ะะตัั ะธ ะฝะต ะผะพะณ ะฟะพั
ะฒะฐััะฐัััั ะฑะพะณะฐััะผ ะถะธะทะฝะตะฝะฝัะผ ะพะฟััะพะผ, ะดะฐะถะต ะพะฝ ะพัะพะทะฝะฐะฒะฐะป, ััะพ ะฟะตัะตะตะทะดั ะธ ัะฐััะตะปะตะฝะธั โ ััะพ ัะถ ัะพัะฝะพ ะฝะต ะทะฐะฑะพัะฐ ัะบะพะปัะฝะพะณะพ ะะตะฟะฐััะฐะผะตะฝัะฐ. ะ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐัะตะปัะฝัะต ะฟัะพะตะบัั ั ะถะธะปะธัะฝัะผะธ ะฟะตัะตัะตะบะฐัััั ะผะฐะปะพ.
ะะพะณะดะฐ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฒะตัะฝัะปัั ะฒ ะบะปะฐัั, ะฒัััะฝะธะปะพัั, ััะพ ัะฟะตัะธะฐะปัะฝัั
ัะฟะพะปะฝะพะผะพัะตะฝะฝัั
ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะพะฑััะถะดะฐะตั, ัะฐะบ ะบะฐะบ ะฟะพัะฒะธะปะธัั ะฒะตััะธ ะฟะพะฒะฐะถะฝะตะต.
โ ะจะตัะณะฐ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะปะฐ! โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั ะะพัะพั
ะพะฒ.
ะะพ ัะธัััะตะผั ะปะธัั ะดััะณะฐ ะะตัั ะดะพะณะฐะดะฐะปัั, ััะพ ะะฝั ัะพะพะฑัะธะปะฐ ะบะพะต-ััะพ ะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝะพะต.
ะะปะฐะฒะฐ 15. ะะฝัะพะฝ ะกะพั. ะััะฐัะพัั


ะงะตะปะพะฒะตะบ ั ะฟััะผะพัะณะพะปัะฝัะผ ะปะธัะพะผ ะฝะต ัะฟะตัะธะป ะฟะพะบะธะดะฐัั ะทะดะฐะฝะธะต ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ ะธะผะตะฝะธ ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั. ะะฝ ะพะฑะผะฐะฝัะป ะะตัั. ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฟัะตะบัะฐัะฝะพ ะพัะธะตะฝัะธัะพะฒะฐะปัั ะฒ ัะบะพะปะต. ะ ะฟัะพะทัะฐัะฝัั
, ะฟะพััะธ ััะฑัะธั
ะณะปะฐะทะฐ ยซัะธะฝะพะฒะฝะธะบะฐยป ัะบะฒะพะทะธะปะพ ะตะดะฒะฐ ะทะฐะผะตัะฝะพะต ะฑะตัะฟะพะบะพะนััะฒะพ. ะะฝ ะฑะพะดัะพ ะฟะพะดะฝัะปัั ะฝะฐ ััะตัะธะน ััะฐะถ ะฟะพ ัะธัะพะบะพะน ะผัะฐะผะพัะฝะพะน ะปะตััะฝะธัะต, ะฟัะพััะป ะฟะพ ัะตะบัะตะฐัะธะธ ะดะพ ะบัะฐะนะฝะตะณะพ ะบะฐะฑะธะฝะตัะฐ, ะพะณะปัะฝัะปัั. ะ ะตะบัะตะฐัะธั ะฟะพ-ะฟัะตะถะฝะตะผั ะฑัะปะฐ ะฑะตะทะปัะดะฝะฐ ะธ ัะธั
ะฐ. ะะฐะทะดะตะตะฒ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ะฐะบะบััะฐัะฝัะต ะพัะผััะบะธ ะธ ะทะฐ ะฟะฐัั ัะตะบัะฝะด ัะฟัะฐะฒะธะปัั ั ะทะฐะผะบะพะผ. ะะฐะฑะธะฝะตั ะปะธัะตัะฐัััั ะฒัััะตัะธะป ะตะณะพ ะณัะปะบะพะน ะฟัััะพัะพะน ะธ ะฟะพัััะตัะฐะผะธ ะบะปะฐััะธะบะพะฒ ะฝะฐ ััะตะฝะฐั
. ะะตะฒ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฝะตะพะดะพะฑัะธัะตะปัะฝะพ ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป, ะบะฐะบ ะะฐะทะดะตะตะฒ ะทะฐะฟะธัะฐะตั ะดะฒะตัั ะธ ัะฐัะบะปะฐะดัะฒะฐะตั ะฝะฐ ะฟะตัะฒะพะน ะฟะฐััะต ัะฒะพะน ัะพัะบะพัะฝัะน ะดะธะฟะปะพะผะฐั. ะกะฒะตั ะฒ ะบะปะฐััะต ยซัะธะฝะพะฒะฝะธะบยป ะฒะบะปััะฐัั ะฝะต ััะฐะป. ะกะฒะตั ะฟะพัะฒะธะปัั ะธะท ะดะธะฟะปะพะผะฐัะฐ. ะฏัะบะธะน, ัะธะฝะธะน, ะพะฝ ะพะทะฐัะธะป ะทะฐะดะฝัั ััะตะฝั, ะฑัะพัะธะฒ ะฝะฐ ะฝะตั ะพะณัะพะผะฝัั ัะบัััะตะฝะฝัั ัะตะฝั ะะฐะทะดะตะตะฒะฐ, ัะบะปะพะฝะธะฒัะตะณะพัั ะฝะฐะด ะดะธะฟะปะพะผะฐัะพะผ.
— ะัะพะตะบั ยซะะตัะฝะพัััยป. ะัะพัะพะบะพะป ััะพ ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั. ะะพะด ะดะพะฟััะบะฐ ัะตะผั. ะัั
ะพะถั ะฝะฐ ัะฒัะทั. ะัะธัะผ. ะงัะพ-ัะพ ััะพัะฝะพะต, ัะตั? ะฃ ะผะตะฝั ะฝะต ะพัะตะฝั ัะดะพะฑะฝะพะต ะผะตััะพ ะดะธัะปะพะบะฐัะธะธ. โ ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะณะพะฒะพัะธะป ะฝะตะณัะพะผะบะพ, ะฝะพ ััะตะทะฒััะฐะนะฝะพ ัััะบะพ.
ะงะตะผะพะดะฐะฝัะธะบ ะพัะฒะตัะธะป ัะตะทะบะพ ะธ ะฝะฐ ัะพะฝ ะฒััะต ะะฐะทะดะตะตะฒะฐ.
— ะฃ ะฝะฐั ัะตะฟะตัั ะฒัั ััะพัะฝะพะต, ะัั. ะ ะตะถะธะผ ะฟะฐะฝะธะบะธ ะฝะฐ ะบะพัะฐะฑะปะต. ะัะธะฒัะบะฐะน. ะะตัะตะฒะพะดะธัั ะฒ ัะตะถะธะผ ะณะพะปะพะณัะฐะผะผั. ะฃ ะฟัะพะตะบัะฐ ะฝะพะฒัะน ะบััะฐัะพั ะธะท ะฑะปะธะถะฝะตะณะพ ะบััะณะฐ. ะขะฐะบ ััะพ ะฟัะพะฒะตะดััั ะดะปั ะฝะตะณะพ ััะพัะฝัั ะบะพะฝัะตัะตะฝัะธั. ะะพะปะพะถะธัั ะพะฑััะฐะฝะพะฒะบั. ะะธัะฝะตะณะพ ะฝะต ะฑะพะปัะฐะน. ะัั ะฟะพะด ะทะฐะฟะธัั.
— ะะพั, ัััั. ะะฝะธ ะฒะพะพะฑัะต ะดะฐะดัั ะฝะฐะผ ัะฐะฑะพัะฐัั? ะกะฟะปะพัะฝัะต ะดะพะบะปะฐะดั. โ ะะฐะทะดะตะตะฒ ะธะทะดะฐะป ัะธั
ะธะน ััะพะฝ ะธ ะฝะฐัะฐะป ััะพ-ัะพ ะฟะตัะตะบะปััะฐัั ะฒ ัะตะผะพะดะฐะฝัะธะบะต.
— ะะฐะฒะฐะน ะฑััััะตะต, ะัั. ะััะฐัะพั ะฝะตัะฒะฝะธัะฐะตั. ะะฐ, ะธ ะตัั. ะะพะฝัะตัะตะฝัะธั ัะฐััะธัะตะฝะฝะฐั. ะะพัะบะฐ ะฑัะดะตั, ะัั
ะพะฒะฝะธะบ ะธ ะคะตะดะตัะฐะป.
— ะ ะฟะพะฒะฐัะฐ ะฝะต ะฑัะดะตั? ะะปะธ ะฒัะฐัะฐ?
— ะัั, ะดะฐะฒะฐะน ัะตัััะทะฝะตะน. ะัะฐัะฐ ะตะผั ะฟะพะดะฐะฒะฐะน. ะ ะฐะดัะนัั, ััะพ ะฟะฐะปะฐัะฐ ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะฑัะดะตั.
ะฃ ะบะปะฐััะฝะพะน ะดะพัะบะธ ะพะดะฝะฐ ะทะฐ ะดััะณะพะน ะทะฐะธัะบัะธะปะธัั ะถัะปััะผ ัะปะตะบััะธัะตััะฒะพะผ ะฟััั ะณะพะปะพะณัะฐะผะผ ัะธะดััะธั
ะทะฐ ััะพะปะฐะผะธ ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบะพะฒ ะะฐะทะดะตะตะฒะฐ. ะกัะพะปั ะฝะฐะฟะปัะฒะฐะปะธ ะดััะณ ะฝะฐ ะดััะณะฐ. ะ ะบะปะฐััะต ััะฐะปะพ ัะตัะฝะพะฒะฐัะพ.
— ะะพ ัะบะฐะนะฟั ะบะฐะบ-ัะพ ัะฟะพะบะพะนะฝะตะต ะฑัะปะพ ะพะฑัะฐัััั, ะดััะตะฒะฝะตะต, โ ะทะฐะผะตัะธะป ะฑะปะฐะณะพะพะฑัะฐะทะฝัะน ัะฒััะตะฝะฝะธะบ, ะฝะต ะฟะตัะตััะฐะฒะฐั ะธัะบัะธัััั.
— ะะปั ัะตั
, ะบัะพ ะฝะต ะทะฝะฐะตั: ััะพ ะฝะฐั ะฒะตะดััะธะน ัะพัััะดะฝะธะบ ะฆะตะฝััะฐ ะซ, ัะฐะทัะฐะฑะพััะธะบ ะฟัะพะตะบัะฐ ยซะะตัะฝะพัััยป โ ะะฐะทะดะตะตะฒ ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั. ะะฝ ััั ะธััะพัะธั, ะผะพะถะฝะพ ัะบะฐะทะฐัั, ัะฒะพะธะผะธ ััะบะฐะผะธ ัะฐัะบะพะฟะฐะป, โ ัะบะฐะทะฐะป ะดะพะฑัะพะดััะฝัะน ะฝะฐ ะฒะธะด, ัะตะดะพะน ะผัะถัะธะฝะฐ, ัะฐัััะบัะธะนัั ะฒ ะฟัะพัะตััะพััะบะพะผ ะบัะตัะปะต.
— ะ ะฝะฐั ะฒัะตั
ะทะฐะบะพะฟะฐะป, โ ะฑะตััะฒะตัะฝัะผ ะณะพะปะพัะพะผ ะบะพะฝััะฐัะธัะพะฒะฐะป ะฑะปัะบะปัะน ัะธะฟ ั ะฒะตััะธะบะฐะปัะฝัะผะธ ะผะพััะธะฝะฐะผะธ ะฝะฐ ะปะพัะฐะดะธะฝะพะผ ะปะธัะต.
— ะ! ะฃ ะฝะฐั ะฒ ะฑะตะทะพะฟะฐัะฝะพััะธ ัะผะพัะธััั! โ ะดะตะปะฐะฝะฝะพ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปัั ะปัััะน, ั ะผะพะดะฝะพะน ะฑะพัะพะดะบะพะน. โ ะขะพะปัะบะพ ะฒัะพะดะต ะฝะต ะฒัะตะผั ะดะปั ัััะพะบ. ะะพัััะธะปะธััโฆ ะฅะพะทัะธะฝะฐ ัะฑะตัะตัั ะฝะต ัะผะพะณะปะธ, ัะตะฟะตัั ัะฐะผะพะต ะฒัะตะผั ะฒะตัะตะปะธัััั? ะัะต ััั ัะผั ะบะพะฟะฐะปะธ, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ัะตะฟะตัั ัะธะดะธะผ. ะขะฐะบ ััะพ ัะถ ะปัััะต ะฟะพัะปััะฐะตะผ ัะบัะฟะตััะฐ. ะัััั ัะฐััะบะฐะถะตั, ะบะฐะบ ะฒัะฑะธัะฐัััั ะฑัะดะตะผ. ะะพะถะฐะปัะนััะฐ, ะัะธะฟ ะฐ-ะฐ-ะฐ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั.
ะัะตะผ ััะฐะทั ััะฐะปะพ ะฟะพะฝััะฝะพ, ะบัะพ ะทะดะตัั ะณะปะฐะฒะฝัะน. ะะฐะทะดะตะตะฒั ัะพะถะต. ะะฝ ััะฐะป ะณะพะฒะพัะธัั, ะพะฑัะฐัะฐััั ะปะธัะฝะพ ะบ ะฑะพัะพะดะฐัะพะผั ะบััะฐัะพัั.
— ะะฐั ัะตะฝัั ัะพะทะดะฐะฝ ะดะฒะฐะดัะฐัั ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด ะฟะพ ะปะธัะฝะพะน ะธะฝะธัะธะฐัะธะฒะต ะกะตะผัะธ. ะั ะทะฐะฝะธะผะฐะตะผัั ะฟะพะธัะบะฐะผะธ ััะตะดััะฒ ะฟัะพะดะปะตะฝะธั ะถะธะทะฝะธ. ะัะฑัั
ััะตะดััะฒ. ะะต ัะพะปัะบะพ ะฝะฐััะฝัั
.
— ะัะพััะธ, ะะพัะฟะพะดะธ, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ัะฒััะตะฝะฝะธะบ.
— ะั ะธะทััะฐะปะธ ะปัะฑัะต ะฐะฝะพะผะฐะปะธะธ. ะัะพะฒะตััะปะธ ะปัะฑัะต ัะปัั
ะธ. ะ ะฐะทะฑะธัะฐะปะธัั ะฒ ะปะตะณะตะฝะดะฐั
. ะฏ ััะฐะทั ัะพััะตะดะพัะพัะธะปัั ะฝะฐ ะผะตััะฝะพะน ะธััะพัะธะธ. ะะพะฟะฐะป ะะพัะบะฒั. ะัะต ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฒะตัะธะปะธ ะฒ ะขะธะฑะตั, ะทะฐะณะปัะดัะฒะฐะปะธัั ะฝะฐ ะะฝะดะธั, ะฐ ั, ะทะฝะฐะตัะต ะปะธ, ะบัะฐะตะฒะตะดโฆ
— ะัั ััะพ ะฑะตะทัะผะฝะพ ะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ะัะธะฟ ะฐะฐะฐ. ะะพ ะฒัะตะผั, ะฒัะตะผั, ะฒัะตะผั. ะัะตะผั ะฟะพะดะถะธะผะฐะตั. ะะฐะฒะฐะนัะต ะบ ัััะธ. ะกัั
ะพ, ะฟะพ ะดะตะปั, โ ะบััะฐัะพั ะฟะพััััะฐะป ะถะธัะฝัะผ ัะบะฐะทะฐัะตะปัะฝัะผ ะฟะฐะปััะตะผ ะฟะพ ัะฒะพะตะผั ะฝะตะพะฑัััะฝะพะผั ััะพะปั.
— ะะพ ะดะตะปั, โ ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฟะพะผะพััะธะปัั, โ ะฟะพ ะดะตะปั, ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ะผะตัะฐัั ะฝะฐะผ. ะะต ะฒะปะตะทะฐัั ะฝะฐ ะฝะฐัะต ะฟะพะปะต ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ะฟัะตะฒะดะพัััะพะธัะตะปัะฝัะผะธ ะฟัะพะตะบัะฐะผะธ. ะะฝะธัะธะฐัะธะฒะฐะผะธ ััะธะผะธ ะดะธะบะธะผะธ. ะะฝะพะผะฐะปะธั ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฝะต ะธะทััะตะฝะฐ. ะัั ะฝะฐ ััะพะฒะฝะต ะณะธะฟะพัะตะท. ะจะธัะพ ะฑะตะปัะผะธ ะฝะธัะบะฐะผะธ. ะะพ ะฟะพัะปะต ะฟะตัะฒะพะณะพ ะถะต ะผะพะตะณะพ ะดะพะบะปะฐะดะฐ ััะดะฐ ะฝะฐะฟะตัะตะณะพะฝะบะธ ัะธะฝัะปะธัั ัะธะปะพะฒะธะบะธ. ะะพัะปะพ ัะพัะตะฒะฝะพะฒะฐะฝะธะต, ะบัะพ ะฟะตัะฒัะน ั
ะพะทัะธะฝั ะฝะฐ ะฑะปัะดะตัะบะต ะฑะตััะผะตััะธะต ะฟัะธะฝะตััั. ะกัะพะปัะบะพ ะดัะพะฒ ะฝะฐะปะพะผะฐะปะธ.
— ะญะบัะฟะตัั, ัั ะทะฐ ะฑะฐะทะฐัะพะผ ัะปะตะดะธ. ะะต ะฝะฐ ะบะฐัะตะดัะต ั ัะตะฑั, โ ะฒะพะทะผััะธะปัั ัััะพะฒัะน ัะพะปัััะบ ะฒ ะณะตะฝะตัะฐะปััะบะพะผ ะผัะฝะดะธัะต.
— ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั, ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ. ะกัะฑะพัะดะธะฝะฐัะธั ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะพัะผะตะฝัะป. ะะฐะฒะฐะน, ะฝะต ัะฒะปะตะบะฐะนัั, โ ัะฐััััะพะตะฝะฝะพ ะฟัะพะณัะดะตะป ัะตะดะพะน.
— ะัะพะดะพะปะถะฐะนัะต, ะัะธะฟ! โ ะบััะฐัะพั ะฟัะธะฒััะฐะป ะธะท-ะทะฐ ััะพะปะฐ. โ ะั ัะบะฐะทะฐะปะธ โ ะฑะตััะผะตััะธะต. ะฏ ะฝะต ะพัะปััะฐะปัั?
ะะฐะทะดะตะตะฒ ัะฝะพะฒะฐ ะฟะพะผะพััะธะปัั, ะบะฐะบ ะพั ะทัะฑะฝะพะน ะฑะพะปะธ.
— ะะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบ. ะขะพะปัะบะพ ะฒ ะพะฟัะตะดะตะปัะฝะฝะพะผ ัะผััะปะต. ะ ะตัั ะฝะต ะธะดัั ะพ ะฝะตัะปะตะฝะฝะพััะธ ัะธะทะธัะตัะบะพะณะพ ัะตะปะฐ. ะ ะตัั ะธะดัั ะพ ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ. ะขะพ ะตััั ะพ ะฟะตัะตัะตะปะตะฝะธะธ ะปะธัะฝะพััะธ ะธะปะธ, ะตัะปะธ ะฒะฐะผ ัะฐะบ ะฑะพะปััะต ะฝัะฐะฒะธััั, ะดััะธ ะฒ ะดััะณะพะต ัะตะปะพ. ะ ะดะฐะฝะฝะพะผ ัะปััะฐะต โ ัะพะดััะฒะตะฝะฝะพะต. ะ ัะพะทะฝะฐัะตะปัะฝะพะน ะบะพะฝััะพะปะธััะตะผะพะน ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ.
— ะะณะฐ. ะะณะฐ. ะะพั ััะพ ัะถะต ะธะฝัะตัะตัะฝะพ, โะบััะฐัะพั ะธะฝััะธะฝะบัะธะฒะฝะพ ะฟะพััั ะบะพัะพัะตะฝัะบะธะต ัััะบะธ, โ ะดะฐะฒะฐะนัะต ะทะดะตัั ะฟะพะดัะพะฑะฝะตะต. ะงัะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ะฒั ะฝะฐััะปะธ?
— ะะปั ะฝะฐัะฐะปะฐ ะฐะฝะพะผะฐะปัะฝัั ะทะพะฝั ะฒ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต. ะ ะฐะนะพะฝ ะะฐะปะฐััะฒะบะฐ, ะณะดะต ะทะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ััะพ ะปะตั ะทะฐัะธะบัะธัะพะฒะฐะฝะพ ะฑะพะปััะต ะฒัะตะณะพ ะฝะตะพะฑัััะฝะธะผัั
ัะฒะปะตะฝะธะน. ะะตะฝั ััะฐะทั ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปะพ ะพะณัะพะผะฝะพะต ะบะพะปะธัะตััะฒะพ ะดะพะปะณะพะถะธัะตะปะตะน ะฒ ััะพะผ ัะฐะนะพะฝะต, ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฝะต ั
ะฐัะฐะบัะตัะฝะพะต ะดะปั ะะพัะบะฒั. ะกัะฐะป ะดะพะบะฐะฟัะฒะฐัััั. ะกะผะพััะตัั ะฒัะต ะดะพะบัะผะตะฝัั, ัะฒัะทะฐะฝะฝัะต ั ะธััะพัะธะตะน ัะฐะนะพะฝะฐ, ััะพะณะพ ะผะตััะฐ.
— ะ ะดะพะบะพะฟะฐะปัั ะดะพ ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะน ัะตะบะธโฆ โ ะฝะต ัะดะตัะถะฐะปัั ัะตะดะพะน ัะตั ะะฐะทะดะตะตะฒะฐ.
— ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะดะพ ะบะฐะฟะธัะฐ. ะะดะตัั, ะฐ ะบะพะฝะบัะตัะฝะพ ะฝะฐ ัะพะผ ัะฐะผะพะผ ะผะตััะต, ะณะดะต ั ัะตะนัะฐั ะฝะฐั
ะพะถััั, ะฟะพะปัะพัั ัััััะธ ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด ะธะท-ะฟะพะด ะทะตะผะปะธ ะฑะธะป ะธััะพัะฝะธะบ, ะบะพัะพัะพะผั ะฟะพะบะปะพะฝัะปะธัั ะผะตััะฝัะต ัะทััะฝะธะบะธ. ะะฝะธ ััะธัะฐะปะธ, ััะพ ะตะณะพ ะถะธะฒะธัะตะปัะฝะฐั ะฒะพะดะฐ ัะฒะพัะธั ััะดะตัะฐ. ะ ัะฐัััะฝะพะฒัั ะฟะพะบะปะพะฝัะปะธัั, ะธ ะดััะบะพะฒัะบะธะต, ะธ ะบัะธะฒะธัะธ.
— ะ, ััะฝะพะณัะฐัะธั ะฟะพัะปะฐ, โ ะทะฐัะบััะฐะป ัะตะบะฐัััะน ะณะตะฝะตัะฐะป, ะฝะต ะฒะธะดั, ะบะฐะบ ะฟัะตะทัะธัะตะปัะฝะพ ะฒะทะธัะฐัั ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ัะพ ััะตะฝ ะขะพะปััะพะน, ะงะตั
ะพะฒ ะธ ะะพะณะพะปั.
— ะะพัะพะผ ะธััะพัะฝะธะบ ัััะป ะฒ ะทะตะผะปั, ะธะทัะตะดะบะฐ ะฟัะพะฑะธะฒะฐััั ะฝะฐ ะฟะพะฒะตัั
ะฝะพััั ะบะปััะพะผ, ะฐ ะฝะฐ ััะพะผ ะผะตััะต ะฒะพะทะฝะธะบะปะพ ะบะฐะฟะธัะต ั ะธะดะพะปะฐะผะธ, ะบะพัะพัะพะต ะฟัะพะดะตัะถะฐะปะพัั ะดะพ ะบัะตัะตะฝะธั ะ ััะธ. ะกะปะตะดะพะฒ ะบะฐะฟะธัะฐ ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฝะต ะพััะฐะปะพัั, ะฐ ะปะตะณะตะฝะดะฐ ะพ ะตะณะพ ะฑะตััะผะตััะฝะพะผ ะกะปัะถะธัะตะปะต, ะถะธะฒัะตะผ ััะดะพะผ ั ะธััะพัะฝะธะบะพะผ, ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะพะฑัะฐะทะพะผ ะดะพะถะธะปะฐ ะดะพ ะฝะฐัะธั
ะดะฝะตะน. ะะตัะฝะตะต, ะดะพัะปะฐ ะปะตะณะตะฝะดะฐ ัะถะต ะฒ ะฒะฐัะธะฐะฝัะต ะพ ะฒะตัะฝะพะผ ะกะปัะถะธัะตะปะต ัะตัะบะฒะธ, ะฒะพะทะดะฒะธะณะฝััะพะน ะฝะฐ ะผะตััะต ะบะฐะฟะธัะฐ ะธ ัะฝะตััะฝะฝะพะน ะฟะพ ัะตัะตะฝะธั ะกะฒััะตะฝะฝะพะณะพ ัะธะฝะพะดะฐ ะฒ ะบะพะฝัะต ะฒะพัะตะผะฝะฐะดัะฐัะพะณะพ ะฒะตะบะฐ. ะ ะตัะตะฝะธะต ะดะปั ัะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฑะตัะฟัะตัะตะดะตะฝัะฝะพะต. ะะพ ัะปะธัะบะพะผ ัะถ ัะธัะพะบะพ ะฟะพัะปะฐ ะดััะฝะฐั ัะปะฐะฒะฐ ะพะฑ ััะพะน ัะตัะบะฒะธ ะธ ะตั ัะฒััะตะฝะฝะธะบะฐั
. ะะตะบะธะต ััะปัะต ะบัะฟัั ะฒะพะฒัั ะฝะฐะปะฐะดะธะปะธ ะฟัะพะดะฐะถั ัะฒััะพะน ะฒะพะดั ะธะท ัะตัะบะฒะธ, ั
ะพัั ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะพัะธัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ะธััะพัะฝะธะบะฐ ะฟัะธ ะฝะตะน ะฝะต ะฑัะปะพ. ะะพะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะธ, ััะพ ะฟะพ ะฝะพัะฐะผ ะฒ ัะตัะบะฒะธ ัะฟัะฐะฒะปัะปะธัั ัะทััะตัะบะธะต ะพะฑััะดั ะธ ะดะฐะถะต ะฟัะธะฝะพัะธะปะธัั ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะธะต ะถะตััะฒั. ะ ะธััะพัะธะธ ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ะทะฐะผะตัะฐะฝั ะบััะฟะฝัะต ะฒะตะปัะผะพะถะธ, ะธ, ะดะฐะฑั ะฟัะตะบัะฐัะธัั ัะปัั
ะธ ะพ ะตัะตัะธ, ัะตัะบะพะฒั ัะฝะตัะปะธ, ะฐ ะฝะฐ ะตั ะผะตััะต ะฟะพัััะพะธะปะธ ะทะดะฐะฝะธะต ัะตะผะตัะปะตะฝะฝะพะณะพ ััะธะปะธัะฐ. ะััะฐ-ะฝะฐััะพััะตะปั ัะพัะปะฐะปะธ ัะปัะถะธัั ะฒ ะฟัะธั
ะพะด ะฝะฐ ะะฐะฒะบะฐะท, ะฒ ัะพะปัะบะพ ััะพ ะฟะพัััะพะตะฝะฝัะน ะะพะทะดะพะบ, ะณะดะต ะตะณะพ ัะปะตะดั ะฟะพัะตััะปะธัั. ะััะฐะปัะฝัะต ัะปัะถะธัะตะปะธ ัะพะถะต ะบะฐะบ ะฒ ะฒะพะดั ะบะฐะฝัะปะธ. ะ ะปะธัั ะฟะพัะพะผะบะฐ ะพะดะฝะพะณะพ ะธะท ะดััะบะพะฝะพะฒ ะผะฝะต ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ััะดะพะผ ัะดะฐะปะพัั ะฝะฐะนัะธ. ะะฐะนัะธ ะทะดะตัั, ะฝะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบะต.
— ะะพะบะปัะฟ, ะบะปะตะฒะตัะฐ ะธ ะณััะทะฝัะต ะธะฝัะธะฝัะฐัะธะธ, โ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะป ัะฒััะตะฝะฝะธะบ. โ ะะพัะปะตะดัััะตะต ะฒะฝัััะธัะตัะบะพะฒะฝะพะต ัะฐััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธะต ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพ, ััะพ ัะปัั
ะธ ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝัะปะธัั ะทะฐ ะดะตะฝัะณะธ. ะ ัะตะปัั ะธั
ะฑัะปะธ ะบะฐะบ ัะฐะท ะฒััะพะบะพะฟะพััะฐะฒะปะตะฝะฝัะต ะฟัะธั
ะพะถะฐะฝะต, ะพะฑะฒะธะฝัะฝะฝัะต ะฒ ะตัะตัะธ. ะะฑััะฝัะต ะดะฒะพััะพะฒัะต ะธะฝััะธะณะธ, ะฒ ัะตะทัะปััะฐัะต ะบะพัะพััั
ะฟะพัััะฐะดะฐะปะฐ ัะตัะบะพะฒั.
— ะะดะฝะฐะบะพ ัะฒััะฐั ัะตะปะตะฑะฝะฐั ะฒะพะดะฐ ะธะท ัะฝะตััะฝะฝะพะน ัะตัะบะฒะธ ะฟัะพะดะฐะฒะฐะปะฐัั ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต. ะ ะพัะตะฝั ะดะฐะถะต ัะฐะฑะพัะฐะปะฐ. ะะฑ ััะพะผ ะตััั ัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธั ะฒ ะฝะตะทะฐะฒะธัะธะผัั
ะธััะพัะฝะธะบะฐั
. ะัะฐะฒะดะฐ, ัะตะทัะปััะฐัั ะฑัะปะธ ะฒัะตะณะดะฐ ะฝะตะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผั, โ ะฟะฐัะธัะพะฒะฐะป ะะฐะทะดะตะตะฒ.
— ะั ะพัะฒะปะตะบะปะธัั, ะัะธะฟ ะฐะฐะฐะฐ. ะะฐะฒะฐะนัะต ะฟัะพ ะฟะพัะพะผะบะฐ ะดััะบะพะฝะฐ, โ ะฒะตัะฝัะป ัะฐะทะณะพะฒะพั ะฒ ะฝัะถะฝะพะต ัััะปะพ ะบััะฐัะพั.
— ะะตะพัะดะธะฝะฐัะฝัะน ัะตะปะพะฒะตะบ. ะฃััะฝัะน-ะณะธะดัะพะปะพะณ. ะงััะฝัะน ะฐัั
ะตะพะปะพะณ. ะฃะถะต ัะพะณะดะฐ, ะฒะพัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด, ั ะฟะพะฝัะป, ััะพ ััะพ ัะตะดะบะฐั ัะดะฐัะฐ. ะะพั ะฑะพะปััะฐั ััะฑะฐ! ะ ะฟะพะฟะฐะฒ ะบ ะฝะตะผั ะดะพะผะพะน ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท, ั ัะดะพััะพะฒะตัะธะปัั, ััะพ ะฝะต ะพัะธะฑัั. ะขะฐะผ ะฟะฐั
ะปะพ ััะดะตัะฐะผะธ.
ะะพะถะธะปะพะน ะฒะพะตะฝะฝัะน ะฝะตะดะพะฒะพะปัะฝะพ ั
ะผัะบะฝัะป.
— ะะฐ-ะดะฐ, ะธะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบ. ะะฐั
ะปะพ ััะดะตัะฐะผะธ. ะฏ ัะฑะธะฒะฐะป ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ัะฒะพั ะถะธะทะฝั. ะะตัะตััะฒะฐ, ะถะตะฝัะธะฝั โ ะฒัั ะฟะพัะปะพ ะฒ ะดะตะปะพ. ะฏ ะดะพะปะถะตะฝ ะฑัะป ะทะฝะฐัั ะพ ะฝัะผ ะฒัั. ะฃะทะฝะฐัั ะตะณะพ ัะฐะนะฝั. ะั ััะฐะปะธ ะดััะทััะผะธ. ะะปะธะทะบะธะผะธ ะปัะดัะผะธโฆ โ ะะฐะทะดะตะตะฒ ะทะฐะผะพะปัะฐะป.
— ะ? โ ะบััะฐัะพั ะฝะต ะพัะตะฝะธะป ะตะณะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝะพะน ะฟะฐัะทั.
— ะะธัั ะพะดะฝะฐะถะดั ะพะฝ ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะปัั. ะัะธะฟะฟ. ะฃ ะฝะตะณะพ ะฑัะปะฐ ัะตะผะฟะตัะฐัััะฐ ะทะฐ ัะพัะพะบ. ะฏ ะฟะพะผะพะณ ะตะณะพ ะผะพะทะณั ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ัะฐััะปะฐะฑะธัััั. ะ ะพะฝ ะทะฐะณะพะฒะพัะธะป. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ััะพ ะฑัะปะพ ะฟะพั
ะพะถะต ะฝะฐ ะพะฑััะฝัะน ะฑัะตะด. ะกัะพะปัะบะพ ะธะผัะฝ, ัะพะฑััะธะน. ะะฝ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐะป, ะบัะพ ะฟะตัะตะด ะฝะธะผ. ะะฑัะฐัะฐะปัั ะบะพ ะผะฝะต ัะพ ัะฐะบ, ัะพ ัะดะฐะบ. ะ ะฐััะบะฐะท, ะบะฐะบ ะฟะพั, ะณัะฐะดะพะผ ะบะฐัะธะปัั. ะะฝ ัะปะพะฒะฝะพ ัะพัะพะฟะธะปัั ะธะทะปะธัั ะฒัั, ััะพ ะฝะฐะบะพะฟะธะป. ะขะพ, ััะพ ั ัะทะฝะฐะป ัะพะณะดะฐ, ััะพะธะปะพ ะผะพะธั
ััะฐัะฐะฝะธะน. ะะฝ ะฑัะป ั
ัะฐะฝะธัะตะปะตะผ ัะฐะนะฝั ะบะปััะฐ, ัะปัะถะธัะตะปะตะผ ะบะปััะฐ, ัะพะณะพ ัะฐะผะพะณะพ ะบะปััะฐ, ะฑะธะฒัะตะณะพ ะธะท-ะฟะพะด ะทะตะผะปะธ ัััััั ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด. ะ ะพะฝ ะฟะตัะตัะพะถะดะฐะปัั ัะฐะท ะฒ ะฟัััะดะตััั ะปะตั ะฟัะธ ะฟะพะผะพัะธ ะพะฑััะดะฐ ะธ ะทะฐะบะปะธะฝะฐะฝะธะน. ะะต ะผะตะฝััะต ะดะฒัั
ัะพั ะฟะตัะตัะพะถะดะตะฝะธะน. ะขััััะตะปะตัะฝัั ะปะธัะฝะพััั! ะฏ ะฟะพะฒะตัะธัั ะฝะต ะผะพะณ ะฒ ัะฐะบัั ัะดะฐัั. ะะตะณะตะฝะดะฐ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะฟัะฐะฒะดะพะน. ะ ะฐะท ะฒ ะฟัััะดะตััั ะปะตั ะฒะพะดั ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะน ัะตะบะธ ะฟะพะดะฝะธะผะฐัััั ะบ ะฟะพะฒะตัั
ะฝะพััะธ. ะะปั ะพะฑััะดะฐ ะตะผั ะฝัะถะฝั ะฑัะปะธ ะบะปัั, ะทะฐะบะปะธะฝะฐะฝะธะต ะธ ะตะณะพ ะดะตัะธ. ะขัะพะต ะดะตัะตะน.
— ะััั! ะะฐะบ ัะฐะท ััะพะต, โ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะฝะฝะพ ะฟัะพะบัะธัะฐะปะพ ะปะพัะฐะดะธะฝะพะต ะปะธัะพ.
— ะฏ ะถะต ะฟัะพัะธะป ะฝะต ะฟะตัะตะฑะธะฒะฐัั, โ ะฟัะพะบัะธัะฐะป ะฒ ะพัะฒะตั ะบััะฐัะพั. โ ะขะพ ะตััั ะฒัั, ััะพ ั ะฒะฐั ะตััั, โ ััะพ ะณะพัััะตัะฝัะน ะฑัะตะด ัััะฝะพะณะพ ะบะปะฐะดะพะธัะบะฐัะตะปั ะธ ะฒะฐัะฐ ะฒะตัะฐ ะฒ ะฝะตะณะพ? ะ ะผั ัะธะฝะฐะฝัะธัะพะฒะฐะปะธ ัะฐะบะพะน ะฟัะพะตะบั? ะะพะบะฐะทะฐัะตะปัััะฒ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ ะฝะตั?
— ะั ะถะดะฐะปะธ ะผะพะผะตะฝัะฐ ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ, ัะปะตะดะธะปะธ ะทะฐ ะพะฑัะตะบัะพะผ, ะฒะตะปะธ ะตะณะพ, โ ะฒัััะฟะธะป ะฒ ัะฐะทะณะพะฒะพั ัะตะดะพะน. โ ะฅะพะทัะธะฝ ะฑัะป ะฒ ะบัััะต. ะะณะพ ะฒัั ััััะฐะธะฒะฐะปะพ. ะญัะพ ัะพะฝะบะธะต ะผะตัะฐัะธะทะธัะตัะบะธะต ะผะฐัะตัะธะธ. ะั ะฝะต ะผะพะณะปะธ ะฐัะตััะพะฒะฐัั ะพะฑัะตะบั ะธ ะดะพะฟัะฐัะธะฒะฐัั ะตะณะพ. ะ ะฐะฝะพะผะฐะปัะฝัั ะทะพะฝั ะฝะตะปัะทั ะปะตะทัั ั ะฒะฐัะธะผะธ ัะธะปะพะฒัะผะธ ะผะตัะพะดะฐะผะธ. ะขะพ, ััะพ ะผั ะธะผะตะตะผ ัะตะนัะฐั, ะบะฐะบ ัะฐะท ัะตะทัะปััะฐั ัะฐะบะธั
ะพัะธะฑะพัะฝัั
, ะปะพะฑะพะฒัั
ะดะตะนััะฒะธะน. ะะพั ะธ ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะฟะพะดัะฒะตัะดะธั.
ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฟัะพะบะฐัะปัะปัั ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะดะพะบะปะฐะด.
— ะะพัะปะต ัะพะน ะธััะพัะธะธ ั ะณัะธะฟะฟะพะผ ะธ ะฟัะธะทะฝะฐะฝะธะตะผ ะพะฑัะตะบั ะทะฐะผะบะฝัะปัั ะฒ ัะตะฑะต. ะกัะฐะป ััะพ-ัะพ ะฟะพะดะพะทัะตะฒะฐัั. ะะตัะตััะฐะป ัะพ ะผะฝะพะน ะพะฑัะฐัััั. ะะฝะต ะฟัะธัะปะพัั ะธััะตะทะฝััั ะธะท ะตะณะพ ะฟะพะปั ะทัะตะฝะธั. ะั ะฒัั ััะพ ะฒัะตะผั ะฟะฐัะปะธ ะตะณะพ, ะตะณะพ ัะตะผัั, ะพะบััะถะตะฝะธะต ััะฝะฐ ะธ ะถะดะฐะปะธ. ะะพ ะฟัะธ ััะพะผ ะฝะต ัะตััะปะธ ะฒัะตะผะตะฝะธ. ะัะพะฒะตะปะธ ะณะธะดัะพะปะพะณะธัะตัะบัั ัะบัะฟะตััะธะทั, ัะฐะท ะฒ ะณะพะด ะฑัะฐะปะธ ะฐะฝะฐะปะธะท ะณััะฝัะพะฒัั
ะฒะพะด, ะธััะปะตะดะพะฒะฐะปะธ ะฒัะต ััะฐััะต ะฟะพะดะฒะฐะปั ะฝะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบะต. ะัะต ะฑัะปะธ ะฒ ะบัััะต, ััะพ ะฝะฐะดะพ ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฟะพัะตัะฟะตัั. ะะพ ะฟะพะปะณะพะดะฐ ะฝะฐะทะฐะด ะฟะพัะฒะธะปัั ะฟัะพะตะบั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฟะพ ัะฝะพัั ะะฐะปะฐััะฒะบะธ ะธ ัััะพะธัะตะปัััะฒั ะพะณัะพะผะฝะพะณะพ ัะฐะทะฒะปะตะบะฐัะตะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ ั ะฑะฐััะตะนะฝะพะผ ะธ ะฒะพะดะพะปะตัะตะฑะฝะธัะตะน.
ะะพัะฐะดะธะฝะพะต ะปะธัะพ ะฒะฝะพะฒั ะฒัััะฟะธะปะพ ะฒ ะฑะพะน:
— ะ ััะพ ะฝะฐะผ ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะถะดะฐัั ะดะพ ะฒัะพัะพะณะพ ะฟัะธัะตััะฒะธั? ะัะพััะธัะต, ัะฒััะพะน ะพัะตั. ะัะตะผั ัะปะพ. ะฅะพะทัะธะฝ ะฝะต ะผะพะปะพะดะตะป. ะ ะฝะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบะต ะฒัั ะทะฐัััะปะพ. ะัะพะตะบั ยซะะตัะฝะพัััยป, ัะฐะบ ะตะณะพ ัะฐััะฐะบ. ะะฐะบ ะฒั ะปะพะดะบั ะฝะฐะทะพะฒััะตโฆ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะผั ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ ะฒััะผะฝัั. ะะฐะผ ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะดะพะฑัะฐัััั ะดะพ ะฒะพะดั, ะดะพ ััะพะณะพ ะบะปััะฐ ะฟะพะด ะณะธะผะฝะฐะทะธะตะน. ะะฐะฝััััั ะตะณะพ ัะฐะทัะฐะฑะพัะบะพะน.
— ะะพ ััะพ ะถะต ะฝะต ะฝะตััั! โ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะป ะะฐะทะดะตะตะฒ.
— ะขะฐะบ, ะทะฝะฐัะธั, ะทะฐะฝััััั ะตะณะพ ัะฐะทัะฐะฑะพัะบะพะน, โ ัะฟััะผะพ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะคะตะดะตัะฐะป. โ ะะฐั ัะบัะฟะตัั, ะถะตะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะฟะพะดัะฒะตัะดะธะปะฐ, ััะพ ัะตะนัะฐั ะดะปั ััะพะณะพ ะฝะฐะธะปัััะตะต ะฒัะตะผั. ะ ะตะบะฐ ะฟะพะดะพัะปะฐ ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ะฑะปะธะทะบะพ. ะั, ะผั ะธ ะฝะฐัะฐะปะธ ัะฐะฑะพัั. ะะฐะพะดะฝะพ ั
ะพัะตะปะพัั ะฟะพะดััะตะณะฝััั ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ, ััะพะฑั ะพะฝ ะทะฐะดััะณะฐะปัั. ะะพัะฟะตัะธะป ัะพ ัะฒะพะตะน ััะพะนโฆ ะบะฐัะฝะฐัะธะตะน.
— ะัะพ ัะฐะบะพะน ะฑะตะทะฝะพััะน? โ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะบััะฐัะพั.
— ะะธัะธะปะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ััะพ ะธ ะตััั ะฝะฐั ะพะฑัะตะบั, ะะตัะฝัะน ะกะปัะถะธัะตะปั ะะปััะฐ, โ ะณะพัะตััะฝะพ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ัะตะดะพะน.
— ะั ะธ ััะพ? ะัั ะฟะพะปััะธะปะพัั? ะะฐะดััะณะฐะปัั? โ ะปัะบะฐะฒะพ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะบััะฐัะพั.
— ะะฝ ะทะฐะฑะพะปะตะป ะธ ัะผะตั, โ ั
ะผััะพ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดะตัะฐะป. โ ะะพ ััะพ ะฝะตะดะพัะผะพัั ะฆะตะฝััะฐ ะซ. ะั
ะพะฑัะตะบั, ะธะผ ะธ ะพัะฒะตัะฐัั. ะขะฐะบ ััะพ ะถะดะฐัั ะฑะพะปััะต ะฝะตัะตะณะพ. ะะฐะปะฐััะฒะบั ัะฝะพัะธะผ. ะััะพัะฝะธะบ ะฒัะบะฐัะธะฒะฐะตะผ. ะก ะฒะพะดะพะน ัะฐะทะฑะธัะฐะตะผัั. ะะฑััะด ะฟัะพะฒะพะดะธะผ.
— ะขะฐะบ ะฒะฐั ะฑะตััะผะตััะฝัะน ัะปัะถะธัะตะปั ะธ ัะผะพััะธัะตะปั ัะผะตั? ะ ััะพ ะฒั ะผะฝะต ัะพะณะดะฐ ััั ะณะพะปะพะฒั ะผะพัะพัะธัะต? ะงัะพ ะทะฐ ัะตััะพะฒัะธะฝะฐ ั ะฒะฐั ััั ะฒะพะพะฑัะต ัะฒะพัะธััั? โ ะบััะฐัะพั ัััะฐะฒะธะปัั ะฝะฐ ัะตะดะพะณะพ ัะฒะพะธะผะธ ัะพะฒะธะฝัะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ.
ะะพ ะพัะฒะตัะธะป ะตะผั ะะฐะทะดะตะตะฒ.
— ะะฑัะตะบั ัะผะตั, ะฝะพ ะฝะต ัะพะฒัะตะผ. ะะณะพ ะฐัััะฐะปัะฝะพะต ัะตะปะพ ัะฐะผ, ะฒ ะฐะฝะพะผะฐะปัะฝะพะน ะทะพะฝะต, ะฟะพะด ะะฐะปะฐััะฒะบะพะน. ะะดัั ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ. ะัั ะดะพะปะถะฝะพ ัะปััะธัััั ะฒ ะฑะปะธะถะฐะนัะธะต ะดะฝะธ. ะั ัะฒะตัะตะฝั.
ะกะฒััะตะฝะฝะธะบ ะณัะพะผะบะพ ะธ ััะถะตะปะพ ะฒะทะดะพั
ะฝัะป.
— ะั ะฒัั, ะดััะทัั. ะก ะผะตะฝั ั
ะฒะฐัะธั ะฒะฐัะธั
ะฑัะตะดะฝะตะน. ะะพะฒะพัะธะป ั ะะปะฐัะพะฝั: ั
ัะฐะผ ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะฒะพัััะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐัั, ะฐ ะฝะต ั ะฝะตัะธัััั ััะพะน ะฝะพัะธัััั. ะะพะธะณัะฐะตัะตัั ะฒะตะดั! ะั, ะปะฐะดะฝะพ, ะปะฐะดะฝะพ. ะะฐ ะฒัั ะฒะพะปั ะะพะถะธั. ะะฝะณะตะปะพะฒ ั
ัะฐะฝะธัะตะปะตะน ะฒะฐะผ. ะะพะผะพะปััั ะทะฐ ะฒะฐั.
ะะพะปะพะณัะฐะผะผะฐ ัะฒััะตะฝะฝะธะบะฐ ะธััะตะทะปะฐ ัะพ ะทะฒะพะฝะบะธะผ ะธะทะดะตะฒะฐัะตะปััะบะธะผ ั
ะปะพะฟะบะพะผ. ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฒ ะพัะตัะตะดะฝะพะน ัะฐะท ะฒะทะดะพั
ะฝัะป ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ัะฒะพะน ะทะฐััะฝัะฒัะธะนัั ะดะพะบะปะฐะด:
— ะฃ ะฝะฐั ะฒัั ะฟะพะด ะบะพะฝััะพะปะตะผ. ะะฐั ะฐะณะตะฝั ัะถะต ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะปะตั ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ััะดะพะผ ั ััะฝะพะผ ะกะปัะถะธัะตะปั. ะะฐ ะดะฝัั
ะผั ะฝะฐัะปะธ ะตะณะพ ะดะพัั. ะฃะฒะตัะตะฝ, ััะพ ะฒะพั-ะฒะพั ะฟัะพัะฒะธััั ะธ ััะตัะธะน ัะตะฑัะฝะพะบ. ะั ะฟัะพัะธะผ ะฝะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟัะตะบัะฐัะธัั ัะฝะพัะธัั ะทะดะฐะฝะธั. ะัั ัะฐะท ะฟะพะฒัะพััั: ััะพ ัะพะฝะบะธะต ะผะฐัะตัะธะธ, ะฝะต ะฟะพะดะฒะปะฐััะฝัะต ะฝะฐัะตะผั ัะฐะทัะผั. ะั ัะฟัะณะฝััะต ะธััะพัะฝะธะบ. ะกะพัะฒััะต ะพะฑััะด. ะะพะดะฐ ะธ ัะฐะบ ัะถะต ะพััััะฟะธะปะฐ. ะัะฑ ะทะฐัะพั
. ะะฐะผ ะฒัั ะฒัะตะผั ะผะตัะฐัั. ะะพะดััะฐะฒะปััั. ะะฐะบ ัะพะณะดะฐ ั ะฐััะธััะพะผ.
ะะพัะฐะดะธะฝะพะต ะปะธัะพ ะฟะตัะตัะปะพ ะฝะฐ ะบัะธะบ:
— ะะพั ัะพะปัะบะพ ะฟัะพ ะฐััะธััะฐ ัะตะนัะฐั ะดะฐะฒะฐะนัะต ะฝะต ะฑัะดะตะผ! ะฃ ะฝะฐั ะบะพะปะปะฐะฟั ะฒ ัััะฐะฝะต, ะฅะพะทัะธะฝ ะฒ ะบะพะผะต, ะฐ ะพะฝ ะผะฝะต ะฟัะพ ะฐััะธััะฐ ััั ะฑัะดะตั ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐัั, ะตัะธัั ัะฒะพั ะฝะฐะปะตะฒะพ. ะะฐะปะฐััะฒะบั ะพัะตะฟะธะผ, ะฒัะตั
ะฒััะตะปะธะผ, ะฒะพะดั ััั ะธะท-ะฟะพะด ะทะตะผะปะธ ะดะพััะฐะฝะตะผ, ะพะฑััะด ะฟัะพะฒะตะดัะผ, ะฅะพะทัะธะฝะฐ ะฒะตัะฝัะผ. ะะฐ, ะณะตะฝะตัะฐะป?
ะะพะตะฝะฝัะน ะพะถะธะฒะธะปัั:
— ะะฐ, ะกะตัะณะตะน ะะฒะฐะฝัั, ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ ัั ะฒัั ัะบะฐะทะฐะป. ะะฐะฒะฝะพ ะฟะพัะฐ. ะั ััะธั
ัะฐัะปะฐัะฐะฝะพะฒ ะฝะธะบะฐะบะพะน ะฟะพะปัะทั. ะั ะฒ ะดะฒะฐ ััััะฐ ััั ั ัะพะฑะพะน ะฟะพััะดะพะบ ะฝะฐะฒะตะดัะผ.
— ะั ะฝะฐะฒะตะปะธ ัะถะต, โ ัะตะดะพะน ะฟัะธะฒััะฐะป, ั ะณัะพั
ะพัะพะผ ะพัะพะดะฒะธะฝัะฒ ะบัะตัะปะพ. โ ะั ะฒะพะดะพะบะฐัะบั ะทะฐัะตะผ ะฒะทะพัะฒะฐะปะธ? ะัะผะฐะปะธ, ะพัััะดะฐ ััะฐะทั ััะดะตัะฝัะน ะธััะพัะฝะธะบ ะทะฐะฑััั?
— ะกะฟะพะบะพะนะฝะพ, ัะฟะพะบะพะนะฝะพ! ะฏ ะฒัั ะฟะพะฝัะป, โ ะบััะฐัะพั ะฒะพะทะดะตะป ะบ ะฟะพัะพะปะบั ะบะพัะพัะตะฝัะบะธะต ัััะบะธ. โ ะัะฐัะธ ะณะพะฒะพััั, ั ะฝะฐั ะตััั ััะธ ะดะฝั. ะญัะพ ะทะฝะฐัะธั, ััะพ ะทะฐ ััะธ ะดะฝั ะผั ะดะพะปะถะฝั ัะฟะฐััะธ ัะธััะฐัะธั. ะะฐ ััะธ ะดะฝั ั ะทะฐะผะพัะฐะถะธะฒะฐั ัะฝะพั ะะฐะปะฐััะฒะบะธ. ะะฐ ััะพ ะฒัะตะผั ะฆะตะฝัั ะซ ะดะพะปะถะตะฝ ะฝะฐะนัะธ ะฝะตะดะพััะฐััะธะต ะบะพะผะฟะพะฝะตะฝัั ะดะปั ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ. ะัะฟะพะปัะทัะนัะต ะฒัะต ะดะพัััะฟะฝัะต ะฒะฐะผ ััะตะดััะฒะฐ. ะัะตะผ ะฒัั ะฟะพะฝััะฝะพ?
— ะฏ ะฟะพะดัะธะฝัััั ัะพะปัะบะพ ะฅะพะทัะธะฝั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะณะตะฝะตัะฐะป, ะธ ะตะณะพ ะณะพะปะพะณัะฐะผะผะฐ ัั
ะปะพะฟะฝัะปะฐัั.
— ะะปัะฟะตะนัะตะต ะธะท ัะตัะตะฝะธะน, โ ะฟัะพัะตะดะธะปะพ ะปะพัะฐะดะธะฝะพะต ะปะธัะพ ะฝะฐ ะฟัะพัะฐะฝัะต.
— ะะต ะฟะฐัััะตัั. ะญัะธ ัะฟััะผัะต ะพัะปั โ ะผะพั ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ, โ ะดะพะฒะตัะธัะตะปัะฝัะผ ัะพะฝะพะผ ะพะฑัะฐัะธะปัั ะบ ัะตะดะพะผั ะธ ะะฐะทะดะตะตะฒั ะบััะฐัะพั, โ ั ะฝะธั
ััะพะฒะตะฝั ะดะพัััะฟะฐ โ ัะตะผั. ะฃ ะฝะฐั ั ะฒะฐะผะธ ะดะตะฒััั. ะฏ ะดะฐะป ะฒะฐะผ ะบะฐัั-ะฑะปะฐะฝั. ะะฐ ััะพ ะฒั ััััะพะธัะต ะผะฝะต ะฒัััะตัั ั ะะปะฐัะพะฝะพะผ ะฒ ััะพะน ะฒะฐัะตะน ะฐะฝะพะผะฐะปัะฝะพะน ะทะพะฝะต. ะกะตะณะพะดะฝั ะฒะตัะตัะพะผ. ะัะตะผั ัะพะพะฑัั ะฟะพะทะดะฝะตะต.
ะกะตะดะพะน ะธ ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปะธัั.
— ะขะพะปัะบะพ ะฝะต ะฝะฐะดะพ ะผะฝะต ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐัั ะฟัะพ ะณะฐะปะปััะธะฝะพะณะตะฝะฝัั ะฟะปะตัะตะฝั ะฒ ะฟะพะดะฒะฐะปะฐั
ะะฐะปะฐััะฒะบะธ. ะฏ ัะพัะฝะพ ะทะฝะฐั, ััะพ ะจะตัะณะธะฝั ั ะฝะธะผ ัะฐะผ ะพะฑัะฐะปะธัั. ะก ะฝะธะผ ะธะปะธ ั ะตะณะพ ะดัั
ะพะผ. ะะตะฒะฐะถะฝะพ. ะะฝะต ัะพะถะต ะฝะฐะดะพ. ะกัะพัะฝะพ. ะะฐ-ะดะฐ, ั ะผะฝะพะณะพ ัะตะณะพ ะทะฝะฐั. ะ ะฐะฑะพัะฐ ัะฐะบะฐั. ะ ะฒะพั ะตัั ััะพ. ะั ัะพัะพะฟะธัะตัั, ะฝะพ ะฝะต ััะตะทะผะตัะฝะพ. ะะทะปะธัะฝัั ัะฟะตัะบะฐ ะฝะฐะผ ะฝะต ะฝัะถะฝะฐ. ะั ะถะต ะฝะต ะฑะปะพั
ััั ะปะพะฒะธะผ. ะะพะฝััะฝะพ? ะะตะปัะทั ะฝะฐะฟะพััะฐัะธัั. ะกัะดัะฑะฐ ะ ะพะดะธะฝั ั ะฒะฐั ะฒ ััะบะฐั
. ะััะฐัะธ, ััะพ ัะฐะผ ะฑัะปะพ ะฟัะพ ะดะตัะตะน ะธ ะพะฑััะด, ะัะธะฟ? ะขัะธ ัะตะฑัะฝะบะฐ โ ััะพ ะบะฐะบ-ัะพ ัะฒัะทะฐะฝะพ ั ะถะตััะฒะพะฟัะธะฝะพัะตะฝะธะตะผ? ะะดััะณ ะผั ะฝะต ะฝะฐะนะดัะผ ััะตััะตะณะพ ัะตะฑัะฝะบะฐ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ? ะะพะถะตั, ะฟะปะตะผัะฝะฝะธัะฐ ัะณะพะดะธััั ะดะปั ะพะฑััะดะฐ? ะัะพัะฐะฑะพัะฐะนัะต ะฒัะต ะฒะฐัะธะฐะฝัั. ะั, ััะพ ั ัะฐะบ, ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน ัะฟัะพัะธะป. ะ ะพะฑัะตะผ, ะดะพ ะฒะตัะตัะฐ. ะฃัะฟะตั
ะพะฒ ะฝะฐะผ.
ะ ะบะปะฐััะต ะพััะฐะปะฐัั ัะพะปัะบะพ ะพะดะฝะฐ ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะฐั ะณะพะปะพะณัะฐะผะผะฐ. ะกะตะดะพะน ะผะพะปัะฐะป. ะะฐะทะดะตะตะฒ ะผะพะปัะฐะป ะฒ ัะฝะธัะพะฝ.
— ะะตัะตะนะดะธ-ะบะฐ ะฝะฐ ะดะตัััะบั, โ ะฒะทะพัะฒะฐะป ัะธัะธะฝั ัะตะดะพะน ะธ ัะฐััะฒะพัะธะปัั ะฒ ะฒะพะทะดัั
ะต. ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฝะฐะถะฐะป ะบะปะฐะฒะธัั, ะธ ะตะณะพ ัะตะผะพะดะฐะฝัะธะบ ะพะทะฐัะธะปัั ะทะตะปัะฝัะผ ัะฒะตัะพะผ, ะฝะฐะฟะพะปะฝะธะฒ ะบะปะฐัั ัะพะฒะฝัะผ ะถัะถะถะฐะฝะธะตะผ ะฑะพัะผะฐัะธะฝั. ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฒััะฐะฒะธะป ะฒ ััะธ ะบะพัััะฝัะต ะฝะฐััะฝะธะบะธ.
— ะะพั ัะฐะบ ะฒะพั, ะัั. ะะพั ั ะบะตะผ ะผั ัะฐะฑะพัะฐะตะผ. ะะพ ะผั ั ัะพะฑะพะน ะทะฝะฐะปะธ ััะพ. ะ ะทะฝะฐัะธั, ะผั ะฒัั ัะดะตะปะฐะตะผ ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ. ะ ะะตััะบั ะธะผ ะฝะต ัะดะฐะดะธะผ.
— ะั, ะะณะพัั ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั. ะัะปะธ ะฝะต ะบััะฐัะพั ััะพั, ัะพ ัะตะดะตัะฐะปั ะดะพ ะะตะทะฝะพัะฐ ัะพัะฝะพ ะดะพะฑะตััััั. ะะพ ะฟะพะฑะพัะตะผัั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, โ ัััะฐะปะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะฐะทะดะตะตะฒ. โ ะะปะฐะฒะฝะพะต, ััะพะฑั ะพะฝะธ ะดะพ ะะธะทั ะะตะนะฝะตะฝ ะฝะต ะดะพะฑัะฐะปะธัั. ะัะตะดััะฐะฒะปัะตัะต, ะบะฐะบะธั
ะดะตะป ะพะฝะธ ะผะพะณัั ั ะตั ะฟะพะผะพััั ะฝะฐัะฒะพัะธัั?
— ะฃะฒะตัะตะฝ, ััะพ ะพะฝะธ ะพ ะฝะตะน ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะทะฝะฐัั?
— ะฃะถะต ะฝะตั. ะะธ ะฒ ััะผ ะฝะต ัะฒะตัะตะฝ. ะ ัะพะผั ะถะต, ะฟะพะบะฐ ั ััั ะฟะตัะตะด ะบััะฐัะพัะพะผ ะฒััััะฟะฐะป, ะจะตัะณะฐ ัะฒะพั ัะพะฑัะฐะฝะธะต ะฟัะพะฒะพะดะธะปะฐ. ะ ััะพ ะพะฝะฐ ัะฐะผ ัะพ ัะฒะพะตะน ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะฝะพัััั ะฟัะธะดัะผะฐะปะฐ, ั ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะทะฝะฐั. ะจะตั! ะญัั ัะตะผั ะฝะตะปัะทั ะฝะธ ะฝะฐ ะผะธะฝััั ะธะท-ะฟะพะด ะบะพะฝััะพะปั ะฒัะฟััะบะฐัั. ะะพะฝะตั ัะฒัะทะธ. ะะดั ะฒะฐัะตะณะพ ัะธะณะฝะฐะปะฐ.
ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฒัะบะปััะธะป ะฟะตัะตะดะฐััะธะบ. ะ ะดะฒะตัั ะบะฐะฑะธะฝะตัะฐ ะปะธัะตัะฐัััั ะฟะพััััะฐะปะธ. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ััะธ ัะฐะทะฐ ัะพะฑะบะพ. ะะพัะพะผ ััะธ ัะฐะทะฐ ะฝะฐััะพะนัะธะฒะพ. ะะฐะทะดะตะตะฒ ะฟะพะปะพะถะธะป ะฝะฐััะฝะธะบะธ ะฒ ะดะธะฟะปะพะผะฐั ะธ ะทะฐะบััะป ะตะณะพ. ะะพะดะพััะป ะบ ะดะฒะตััะผ, ะฝะพ ัะฐะทัะผะฝะพ ะฒััะฐะป ะฝะต ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ะฐ ััะดะพะผ.
— ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะธั, ััะพ ั. ะัะบัะพะนัะต. ะะฐะผ ััะพัะฝะพ ะฝัะถะฝะพ ะฟะพะณะพะฒะพัะธัั. ะฏ ะทะฝะฐั, ะฒั ััั, โ ัะฐะทะดะฐะปัั ะธะท-ะทะฐ ะดะฒะตัะตะน ะฒััะพะบะธะน ะปะพะผะฐััะธะนัั ะผะฐะปััะธัะตัะบะธะน ะณะพะปะพั.
ะะปะฐะฒะฐ 16. ะััะตะผ ะัั ะพะฒะธั. ะะพะปะฝะฐ


…ะกะฒะตัะปะพ? ะงัะพ ะทะฐ ัะฒะตั, ะพัะบัะดะฐ ัะฒะตัะธั? ะะตะปัะผ, ะทัะฑะบะธะผ ัะฐะบะธะผ. ะ ัะฐะผ ัะพะถะต ะฟะพะปัั
ะฐะปะพ, ะฝะพ ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฑะตะปัะผ, ะฝะตั…
ะ ัะฝะพะฒะฐ ะะฝ ัะฒะธะดะตะป, ะบะฐะบ ะฒะถะธะฒัั, ะฑะฐะณัะพะฒัะต ะพััะฒะตัั ะฒะพ ััะผะต, ะปะธัะฐ ั ะปะพะฟะฝัะฒัะธะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ัะพะถะผะฐะบะฐะฝะฝัะต ะบัะธะบะพะผ ะฒ ะบะพะผัั ะฑะพะปะธโฆ ะ ะะพะปะพั.
ะงัะพ ะพะฝ ัะพะบะพัะฐะป ะตะผั, ััะพั ะะพะปะพั? ะงัะพ-ัะพ ะฒะฐะถะฝะพะต. ะะตััะตัะฟะธะผะพ, ัะผะตััะตะปัะฝะพ ะฒะฐะถะฝะพะต. ะงัะพ-ัะพ ัะฐะบะพะต, ะฒะฐะถะฝะตะต ัะตะณะพ ะฟัะพััะพ ะฝะตั ะธ ะฝะต ะผะพะณะปะพ ะฑััั, ะฒะพั ะดะฐะถะต ะฒ ัะตัััะฝะฐะดัะฐัะพะผ, ะบะพะณะดะฐ…
ะกัะพะฟ.
ะะตะปัะน ัะฒะตั. ะกะพะฒัะตะผ ะฑะตะปัะน, ะผะพะปะพัะฝัะน, ะฑะตะท ะถะตะปัะธะทะฝั, ะฑะตะท ะพะณะฝะตะฝะฝัั
ะฑะปะธะบะพะฒ. ะะตัะฟะปะพัะฝัะน ะฒะตะทะดะตัััะธะน ัะฒะตั.
ะฏ ััะพ, โ ะผะตะปัะบะฝัะปะฐ ะฟัะณะปะธะฒะฐั ะผััะปั, โ ัโฆ ะฒ ัะฐั, ััะพ ะปะธ?
ะัั
ะพะดะธั, ััะพั ะะพะปะพั ะฟัะพััะพโฆ ะฝั, ะฟะพะฝัะพะฒะฐะป? ะัะพะดะต ะบะฐะบ ั ัะพะณะดะฐ ั ััะพะน ะฃะบัะฐะธะฝะพะน? โ ั
ะพะปะพะดะตะป ะะฝ, ะฒะณะปัะดัะฒะฐััั ะฒ ะทัะฑะบัั ะฑะตะปะธะทะฝั. ะัั
ะพะดะธั, ะฒัะต-ัะฐะบะธ…
ะ, ะะพัะฟะพะดะธ! ะะฝะฐัะธั, ะฒะพั ะบะฐะบ. ะะฝะฐัะธั… ะฝะพ ะทะฐ ััะพ-ัะพ ะถะต ั ะฟะพะฟะฐะป ััะดะฐ. ะขะฐะบ ะฟัะพััะพ ััะดะฐ ัะธะณ ะฟะพะฟะฐะดะตัั, ััะพ ัะตะฑะต ะฝะต ัะฒะพะต ัะฐัะตะนัะบะพะต ััะดะธะปะพะฒะพ, ััั ะฝะต ะพัะฑะพััะธัััั. ะ ะฐะท ัะถ ะฒะทัะปะธ ะฒ ัะฐะน-ัะพ…
ะั, ะพะบะตะน. ะ ััะพ ั ั
ะพัะพัะตะณะพ ัะดะตะปะฐะป? โ ะฒัะฟะปัะป ะฝะตะธะทะฑะตะถะฝัะน ะฒะพะฟัะพั. ะะตัะถะตะปะธ…
ะฅะฐ!
ะะฝ ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ั
ะพั
ะพัะฝัะป (ัะผะตัะพะบ ะฑะพะปัะฝะพ ัะฐัะฐะฟะฝัะป ะณะพัะปะพ). ะะท ะฑะตะปะพะณะพ ััะผะฐะฝะฐ ััั ะถะต ะฟัะพัััะฟะธะปะธ ัะธะปัััั โ ะพะดะธะฝ, ะดััะณะพะน… ะะฝะณะตะปั, ะฟะพะฝัะป ะะฝ ะธ ั
ะพั
ะพัะฝัะป ัะฝะพะฒะฐ. ะัั
ะพะดะธั, ะฒะพั ััะพ ะฒะพั ะฒัะต, ััะพ ะะณะพ ะฟะธะฐััะธะบะธ ะฝะฐะฟะธะฐัะธะปะธ ะฟัะพ ัะบัะตะฟั, ะฟัะพ ะดัั
ะพะฒะฝะพััั ะธ ัะฐะบ ะดะฐะปะตะต โ ะพะฝะพ-ัะฐะบะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ? ะ ะะฝ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะพะฟะปะพั ะธ ะฟะพัะปะตะดะฝัั ะฝะฐะดะตะถะดะฐ? ะ ั ะฒะตะดั ะทะฝะฐะป, ะฟะพะฝะธะผะฐะป ะะฝ ะธ ั
ะพั
ะพัะฐะป ัะฝะพะฒะฐ ะธ ัะฝะพะฒะฐ. ะัะตะณะดะฐ ะทะฝะฐะป ะธ ะฟะพะฝะธะผะฐะป, ััะพ ะผะฝะต ัะณะพัะพะฒะฐะฝะฐ ััะฐ, ะบะฐะบ ะตะต… ะั, ะฒะตะปะธะบะฐั ัะพะปั. ะงัะพ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ัะฐะดะธ ะฑะฐะฑะพะบ… ะฟะพัะพะผั ะบะฐะบ โ ััะพ ะฑะฐะฑะบะธ? ะ ะฐะท โ ะธ ะฝะตัั ะธั
; ะฐ ััะพ ะฒะตะดั ะฒะตัะฝะพะต. ะะตะดะฐัะพะผ ะฝะฐ ัะปะตะทั ะฟัะพัะธะฑะปะพ, ะบะพะณะดะฐ ะฒัะพัะพะน ัะฐะท ะฒัะฑะธัะฐะปะธ, ะฒัั
ะปะธะฟะฝัะป ะะฝ; ะฐ ัะพ, ััะพ ะผัั
ะปะธ ะฑัะปะธ, โ ัะฐะบ ัะฐะดะธ ะดะพะฑัะฐ ะถะต. ะ ะฐะดะธ ะฒัััะตะณะพ, ะฒัะตะปะตะฝัะบะพะณะพ ะดะพะฑัะฐ.
ะ ะฐะฝะณะตะปั, ะบััะฐัะธ, ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ัะฐะบะธะต, ะบะฐะบ ะธั
ัะธัััั. ะ ะฑะตะปะพะผ, ะดะฐ, ะฝะพ ะฒัะพะดะต ะฑั ั
ะฐะปะฐัั ะฝะฐ ะฝะธั
ะบะฐะบะธะต-ัะพ, ะฐ ะฝะต ะฒะพั ััะพ, ะฝะธัะฟะฐะดะฐััะตะต. ะฃ ะพะดะฝะพะณะพ ะฒะพะพะฑัะต ะพัะบะธ ะธ… ะธ ัะตะปะตัะพะฝ ั ัั
ะฐ.
ะงัะพ, ะธ ะทะดะตัั?
โ ะะฐัะธะปั ะัะธะณะพััะธั! ะะฐัะธะปั ะัะธะณะพััะธั! ะะปรซ! ะัะฝัะปัั! ะััะตะป ะธะท ะบะพะผั! ะะฐ! ะะฐ!.. โ ะพัะฐะป ะฐะฝะณะตะป.
ะ, ั
ะพัั ััะตัะปะธะฒัะน ัะฐะปััะตั ะตะณะพ ะฑัะป ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะฟะพั
ะพะถ ะฝะฐ ะะพะปะพั, ะฟะพัะตะผั-ัะพ ัะฐะทะพะผ ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะธัั ัะปะพะฒะฐ, ัะปััะฐะฝะฝัะต ัะฐะผ:
โ ะะต ัะฐัั
ะปะตะฑะฐะตัั ะบะฐัั, ัะพะฑะพะน ะทะฐะฒะฐัะตะฝะฝัั, โ ัะบะพัะพ ะฑัะดะตัั ะทะดะตัั. ะัะดะตัั, ะบะฐะบ ะพะฝะธ.
โ ะะฐะบ ะพะฝะธ, โ ะฟะพะฒัะพััะป ะะฝ ะฝะตะฟะพัะปััะฝัะผะธ ะณัะฑะฐะผะธ, ะณะปัะดั ัะบะฒะพะทั ะพัะบะฐััะพะณะพ ะฐะฝะณะตะปะฐ, ะธ ะฒะธะดะตะป ะฒะผะตััะพ ะฝะตะณะพ ะบะธะฟัััั ะผะฐะณะผั, ะธ ะฒ ะฝะตะน โ ะปะธัะฐ, ัะพะถะผะฐะบะฐะฝะฝัะต ะบัะธะบะพะผโฆ
***
ะงะฐัะฐ ัะตัะตะท ััะธ-ัะตัััะต, ะบะพะณะดะฐ ะพะถะธะฒัะธะน ะฅะพะทัะธะฝ ััะฟะตะป ะฟัะพะนัะธ ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะผะตะดะฟัะพัะตะดัั, ะฟะพัะปะฐัั ะฟะพะดะฐะปััะต ะฒัะพััั ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะธ ะฟะพััะตะฑะพะฒะฐัั ยซัะตะฐะปัะฝะพะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต ะดะตะป ะฒ ัััะฐะฝะต, ะฐ ะฝะต ะฒะพั ััะพ ะฒะพั ะฒัะตยป, ะดะฒะพะต ะฒ ะณะฐะปัััะบะฐั
ััะตัะปะธะฒะพ ัะพะฒะตัะฐะปะธัั, ะฟัะธะบััะฒะฐั ััั:
โ ะั ััะพ? ะะฐะตะผ ะตะผั ััะพะณะพ ะฟัะธั
ะฐ?
โ ะะฐะบะพะณะพ? ะัั, ััะพ ะปะธ?
โ ะัั ะฑัะป ั ะฝะตะณะพ ัะฐั ะฝะฐะทะฐะด, ะฝะต ะฒะธะดะตะป? ะก ะดะพะบะปะฐะดะพะผ ะฟัะพ ัะปะธะบัะธั. ะัะปะตัะตะป, ัััั ััะตะฝั ะฝะต ะฟัะพะปะพะผะธะป. ะะตั, ะฒะพะฝ ัะพะณะพ, ะบะพัะพััะน…
โ ะงัะพ, ััะพะณะพ, ััะพ ะปะธ?
โ ะั ะฐ ะบะฐะบ?
โ ะญัั… ะั, ะฒัะต-ัะฐะบะธ…
โ ะงัะพ ยซะฒัะต-ัะฐะบะธยป? ะะต ะฒะธะดะธัั, ััะพ ัะฒะพัะธััั? ะขะพ-ัะพ ะธ ะพะฝะพ. ะะฐะฒะฐะน, ััะพะฑ ะผะฐะบัะธะผัะผ ัะตัะตะท ัะฐั…
ะงะตัะตะท ะดะฒะฐ ัะฐัะฐ ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ ะฅะพะทัะธะฝะฐ, ะพะฑะฒะตัะฐะฝะฝะพะณะพ ะดะฐััะธะบะฐะผะธ ะธ ะพะฑััะฐะฒะปะตะฝะฝะพะณะพ ะบะฐะฟะตะปัะฝะธัะฐะผะธ, ัะธะดะตะป ั
ัะดะพัะฐะฒัะน ัะธะฟ ั ัะตะดะตััะธะผะธ ะฒะธั
ัะฐะผะธ ะฒะพะบััะณ ะปััะธะฝั. ะะฝ ัะฒะฝะพ ะฝะตัะฒะฝะธัะฐะป, ั
ะพัั ะธ ััะฐัะฐะปัั ะดะตัะถะฐัั ัะตะฑั ะฒ ััะบะฐั
.
โ ะั? โ ะตั
ะธะดะฝะพ ัะฟัะพัะธะป ะฅะพะทัะธะฝ. (ะะต ะฟะพัะพะผั, ััะพ ะตั
ะธะดะฝะธัะฐะป, ะฐ ะฟัะพััะพ ะฟะพัะพะผั, ััะพ ะฒัะตะณะดะฐ ะณะพะฒะพัะธะป ัะฐะบ โ ะฑัะดัะพ ััะตะฑะตััั ะฝะฐะด ะฒัะตะผะธ.)
ะัะปะธ ะฑั ะตะณะพ ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ะฟัะธัะผะพััะตะปัั ะบ ะฅะพะทัะธะฝั, ัะพ ะทะฐะผะตัะธะป ะฑั, ััะพ ัะพั ัะพะถะต ะฝะตัะฒะฝะธัะฐะตั. ะ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพ, ะบัะพ ะฑะพะปััะต.
ะะพ ะตะผั ะฑัะปะพ ะฝะต ะดะพ ะฝะฐะฑะปัะดะตะฝะธะน.
โ ะญัั… ะฒั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพ, ะธ ัะฐะบ ะฒัะต ะทะฝะฐะตัะต? โ ะฝะฐะบะพะฝะตั ะฒัะดะฐะฒะธะป ะพะฝ. โ ะะปะธโฆ ะฝะตั?
ะฅะพะทัะธะฝ ะฝะฐัะผะตัะปะธะฒะพ ะบะธะฒะฝัะป. ะงะตะปะพะฒะตะบ ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝัะน ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะทะฐะผะตัะธะป ะฑั, ััะพ ะณะพะดะฐะผะธ ะพััะฐะฑะพัะฐะฝะฝัะน ะถะตัั ะฒััะตะป ะผะตะฝะตะต ัะฑะตะดะธัะตะปัะฝัะผ, ัะตะผ ะพะฑััะฝะพ. ะะพ ะณะพััั ะฝะต ะฑัะป ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝัะผ ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ.
โ ะั, ัะฐะบ… ััะพ ะฒะฐะผ ัะฐััะบะฐะทะฐัั? โ ัะฐััะตััะปัั ะพะฝ. โ ะฏ ะธ ัะฐะผ ะดะฐะปะตะบะพ ะฝะต ะฒัะต… ั
ะพัั ััะพ ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ, ะดะฐ โ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฟะพะด ะทะฐะผะบะพะผ, ะธ ะฟะพัะพะผ โ ั
ะพะฟะฐ! โ ะฟััะผะพ ััะดะฐ… ะั, ะบััะฐัะธ, ะธ ัะฐะผะธ ะฒะฟะพะปะฝะต ะผะพะถะตัะต ะฑััั ะฟะพะด ะะพะปะฝะพะน, ะฒั ะฒ ะบัััะต? ะ ััะพะผ ัะปััะฐะต ะฝะฐะผ ะฑะตัะฟะพะปะตะทะฝะพ ะณะพะฒะพัะธัั.
โ ะ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะดะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพะฟัะพะฑัะตะผ, โ ัะฐะบ ะถะต ะตั
ะธะดะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะฅะพะทัะธะฝ. โ ะญัะฐ ะะพะปะฝะฐ… ะะพั ะพ ะฝะตะน ะฟะพะฟะพะดัะพะฑะฝะตะน, ะตัะปะธ ะผะพะถะฝะพ.
โ ะะพะปะฝะฐ… ะั ะพ ะฝะตะน ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะทะฝะฐะตะผ, ะบัะพะผะต ัะพะณะพ, ััะพ ะพะฝะฐ ะบัะฐะนะฝะต ะพะฟะฐัะฝะฐ, ะธ ะตะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต ะฟัะพัะฒะปัะตััั ะฒ ัะฐะผัั
ัะฐะทะฝัั
ัะพัะผะฐั
ะธ ะผะฐัััะฐะฑะฐั
โ ะพั ะพัััะพะณะพ ะฑัะตะดะฐ ั ัะตั
, ะบัะพ ะฟะพะฟะฐะป ะฒ ัะฟะธัะตะฝัั, ะดะพ ะผะฐััะพะฒะพะณะพ ะฟัะธั
ะพะทะฐ ะฒ ะผะฐัััะฐะฑะฐั
ะฒัะตะน ัััะฐะฝั. ะัะต ัััะฐะฝะพะฒะปะตะฝะพ, ััะพ ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต ะะพะปะฝั ะฟะตัะตะดะฐะตััั ะธ ะดะฐะถะต ััะธะปะธะฒะฐะตััั ัะปะตะบััะพะฝะฝัะผะธ ะบะฐะฝะฐะปะฐะผะธ ะธะฝัะพัะผะฐัะธะธ โ ัะตะปะตะฒะธะดะตะฝะธะตะผ ะธ ะธะฝัะตัะฝะตัะพะผ. ะั… ะฝั ะดะฐ, ะฒั ะทะฝะฐะตัะต ััะพ ะปัััะต ะผะตะฝั. ะะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฑะตะทัะผะฝะพ, ััั, ะปัะฑะพะฟััะฝะพ… ะฏ โ ัะตะปะพะฒะตะบ, ะบะพัะพััะน, ะฝะฐะฒะตัะฝะพ, ะปัััะต ะฒัะตั
ะธะทััะธะป ะะพะปะฝั. ะะตั ะฝะธ ะผะฐะปะตะนัะธั
ัะพะผะฝะตะฝะธะน ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะผะตะฝั ะธะผะตะฝะฝะพ ะฟะพััะพะผั ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะผะฐัะธะฝะพะฒะฐะปะธ ะฒ ะฒะฐัะตะน ะผััะตะปะพะฒะบะต. ะ ะฒะดััะณ… ะงัะพ ะฟัะพะธะทะพัะปะพ? ะงัะพ ะธะทะผะตะฝะธะปะพัั?
ะฅะพะทัะธะฝ ะดะตัะฝัะปัั โ ัะตะฟะตัั ััะพ ัะถะต ะฑัะปะพ ะทะฐะผะตัะฝะพ ะธ ะตะณะพ ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบั.
โ ะัะตะดะปะฐะณะฐั ะฒะตัะฝััััั ะบ ัะฟะธัะตะฝััั ะะพะปะฝั. ะงัะพ ะฒั ะพ ะฝะตะผ ะทะฝะฐะตัะต?
โ ะัั, โ ะฟัะพััะฝัะป ั
ัะดะพัะฐะฒัะน, โ ัะถ ะพะฑ ััะพะผ-ัะพ ะฒั ัะพัะฝะพ… ะั ั
ะพัะพัะพ. ะญะฟะธัะตะฝัั ะะพะปะฝั ะฝะฐั
ะพะดะธััั ะทะดะตัั. ะ ะะพัะบะฒะต. ะ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะผ ะบะฒะฐััะฐะปะต. ะะพะด ะทะตะผะปะตะน. ะ ัะธะทะธัะตัะบะพะน ะฟัะธัะพะดะต ะะพะปะฝั ะฝะต ะผะพะณั ัะบะฐะทะฐัั ะฝะธัะตะณะพ ะพะฟัะตะดะตะปะตะฝะฝะพะณะพ โ ััะฝะพ ัะพะปัะบะพ, ััะพ ััะพ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพะต ะธะทะปััะตะฝะธะต, ะธะผะตััะตะต ะฟัะธั
ะพััะพะฟะฝะพะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต. ะะต ะณะฐะท, ะฝะต ะฒะธััั, ะฝะต ะฟะปะตัะตะฝั ััะฐ ะฒะฐัะฐ ัะดะพะฒะธัะฐั. ะัะธะดัะผะฐะปะธ, ัะพะถะต ะผะฝะต… ะัะต ะฒ ะฝัะปะตะฒัะต ั ัะณะตะฝะตัะธัะพะฒะฐะป ะตะณะพ ัะฐััะพัั ะธ ะฟะพัะพะผ ะฟะพััะธ ะดะพะฒะตะป ะดะพ ัะผะฐ ะผะพะดะตะปั ะทะฐัะธัะฝะพะณะพ ัะบัะฐะฝะฐ, ะบะฐะบ ััั ะผะตะฝั, ัะบัะบะทัั…
โ ะะฐะบะพะฒ ะธััะพัะฝะธะบ ะธะทะปััะตะฝะธั?
โ ะะบะตะน. ะััะพัะฝะธะบ, ะทะฝะฐัะธั. ะััะพัะฝะธะบ, ะดะฐ? โ ะบัะธะบะฝัะป ะณะพััั ะธ ััั ะถะต ะพัะตะบัั. โ ะั ะปะฐะดะฝะพ. ะะฝะตะฝะธั ะพ ัะพะผ, ััะพ ะธััะพัะฝะธะบ ะธะทะปััะตะฝะธั โ ะฟะพะดะทะตะผะฝัะน ะฟะพัะพะบ, ั ะฝะต ัะฐะทะดะตะปัั, ั
ะพัั ะธ ะฝะต ะพัะฒะตัะณะฐั ะฟะพะปะฝะพัััั. ะ ะะพะปะฝะต ะฑัะปะพ ะธะทะฒะตััะฝะพ ั ะดัะตะฒะฝะธั
ะฒัะตะผะตะฝ, ะธ ะพัะตะฒะธะดะฝะพ, ััะพ ะปัะดะธ ะพัะพะถะดะตััะฒะปัะปะธ ะตะต ั ะฟะพัะพะบะพะผ. ะะพ ั ะดัะผะฐั, ััะพ ััะพ ัะพะฒะฟะฐะดะตะฝะธะต: ะฝะฐะธะฒัััะธะน ะณะพัะธะทะพะฝั ะฒะพะดั ะฟัะพััะพ ัะพะฒะฟะฐะป ั ัะฟะธัะตะฝััะพะผ ะะพะปะฝั. ะญะบัะฟะตัะธะผะตะฝัะฐะปัะฝะพ ะฟัะพะฒะตัะธัั ัะฒะพะนััะฒะฐ ะฒะพะดั, ัะฒั, ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ: ะฒััะบะธะน, ะบัะพ ะฟัะธะฑะปะธะทะธััั ะบ ะฟะพัะพะบั (ะฐ ะทะฝะฐัะธั, ะธ ะบ ัะฟะธัะตะฝััั ะะพะปะฝั), ะฟะพะฟะฐะดะฐะตั ะฟะพะด ะตะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต. ะััะฑะพ ะณะพะฒะพัั, ัั
ะพะดะธั ั ัะผะฐ. ะัะฐะฒะดะฐ, ััะฐััะปะธะฒะพะต ะพัะปะธัะธะต ะฒะพะปะฝะพะฒะพะณะพ ะฟะพะผะตัะฐัะตะปัััะฒะฐ โ ัะฐะบ ะผั ะตะณะพ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผ, ั
ะพัั ะพัะธัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ัะตัะผะธะฝะฐ ะฒัะต ะตัะต ะฝะตั… ะพัะปะธัะธะต ะฒะพะปะฝะพะฒะพะณะพ ะฟะพะผะตัะฐัะตะปัััะฒะฐ ะพั ะพะฑััะฝะพะณะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะพะฝะพ ะพะฑัะฐัะธะผะพ. ะฃะดะฐะปะธ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะธะท ะทะพะฝั ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธั ะะพะปะฝั โ ะธ ัะพั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะฝะต ััะฐะทั ะธ ะฝะต ะฑะตะทะฑะพะปะตะทะฝะตะฝะฝะพ, ะฝะพ ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะตััั ะฒ ะทะดัะฐะฒัะน ัะฐัััะดะพะบ.
โ ะะฐะบ ะฒั ะผะพะถะตัะต ะณะฐัะฐะฝัะธัะพะฒะฐัั, โ ะฒะบัะฐะดัะธะฒะพ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะฅะพะทัะธะฝ, โ ััะพ ัะฐะผะธ ะฝะต ัะพัะปะธ ั ัะผะฐ?
ะะณะพ ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบ ะฝะตัะฒะฝะพ ัะฐัั
ะพั
ะพัะฐะปัั:
โ ะฅะฐ… ั
ะฐ! ะะฐะทัั ะะฐััะธัั… ะะธะบะฐะบ. ะะพั ะฝะธะบะฐะบ, โ ะณะพะฒะพัะธะป ะพะฝ, ะบัะธะฒะพ ัะปัะฑะฐััั. โ ะฏ ัะฐะผ ะดัะผะฐะป ะพะฑ ััะพะผ, ะธ… ะ ะดะฐ: ะตัะปะธ ะฒััะบะธะน, ะบัะพ ะฟะพะปะตะทะตั ะบ ะะพะปะฝะต, ะฟัะตะฒัะฐัะฐะตััั ะฒ ะตะต, ะธะทะฒะธะฝะธัะต, ะทะพะผะฑะธ ะธ ะฝะฐัะธะฝะฐะตั ะฝะตััะธ ะฟััะณั ะพ ะทะฐะณัะพะฑะฝะพะผ ะผะธัะต ะธะปะธ ัะฐะผ ะพ ัะตะฐะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ, ะพะฑ ัะปะธะบัะธัะฐั
… ะฐ ะฒะตะดั ััะตะฝัะต! ะกะพ ััะตะฟะตะฝัะผะธ!.. ะัะธ ัะฐะบะพะผ ัะฐัะบะปะฐะดะต ะผะตะฝั, ะฟัะธะทะฝะฐััั ัะตััะฝะพ, ะฟะพัะตัะฐะปะฐ ะผััะปั ะพ ัะพะผ, ััะพ ั ะพะดะธะฝ ัะผะฝัะน, ะฐ ะพััะฐะปัะฝัะต ะฟัะธั
ะธ ะฝะตะฝะพัะผะฐะปัะฝัะต. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ะตััั ะปัะดะธ, ะฟัะธะฝัะธะฟะธะฐะปัะฝะพ ัััะพะนัะธะฒัะต ะบ ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธั ะะพะปะฝั. ะะปะธ ั
ะพัั ะฑั ะฑะพะปะตะต ัััะพะนัะธะฒัะต, ัะตะผ ะดััะณะธะต. ะฏ-ัะพ ะฟััะผะพ ะฟะพะด ะะฐะปะฐัะตะฒะบั ะฝะต ะปะตะท, ัะพะปัะบะพ ััะดะพะผ ะฑัะป, ะฝะฐ ะฟะพะฒะตัั
ะฝะพััะธ. ะะต ะทะฝะฐั โ ะผะพะถะตั, ัะพะถะต ะฟัะธั
ะพะผ ะทะฐะดะตะปะฐััั, ะตัะปะธ ะฟะพะปะตะทั…
ะัะบััะปะฐัั ะดะฒะตัั. ะะพัะตะป ะฑะตะทะปะธะบะธะน ะณะฐะปััััะฝัะน ัะธะฟ ะธะท ัะตั
, ััะพ ะฒัะตะณะดะฐ ัะพะปะฟะธะปะธัั ะฒะพะบััะณ ะฅะพะทัะธะฝะฐ, ะธ ััะฝัะป ะตะณะพ ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบั ัะฐัะบััััะน ะฝะพัั.
โ ะััะตั ะทะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ, โ ะทะฐะฑะพัะผะพัะฐะป ะพะฝ ะฒ ะพัะฒะตั ะฝะฐ ะฟะพะดะฝัััั ะฑัะพะฒั ะฅะพะทัะธะฝะฐ. โ ะัะป ะฟัะธะบะฐะท ะพ ะฟะพะปะฝะพะผ ัะพะดะตะนััะฒะธะธ…
โ ะฏ ะถะต ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฟัะพัะพััะฐะป ัะฐะผะธ ะทะฝะฐะตัะต ะณะดะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ั
ัะดะพัะฐะฒัะน. โ ะ ะฒั ั
ะพัะธัะต ะฟะพะปะฝัั ะบะฐััะธะฝั. ะะพะบะฐ ััะพ ั ัะฐะดะพะฒะฐะป ะฒะฐั ะฟะพะปะฝะพะน ะบะฐััะธะฝะพะน ะดะฒัั
ะปะตัะฝะตะน ะดะฐะฒะฝะพััะธ. ะะปะฐะณะพะดะฐัั, โ ะบะธะฒะฝัะป ะพะฝ ะณะฐะปััััะฝะพะผั, ะธ ัะพั ะธััะตะท. โ ะั ะฟะพะทะฒะพะปะธัะต?.. ะฏ ั
ะพัั ะฑั ะฟะพ ะดะธะฐะณะพะฝะฐะปะธ…
โ ะฃัะฟะตะตัะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะฅะพะทัะธะฝ, ะฝะพ ั
ัะดะพัะฐะฒัะน ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะฟัะธะปะธะฟ ะฒะทะณะปัะดะพะผ ะบ ะฝะพััั.
โ ระฟะฟ… ะฟะตัะฝัะน ัะตะฐัั, โ ััะณะฝัะปัั ะพะฝ, ะบะฐะบ ะผัั
ั ะฒัะฟะปัะฝัะป. โ ะญัะพ ััะพ ะถะต ะฒั ััั ะฑะตะท ะผะตะฝั…
โ ะะพะทะดะตะนััะฒะธะต ะะพะปะฝั ะฒ ัะฐะทะฝะพะต ะฒัะตะผั ะฑัะปะพ ัะฐะทะฝัะผ? โ ะฟะตัะตะฑะธะป ะตะณะพ ะฅะพะทัะธะฝ. โ ะะฐะบะพะฒะฐ ะธััะพัะธัะตัะบะฐั ะดะธะฝะฐะผะธะบะฐ ะะพะปะฝั?
โ ระฟะฟ… โ ัะฝะพะฒะฐ ััะณะฝัะปัั ั
ัะดะพัะฐะฒัะน. โ ะฅะพัะธัะต, ะทะฝะฐัะธั, ัะพ, ััะพ ะฒั ะธ ัะฐะบ ะทะฝะฐะตัะต, ะฝะพ ะผะพะธะผะธ ัััะฐะผะธ? ะฃััะฐะผะธ ะผะปะฐะดะตะฝัะฐ, ั
ะต-ั
ะต, โ ะฑะพัะผะพัะฐะป ะพะฝ, ะฝะต ะพัััะฒะฐััั ะพั ัะบัะฐะฝะฐ. โ ะัะพััะฟะฐัั, ัะบัะทัั, ััะพ ะทะฝะฐะตั ััะพั ะฟัะพัะตััะพั ัะธะณะพะฒ… ะั, ะฒะพั ะฒะฐะผ ัััะฐะผะธ ะฟัะพัะตััะพัะฐ. ะััะพัะธัะตัะบะฐั ะดะธะฝะฐะผะธะบะฐ? ะะฐะบ ะฒะฐะผ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะธะทะฒะตััะฝะพ, ะะพะปะฝะฐ ัััะตััะฒัะตั ั ะดัะตะฒะฝะธั
ะฒัะตะผะตะฝ. ะะตัะฒัะน ะธััะพัะฝะธะบ, ะบะพัะพััะน ะผะพะถะฝะพ ััะฐะบัะพะฒะฐัั ะบะฐะบ ะบะพัะฒะตะฝะฝะพะต ัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะต ะะพะปะฝั, ะพัะฝะพัะธััั ะบ ัะตะผะฝะฐะดัะฐัะพะผั ะฒะตะบั, ะฝะพ ััะพ ะฒะพะฒัะต ะฝะต ะทะฝะฐัะธั, ััะพ ะะพะปะฝั ะฝะต ะฑัะปะพ ะดะพ ัะพะณะพ. ะัะพััะพ ะพ ะฝะตะน ะฝะต ะฟัะธะฝััะพ ะณะพะฒะพัะธัั ะธ ัะตะผ ะฑะพะปะตะต ะฟะธัะฐัั โ ะบะฐะบ ัะตะนัะฐั, ัะฐะบ ะธ ัะพะณะดะฐ. ะัะพััะฐั ะปะพะณะธะบะฐ ะฟะพะดัะบะฐะทัะฒะฐะตั, ััะพ ะะพัะบะฒั ะฝะตะดะฐัะพะผ ะพัะฝะพะฒะฐะปะธ ััะดะพะผ ั ัะฟะธัะตะฝััะพะผ ะะพะปะฝั. ะะต ะฟััะผะพ ะฝะฐ ะะฐะปะฐัะตะฒะบะต, ะฐ ัััั ะฟะพะพะดะฐะปั, ััะพะฑั ะธ ะพะฑะพัะพะฝะฐ ะฒัะณะพะดะฝะฐั, ะธ ะพั ะณัะตั
ะฐ ะฟะพะดะฐะปััะต… ะฝะพ ะฒะผะตััะต ั ัะตะผ ะธ ะฟะพะฑะปะธะถะต. ะะผะตะฝะฝะพ ะะพะปะฝะฐ, ะบะฐะบ ะฒั ะทะฝะฐะตัะต, ะธ ะพะฟัะตะดะตะปะธะปะฐ ัะฟะตัะธัะธะบั ััััะบะพะน ะธััะพัะธะธ โ ะธ ะฒะพะพะฑัะต ะ ะพััะธะธ, ะบะพัะพััั, ััั, ะฐััะธะฝะพะผ ะพะฑัะธะผ ะฝะต ะธะทะผะตัะธัั. ะัะตัะปะพะฒััะฐั ััััะบะฐั ะดััะฐ โ ะฝะธััะพ ะธะฝะพะต, ะบะฐะบ ะฟัะธั
ะธะบะฐ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะฟะพะด ะะพะปะฝะพะน. ะะพะฝะตัะฝะพ, ะะพะปะฝะฐ ะธะผะตะปะฐ ะธััะพัะธัะตัะบัั, ะบะฐะบ ะฒั ะฒััะฐะทะธะปะธัั, ะดะธะฝะฐะผะธะบั: ะฒ ะธะฝัะต ะฟะตัะธะพะดั ะตะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต ะฟะพััะธ ะฝะต ะฟัะพัะฒะปัะปะพัั, ะฒ ะธะฝัะต โ ะฟัะธะฒะพะดะธะปะพ ะบ ะฟัะธั
ะพะทะฐะผ, ะบะพัะพััะต, ะฒ ัะฒะพั ะพัะตัะตะดั, ัะพะถะดะฐะปะธ ะบะฐัะฐัััะพัั ะฝะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝะพะณะพ ะผะฐัััะฐะฑะฐ. ะั ัะตะณะพ ััะพ ะทะฐะฒะธัะธั? ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ั ะะพะปะฝั ะตััั ะธ ะฝะตะบะฐั ัะฒะพั ะฐะผะฟะปะธััะดะฐ ะธะฝัะตะฝัะธะฒะฝะพััะธ, ะฝะพ ะฟัะตะถะดะต ะฒัะตะณะพ ััะพ ะทะฐะฒะธัะธั ะพั ะฒะพะปะธ ะปัะดะตะน, ะบะพัะพััะต ะฟััะฐะปะธัั ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐัั ะะพะปะฝั ะฒ ัะฒะพะธั
ัะตะปัั
. ะัะดะตะน, ะฒะปะฐััั ะฟัะตะดะตัะถะฐัะธั
, ัะฐะทัะผะตะตััั. ะขัั ะฒัะต ัะปะตะผะตะฝัะฐัะฝะพ: ัะฐัะบะพะฟะฐะตัั ัะปะพะน ะทะตะผะปะธ ะธะปะธ ะดะฐะถะต ะฟัะพััะพ ะฟะพะฒะพัะพัะธัั ััะพ-ัะพ ัะฐะผ, ะฝะฐัะฝะตัั ะฐะบัะธะฒะฝะธัะฐัั ะฝะฐะด ัะฟะธัะตะฝััะพะผ โ ะธ ะฟะพัะปะพ-ะฟะพะตั
ะฐะปะพ. ะะพะปะฝะฐ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะทะฝะฐะตั, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ะฝัะถะฝะฐ ะบะพะผั-ัะพ, ะธ ะฑะตะถะธั ะฝะฐะฒัััะตัั, ะบะฐะบ ะทะฒะตัั ะฝะฐ ะปะพะฒัะฐ. ะะพั ัะพะปัะบะพ ะทะฒะตัั ััะพั ะปะพะฒัะฐ ัะฐะผ ะธ ะบััะฐะตั…
ะฅัะดะพัะฐะฒัะน ะทะฐะผะพะปะบ, ะฒะณะปัะดัะฒะฐััั ะฒ ัะบัะฐะฝ.
โ ะัะพะดะพะปะถะฐะนัะต, โ ะฒะตะปะตะป ะฅะพะทัะธะฝ.
ะะตัะผะพััั ะฝะฐ ะพะฑััะฝัั ะตั
ะธะดะฝัั ัะปัะฑะบั, ะฟัะพะทะฒััะฐะปะพ ััะพ, ัะบะพัะตะต, ะฟัะพัะธัะตะปัะฝะพ, ะฟะพััะธ ัะผะพะปัััะต. ะฅะพะทัะธะฝ ะฟัะพะบะฐัะปัะปัั.
โ ะงัะพ ะฟัะพะดะพะปะถะฐัั?! โ ะฒะดััะณ ะฒัะบัะธะบะฝัะป ั
ัะดะพัะฐะฒัะน ะธ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฝะตะณะพ. โ ะัะพ ะถะธะฒัั ะฒะพะดั? ะัะพ ัะปะธะบัะธั ะฑะตััะผะตััะธั? ะัะพ ะฟะพััะฐะป ะฒ ะทะฐะณัะพะฑะฝัะน ะผะธั? ะัะพ ัะพ, ััะพ ััะฐััะน ะผะตััะฒัะน ะฑะฐะฝะดะธั ะะธััั
ะฐ ะฝะต ััะฐััะน ะผะตััะฒัะน ะฑะฐะฝะดะธั ะะธััั
ะฐ, ะฐ ะฑะตััะผะตััะฝัะน ะฅัะฐะฝะธัะตะปั ะงะตะณะพ-ัะพ ะขะฐะผ? ะะฐะบะพะน ะตัะต ะฑัะตะด, ะฒะฝััะตะฝะฝัะน ะะพะปะฝะพะน, ะฒั ั
ะพัะธัะต ััะปััะฐัั ะพั ะผะตะฝั? ะั ะทะฝะฐะตัะต, ััะพ ะฟะพััะธ ะฒ ัะฟะธัะตะฝััะต ะะพะปะฝั ััะพะธั ัะบะพะปะฐ? ะขะฐ ัะฐะผะฐั ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะฐยป? ะ ะฟะตัะธะพะด ะฝะฐะธะผะตะฝััะตะน ะฐะบัะธะฒะฝะพััะธ ะะพะปะฝั ะตะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต, ะฒะธะดะธะผะพ, ะบะฐะบ-ัะพ ััะธะผัะปะธัะพะฒะฐะปะพ ะธะฝัะตะปะปะตะบััะฐะปัะฝัะน ััะพะฒะตะฝั ัะบะพะปั, ะฝะพ ัะตะนัะฐั, ะบะพะณะดะฐ ะฒะฐัะธ ะพะฟัะธัะฝะธะบะธ ัะฐะผ ะฒัะต ะฟะตัะตะบะพะฟะฐะปะธ… ะะฐะบะพะณะพ ัะตััะฐ ะพะฝะธ ะฟะตัะตะบะพะฟะฐะปะธ, ะฝะต ะดะพะถะดะฐะฒัะธัั ะฟะพะปะฝะพะน ัะฒะฐะบัะฐัะธะธ? ะะฐะบะพะณะพ ัะตััะฐ ะพะฝะธ ะฒะพะพะฑัะต ะฝะฐัะฐะปะธ ะบะพะฟะฐัั? ะ-ะฐ, ะฝั ะบะพะฝะตัะฝะพ, ััะพ ะถะต ะพะฝะธ ะฒะฐั ัะฟะฐัะฐะปะธ, ัะปะธะบัะธััะธะบ-ัะพ… ะฅะฐ!
ะก ะฅะพะทัะธะฝะพะผ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะณะพะฒะพัะธะป ัะฐะบ ัะถะต ะปะตั ััะธะดัะฐัั. ะะพ ะตะณะพ ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะทะฝะฐะป, ััะพ ัะตะนัะฐั ัะพั ัะฐะผัะน ะผะพะผะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะผะพะถะฝะพ ะณะพะฒะพัะธัั ะธะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบ, ะธ ะฅะพะทัะธะฝ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ัะดะตะปะฐะตั ะตะผั, ะฐ ะฑัะดะตั ัะพะปัะบะพ ะพะฟัะฐะฒะดัะฒะฐัััั. ะ ัะพัะฝะพ: ะฅะพะทัะธะฝ ัะบะฐะทะฐะป, ะณะปัะดั ะฒ ะฟะพัะพะปะพะบ:
โ ะญัะพ ะฑะตะท ะผะตะฝั ะฒัะต. ะัะปะฐ ะถะตััะบะฐั ัััะฐะฝะพะฒะบะฐ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ััะพะณะฐัั, ะฝะต ะฒัะพัะณะฐัััั, ัะบะพัะธััะตะผั ะฝะต…
โ ะ ะฟัะพะตะบั ะจะตัะณะธะฝะฐ? ะัะดัะพ ั ะฝะต ะทะฝะฐั, ะธะท-ะทะฐ ัะตะณะพ ัะธะถั. ะะฒะฐ ะณะพะดะฐ, ะบะฐะบ ะตะณะพ ััะฒะตัะดะธะปะธ, ะฐ ั ะฟััะฐะปัั ะพัะณะพะฒะพัะธัั ะฒะฐั, ะธะทะฑัะฐะฝะฝะธะบะธ ะฒั ะฝะฐัะธ, ะฝะต ะปะตะทัั ะฒ ัะฐะผะพะต ะฟะตะบะปะพ. (ะฅะพะทัะธะฝ ะดะตัะฝัะปัั, ะฑัะดัะพ ะตะณะพ ะดะพะปะฑะฐะฝัะปะพ ัะพะบะพะผ.) ะ ะดะพ ัะพะณะพ, ะฒ ัะตัััะฝะฐะดัะฐัะพะผ, ะบะพะณะดะฐ โ ะฐะณะฐ, ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ััะพะณะฐะปะธ, ะฝะต ะฒัะพัะณะฐะปะธัั, ัะพะปัะบะพ ะฟะพััะฐะฒะธะปะธ ัะฐะผ ัะฒะพั ะถะตะปะตะทัะบั, ะดะฐ ะธ ะฒัะต? ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะณะตะฝะธะฐะปัะฝะฐั ะธะดะตั โ ัะตััะฐะฝัะปััะพั, ะฟะตัะตะฝะฐะฟัะฐะฒะปัััะธะน ัะฐััะพัั ะะพะปะฝั ะฝะฐ ะฐะฝัะตะฝะฝั ะฒะฐัะธั
ัะฟััะฝะธะบะพะฒ ะธ ะพัััะดะฐ ะฝะฐ ัะตะปะตะฒะธะดะตะฝะธะต ะธ ะธะฝัะตัะฝะตั. ะะฐ ะพัะฝะพะฒะต ััะธะฑัะตะฝะฝัั
ั ะผะตะฝั ัะฐะทัะฐะฑะพัะพะบ, ะฟะพะฝััะฝะพะต ะดะตะปะพ, ะฝะพ ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะณะตะฝะธะฐะปัะฝะฐั. ะััะฐะฒะปะตะฝะฝะพะต ะขะ โ ัะฐะบะพะณะพ ะฝะต ะฑัะปะพ ะดะฐะถะต ั… ะะฐะบะพะน ัะฐะผ ะดะฒะฐะดัะฐัั ะฟัััะน ะบะฐะดั! ะะฐะปั, ััะพ ะฒัะตะดะฝัะน ะฝะฐัะพะด ะธ ะฟะพะด ะะพะปะฝะพะน ะฒัะฒะตัะฝัะป ะฝะต ะฒ ัั ััะตะฟั. ะัะธัะปะพัั ะฒะฐะผ ะปะตะทัั ััะดะฐ ะฟะพ ััะฐัะธะฝะบะต, ะณััะฑะพ ะฟัะธะบััะฒะฐั ะฒัะต ััะพ ะดะตะปะพ ะฟัะพะตะบัะพะผ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะธ ะฒ ััะพ ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท ะฝะฐัััะฟะฐัั ะฝะฐ ัะต ะถะต ะณัะฐะฑะปะธ. ะะพะณะดะฐ ะถะต ะฒั ะดะพััะผะบะฐะตัะต, ะบะพะผะฐะฝะดะธัั ะฒั ะฝะฐัะธ, ััะพ ะผะพะถะตัะต ะบะพะผะฐะฝะดะพะฒะฐัั ัะตะผ ัะณะพะดะฝะพ, ะบัะพะผะต ะะพะปะฝั?.. ะ ัะตะฟะตัั, ะธะทะฒะธะฝะธัะต, โ ั
ัะดะพัะฐะฒัะน ะทะฐั
ะปะพะฟะฝัะป ะฝะพัั ะธ ะฒััะฐะป, โ ะผะฝะต ะฟะพัะฐ. ะ ะฐัั
ะปะตะฑัะฒะฐัั ะฒะฐัั ะบะฐัั.
ะฅะพะทัะธะฝ ัะฝะพะฒะฐ ะดะตัะฝัะปัั.
โ ะั ะฟะพะนะดะตัะต ัะพะณะดะฐ, ะบะพะณะดะฐ… โ ะฝะฐัะฐะป ะฑัะปะพ ะพะฝ, ะฝะพ ั
ัะดะพัะฐะฒัะน ะฟะตัะตะฑะธะป:
โ ะะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะน, ะบัะพ ั ะะพะปะฝะพะน ะฝะฐ ัั, โ ััะพ ั. ะกะตะนัะฐั ะฒั ััะพ ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต. ะ ะพัะพะผััะธัะต ะผะฝะต ะบะพะณะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ะฟะพัะพะผ, ะบะพะณะดะฐ ั ัะดะตะปะฐั ัะฒะพะต ะดะตะปะพ. ะั ะทะฝะฐะตัะต, ััะพ ััะฐะปะพ ั ะฒะฐัะธะผะธ ะพะฟัะธัะฝะธะบะฐะผะธ, ะบะพัะพััะต ะฟะพะปะตะทะปะธ ะฒ ะะพะปะฝั? ะฅัะตะฝ ะฑั ั ะฝะธะผะธ โ ะฐ ั ะดะตััะผะธ? ะก ะดะตััะผะธ ะธะท ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะธยป, ะบะพัะพััะต ะฟะพะด ะะพะปะฝะพะน? ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ ัะฒะตัะตะฝ, ััะพ ะฟะพะปััะธะป ะพั ะฑะฐะฝะดะธัะฐ ะะธััั
ะธ ะผะธะปะปะธะพะฝะฝะพะต ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ ะธ ะบะฒะฐััะธัั, ะธ ะดะฐะถะต ััััะพะธะป ะฒะตัะตัะธะฝะบั ะฒ ััะพะน ะฝะตัััะตััะฒัััะตะน ะบะฒะฐััะธัะต, ะธ ะฒัะต ะตะต ััะฐััะฝะธะบะธ ัะพะถะต ะฑัะปะธ ัะฒะตัะตะฝั, ััะพ… ะ ั ัะตะผัะตะน ะจะตัะณะธะฝัั
? ะะฐะฒะตะป ั ะผะฐะปะพะปะตัะฝะตะน ะดะพัะบะพะน ะดัะผะฐัั, ััะพ ะฝะฐั
ะพะดัััั ะทะฐ ัััััะธ ะบะธะปะพะผะตััะพะฒ ะพั ะะพัะบะฒั, ั
ะพัั ะธ ะฝะต ะฟะพะบะธะดะฐะปะธ ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ. ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒะตัะธั, ััะพ ะตะต ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะดะฒะพะต. ะกะฑัะธะปะฐ ะฑัะพะฒะธ, ะฒัะบัะฐัะธะปะฐัั ะฐััะพะทะพะปะตะผ ะดะปั ะณัะฐััะธัะธ ะธ ะดัะผะฐะตั, ััะพ ะพะฝะฐ ะดะตะผะพะฝ ะทะฐะณัะพะฑะฝะพะณะพ ะผะธัะฐ. ะะฐัั ะตะต… ะดะฐ ััะพ ัะฐะผ! ะัะธ ัะฐะบะพะผ ะฟัะธั
ะพะทะต ะฒะฝััะตะฝะธะต ะฟัะพััะพ ัะตััะตั ะณัะฐะฝะธัั, ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต? ะะพะผั ัะณะพะดะฝะพ ะผะพะถะฝะพ ะฒะฝััะธัั ััะพ ัะณะพะดะฝะพ. ะ ัะตะนัะฐั ะฝะฐะดะตะถะดะฐ ัะพะปัะบะพ ะฝะฐ ะฒะฐัะต ัะฐะทัะผะฝะพะต ัะพะดะตะนััะฒะธะต… ะธ ะฝะฐ ะทะฐัะธัะฝัะน ัะบัะฐะฝ. ะะพัะพัะพะณะพ ะฟะพะบะฐ ะตัะต ะฝะตั. ะั, ะฟัะธะบะฐะทัะฒะฐะนัะต ัะฐะผ, ััะพ ะธ ะบะพะผั ะฝะฐะดะพ, ะฐ ั ะฟะพัะตะป. ะญะปะธะบัะธัโฆ ั-ัะฒะพั ะผะฐัั! โ ัะปััะฐะปัั ะตะณะพ ะณะพะปะพั ะธะท ะบะพัะธะดะพัะฐ. โ ะฅะฐ!..
ะฅะพะทัะธะฝ ะฝะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ัะผะพััะตะป ะฟััะผะพ ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน. ะะพัะพะผ ะดะตัะฝัะปัั, ะบะพะณะดะฐ ะฒะฑะตะถะฐะปะธ ะณะฐะปััััะฝัะต, ะฒััะปััะฐะป ะธั
ะธ ะบะธะฒะฝัะป:
โ ะะฐ. ะะตะพะณัะฐะฝะธัะตะฝะฝัะต ะฟะพะปะฝะพะผะพัะธั. ะะตะพะณัะฐะฝะธัะตะฝะฝะพะต ัะพะดะตะนััะฒะธะต ะฒะพ ะฒัะตะผโฆ ะฐ ะผะฝะต ะตัะต ัะฐะท ะพััะตั. ะะฐ, ะฟะพะปะฝัะน. ะะตั, ะตัะต ะฟะพะปะฝะตะต. ะ ัะฒััะตะฝะฝะธะบะฐ.
***
โ ะัะฐะบ, ั ัะตะทัะผะธััั! โ ะฒะพะทะณะปะฐัะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะะฐะฒะฝะพ? โ ะพัะพะทะฒะฐะปะฐัั ะะพะปะธะฝะฐ.
โ ะะต ะทะฐะฑัะดั ะพะฟะธัะฐัั, ะบะฐะบ ัั ััะพ ะดะตะปะฐะตัั, โ ะฟะพะฟัะพัะธะป ะดัะดั ะคะตะดะพั. โ ะ ัะบะฐะผะธ ะธะปะธ…
โ ะ ะดะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพัะพะผ ะฟะพัะผะฝะธัะฐะตะผ, ะฐ? โ ะณัััะพะน ะณะพะปะพั ะะตะนะฝะตะฝ ััะฐะป ะตัะต ะบัะฐัะธะฒะตะน ะพั ัะพะณะพ, ััะพ ะพะฝะฐ ัะตัะดะธะปะฐัั. โ ะะฐะนัะต ั
ะพัั ัะบะฐะทะฐัั ัะตะปะพะฒะตะบั!
โ ะัะปะธ ััะพ ัะฐะผะพะต ยซะฟะพัะพะผยป ั ะฝะฐั ะฑัะดะตั. ะะพะพะฑัะต.
ะัะฑะพัะบะธะน ะบะฐััะธะฝะฝะพ ัะผะพััะตะป ะฒ ะฟะพะป. ะัะต ะผะพะปัะฐะปะธ, ะธ ะพะฝ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป:
โ ะฏ ัะตะทัะผะธััั, ะดะฐ. ะะฐั ะฟะพั
ะฒะฐัะฐะปะธ, ะบะฐะบ ะบะพััั, ะธ ะทะฐะฟะตัะปะธ ะฒ ััะพะผ ะบะฐะทะตะผะฐัะต, โ ะะฝะดัะตะน ะพะณะปัะดะตะป ัััะฝัั ะบะพะผะฝะฐัั, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ะพะฝะธ ัะธะดะตะปะธ, โ ะฒ ััะพะผ ะบะฐะทะตะผะฐัะต… ะฟะพัะตะผั?
โ ะกะบะฐะทะฐะป, ะบะฐะบ ะพััะตะทะฐะป, โ ั
ะผัะบะฝัะป ะดัะดั ะคะตะดะพั. โ ะะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ, ะฟะพัะตะผั? ะะฐะณะฐะดะบะฐ ะฒะตะบะฐ.
โ ะะฐะฒะตัะฝะพ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะผั ััะพ-ัะพ ะทะฝะฐะตะผ? โ ัะพะฑะบะพ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฐัะฐัะฐ. ะัะต ะทะฐัะถะฐะปะธ.
โ ะฃะถ ัั-ัะพ ั ะฝะฐั ัะพ-ะพัะฝะพ ั
ัะฐะฝะธัะตะปัะฝะธัะฐ ัะฐะนะฝ, โ ะฟัะพััะฝัะปะฐ ะะพะปะธะฝะฐ ัะบะฒะพะทั ัะผะตั
. โ ะญัะพ ัะตะฑั ะฒะทัะปะธ ะบะฐะบ ััะฟะตัะฐะณะตะฝัะฐ, ะฐ ะฝะฐั ะฒัะตั
ะทะฐ ะบะพะผะฟะฐะฝะธั…
โ ะะฐัะพะด, โ ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะฟัะพะฑะฐัะธะป ะคะตะดั. ะัะต ะฟัะธัะผะพะปะบะปะธ. โ ะั ะบ ัะตะผั ััะธ ะฑะปะฐ-ะฑะปะฐ? ะัะตะผ ะฟะพะฝััะฝะพ, ะทะฐัะตะผ ะฝะฐั ะทะฐะฟะตัะปะธ ะทะดะตัั โ ะธ ะธะผ, ะธ ะฝะฐะผ. ะะธัะฝะพ ะผะฝะต ะฝะต ะดะพ ัะผะตั
ะฐ. ะะพั
ะพะดั ะผั ะตัะต ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฑัะปะธ ะฒ ัะฐะบะพะน ะถะพ…
โ ะฏ ะฑะพััั, โ ะฟะพะถะฐะปะพะฒะฐะปะฐัั ะกะพะฝั ะธ ะฟะพััะพะณะฐะปะฐ ะตะณะพ ะทะฐ ััะฑะฐัะบั. ะขะพั ะฟะพะผะพััะธะปัั.
โ ะะฐ-ะฐ, โ ะฟะพะดะฐะป ะณะพะปะพั ะะตัั. โ ะะตะดั ะฒัะตั
ะฒะทัะปะธ, ะบัะพ ะฑัะป ั ะผะตะฝั ัะพะณะดะฐ…
โ ะะณะฐ, ะฒัะตั
, โ ั
ะผัะบะฝัะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะัะพะผะต ะจะตัะณะธ.
โ ะขะพัะฝะพ! โ ะฒัะต ััะฐะปะธ ะฒะตััะตัััั ะธ ะพะณะปัะดัะฒะฐัััั. โ ะะตั ะจะตัะณะธ… ะั ะฒะพั, ะฐ ะฒั ัะพะผะฝะตะฒะฐะปะธัั… ะะฐ ั ัะฐะบะธะผ ะฟะฐะฟะฐัะตะน… ะะฐัะพะด, ะฝั ะฒั ัะต, ะฝั ะฝะตั ะตะต, ะฝั ะธ ััะพ… ะัะพะดะพะปะถะฐะน, ะะตะทะฝะพั, ะตะน ะพัััะพ ะฝะตะพะฑั
ะพะดะธะผ ะฐะดะฒะพะบะฐั… ะฅะพัั ะฑั ะฒะทัะปะธ ะตะต ะดะปั ะบะพะฝัะฟะธัะฐัะธะธ… ะะณะฐ, ะฟะฐะฟะฐั
ะตะฝ ัะฐะบ ะธ ัะพะณะปะฐัะธะปัั, ัะฐั… ะกััะบะฐัะบะฐ, ั ะฒัะตะณะดะฐ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ… ะขะฐะบ ะพะฝะธ ะถะต ัะปะธะฝัะปะธ ะบัะดะฐ-ัะพ ะฒ ะณะปัะฑะธะฝะบั, ะธ ะพะฝะฐ ะธ ะฟะฐะฟัะปะธะบ….
ะะฐ ะผะพะฝะธัะพัะต, ะทะฐ ะบะพัะพััะผ ะฝะฐะฑะปัะดะฐะปะธ ะดะฒะพะต ะฒ ัะพัะตะดะฝะตะน ะบะพะผะฝะฐัะต, ะฝะฐัะพะด ัะพัะฝะพ ัะฐะบ ะถะต ะฒะตััะตะปัั, ะพะณะปัะดัะฒะฐะปัั ะธ ะณะฐะปะดะตะป.
ะ ะฒะพะพะฑัะต ะฝะฐ ััะพะผ ะผะพะฝะธัะพัะต ะฑัะปะพ ะฒัะต ัะฐะบ, ะบะฐะบ ะธ ะฒ ะบะพะผะฝะฐัะต. ะัะพะผะต ะพะดะฝะพะณะพ.
ะะพะพะดะฐะปั ะพัะพ ะฒัะตั
ััะพัะปะพ ะฒัะบะพะปะพัะตะฝะฝะพะต ัะตัะฝะพะณะพะปะพะฒะพะต ัััะตััะฒะพ. ะะฐะฒะตะป ะจะตัะณะธะฝ, ัะฝะพะฒะฐะฒัะธะน ััะดะพะผ, ะบะฐะบ ัะธะณั ะฒ ะบะปะตัะบะต, ะณะพะฒะพัะธะป ะตะผั:
โ ะะฝั. ะขั, ะณะปะฐะฒะฝะพะต, ะฝะต ะฒะพะปะฝัะนัั. ะะพั ะฝะต ะฒะพะปะฝัะนัั, ะธ ะฒัะต. ะกะตะนัะฐั ั ัะดะตะปะฐั ะฟะฐัั ะทะฒะพะฝะบะพะฒ โ ะธ…
โ ะ ะพะดะธะฝะพัะฝะพะน ะบะฐะผะตัะต, โ ัะพะฒะฝัะผ ะณะพะปะพัะพะผ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ัะฐ, ะบะพะณะพ ะฝะฐะทัะฒะฐะปะธ ะะฝะตะน. โ ะะพััั. ะ ะพะดะธะฝะพัะฝะพะน ะบะฐะผะตัะต…
ะัะดะธ, ัะปะตะดะธะฒัะธะต ะทะฐ ะผะพะฝะธัะพัะพะผ, ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปะธัั.
โ ะะฝะธ ัะตะฐะปัะฝะพ ะฝะต ะฒะธะดัั ะดััะณ ะดััะณะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะดะธะฝ ะดััะณะพะผั. โ ะะธ ัะต ััะธั
, ะฝะธ ััะธ ัะตั
.
โ ะะฐ-ะฐ, โ ะฟัะพััะฝัะป ะฒัะพัะพะน. โ ะะปะตัะตะฝั?
โ ะ ั
ัะตะฝ ะตะต. ะงัะพ ัะฐะผ ััะพ… ะฟัะพัะธะฒะพัะดะธะต ะธะปะธ ะบะฐะบ ะตะณะพ? ะะพะณะดะฐ ัะถะต?
โ ะะพะบะฐ ะฝะต ะทะฝะฐั. ะกะบะฐะทะฐะฝะพ ะดะตัะถะฐัั ะทะดะตัั, ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะฑัะดะตั ะธะฝััััะบัะธะน.
โ ะั, ะถะดะตะผ ัะพะณะดะฐ.
โ ะะณะฐ.
ะ ะดะฒะพะต ั ะผะพะฝะธัะพัะฐ ะพัะบะธะฝัะปะธัั ะฝะฐ ัะฟะธะฝะบะธ ัะฒะพะธั
ะบัะตัะตะป, ะฝะฐะฑะปัะดะฐั ะทะฐ ะปัะดัะผะธ ะฝะฐ ัะบัะฐะฝะต, ะบะพัะพััะต ะฝะฐั
ะพะดะธะปะธัั ะฒ ะพะดะฝะพะน ะบะพะผะฝะฐัะต ะธ ัะผะพััะตะปะธ ัะบะฒะพะทั ะดััะณ ะดััะณะฐ, ะบะฐะบ ัะบะฒะพะทั ะฒะพะทะดัั
.
ะะปะฐะฒะฐ 17. ะะปัะณะฐั ะกะฐัะฐั. ะะต ะฟะตะน ะฒะธะฝะฐ, ะะตััััะดะฐ!


ะะพะปะพะดะตะถะฝัะน ัะตะฐัั ยซะะตัะฟะตัะฝะฐั ัะปะธัะฐยป ะณะพัะพะฒะธะปัั ะบ ะฟัะตะผัะตัะต. ะะฐ ััะด ะทัะธัะตะปะตะน ะฒัะฝะพัะธะปะฐัั ะฟัะตัะฐ ะธะทะฒะตััะฝะพะณะพ ะดัะฐะผะฐัััะณะฐ ะฃะธะปััะผะฐ ะจะตะบัะฟะธัะฐ ยซะะฐะผะปะตัยป. ะก ัะตะณะพ ะถะต ะตัะต ะฝะฐัะธะฝะฐัั ัะฝัะผ ะฐััะธััะฐะผ?
ะ ะตะถะธััะตัะพะผ ัะฟะตะบัะฐะบะปั ัะฐะผ ัะตะฑั ะฝะฐะทะฝะฐัะธะป ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั, ัะพะทะพะฒะพัะตะบะธะน ะผะธะณัะฐะฝั ะธะท ะััะทะธะธ, ะฟัะพะถะธะฒะฐััะธะน ะฒ ะะพัะบะฒะต ะพะบะพะปะพ ะณะพะดะฐ, ะฝะพ ัะถะต ัะฒะธะฒัะธะน ัะฒะพะน ะฝะตะดัะถะธะฝะฝัะน ัะฐะปะฐะฝั ะบะฐะบ ะฒ ะฝะพะฒะพัะพะถะดะตะฝะฝะพะผ ัะตะฐััะต, ัะฐะบ ะธ ะฝะฐ ะะพัะบะฒะพัะตัะบะพะผ ััะฝะบะต, ะณะดะต ัะพัะณะพะฒะฐะป ััั
ะพัััะบัะฐะผะธ. ะััะฐัะธ, ะพ ััั
ะพัััะบัะฐั
. ะััะทัะธะบะพะผ ะฝะฐ ัะพะผ ะถะต ะะพัะบะฒะพัะตัะบะพะผ ััะฝะบะต ัะฐะฑะพัะฐะป ัะธะฑะธััะบ ะะฒะฐะฝ ะััะฐะณะธะฝ, ะดะปั ัะฒะพะธั
โ ะััะฐะณะฐ. ะะพะฝะฐัะฐะปั ะผะตะถะดั ะััะฐะณะพะน ะธ ะะฐะฒะธะดะพะผ ะฒัะฟัั
ะฝัะปะฐ ะฝะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝะฐั ัะพะทะฝั, ะฒะฟะพัะปะตะดััะฒะธะธ ะฟะตัะตัะพััะฐั ะฒ ะฝะฐััะพัััั ะดััะถะฑั ะฝะฐ ะฟะพัะฒะต ะพะฑัะตะน ะปัะฑะฒะธ ะบ ัะตะฐััั. ะะฐะฟะธััะฒะฐัััั ะฒ ัััะฟะฟั ยซะะตัะฟะตัะฝะพะน ัะปะธััยป ะพะฝะธ ะฟะพัะปะธ ะฒะผะตััะต. ะัะบะพัะต ะงั
ะพะฝะธั ะฒัะฑะธะปัั ะฒ ัะตะถะธััะตัั, ะฝะพ ะพ ัะฒะพะตะผ ะดััะณะต ะฝะต ะทะฐะฑัะป, ััะฐะทั ะถะต ะฝะฐะทะฝะฐัะธะฒ ะััะฐะณะธะฝะฐ ะฝะฐ ัะพะปั ะะฐะผะปะตัะฐ.
ะกะฐะผ ะงั
ะพะฝะธั ะฒ ัะฟะตะบัะฐะบะปะต ะดะพะปะถะตะฝ ะฑัะป ะฟะพัะฒะธัััั ะฒ ะพะฑัะฐะทะต ะัะธะทัะฐะบะฐ, ะฒะตัั ะพะฑะผะพัะฐะฝะฝัะน ะฟะฐััะธะฝะพะน ะธ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฝะฐ ะฒะตะปะพัะธะฟะตะดะต. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะตะณะพ ัะตะถะธััะตััะบะฐั ะฝะฐั
ะพะดะบะฐ ะธ ะพะดะฝะฐ ะธะท ัะฐะผัั
ััะบะธั
ััะตะฝ ะฟะพััะฐะฝะพะฒะบะธ.
ะะฝะต ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฒ ััะพะน ะดัะฐะผะต ะพัะฒะตะปะธ ัะพะปั ะัะตะปะธะธ. ะงั
ะพะฝะธั ะดะพะปะณะพ ัะปะธัะพะฒะฐะป ะตะต ะฟะปะฐััะธะบั ะดััะพัะบะธ, ััะธะป ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ ัะฐะทะฑัะฐััะฒะฐัั ัะฒะตัั ะธ ัะพะฟะธัััั ะฒ ะณะพะปัะฑะพะผ ะฟะพะปะธััะธะปะตะฝะต. ะะตั ะฝะธะบะฐะบะธั
ัะพะผะฝะตะฝะธะน, ััะพ ััะตะฝะฐ ะฑะตะทัะผะธั ะัะตะปะธะธ ะผะพะณะปะฐ ะฑั ะทะฐัะผะธัั ะดะฐะถะต ะผะพะผะตะฝั ะฟะพัะฒะปะตะฝะธั ะัะธะทัะฐะบะฐ. ะ ััะพะผ ะผะตััะต ะทัะธัะตะปะธ ะดะพะปะถะฝั ะฑัะปะธ ะดะพะปะณะพ ะธ ะฑะตะทััะตัะฝะพ ะพะฟะปะฐะบะธะฒะฐัั ะทะฐะณัะฑะปะตะฝะฝัั ะฝะตะฒะธะฝะฝะพััั ะดะพัะตัะธ ะะพะปะพะฝะธั.
ะ ะตะฟะตัะธัะพะฒะฐะปะธ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะผะตัััะตะฒ, ะฒัะฒะตััั ะผะธะทะฐะฝััะตะฝั ะธ ะดะพะฑะธะฒะฐััั ะธั
ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพะน ะฒััะฐะทะธัะตะปัะฝะพััะธ. ะะพััะฐะฝะพะฒะบะฐ ะณัะพะทะธะปะฐ ััะฐัั ัะพะฑััะธะตะผ ะฒ ัะตะฐััะฐะปัะฝะพะน ะถะธะทะฝะธ ััะพะปะธัั. ะขะฐะบ, ะฟะพ ะบัะฐะนะฝะตะน ะผะตัะต, ัะฒะตััะป ะฐััะธััะพะฒ, ะฒัะตะผะตะฝะฐะผะธ ัะตััะฒัะธั
ะฒะตัั ะฒ ัะฒะพะตะณะพ ะปะธะดะตัะฐ, ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั.
ะ ะฒะพั ะฝะตะพัะฒัะฐัะธะผะพ ะพะฑัััะธะปัั ะดะตะฝั ะฟัะตะผัะตัั.
ะะฐะป ัะตะฐััะฐะปัะฝะพะน ัััะดะธะธ ะฑัะป ะฟะพะปะพะฝ โะฝะฐััะพััะธะน ะฐะฝัะปะฐะณ. ะัะฑะปะธะบะฐ ัะพะฑัะฐะปะฐัั ัะฐะผะฐั ัะฐะทะฝะพัะตัััะฝะฐั. ะะตัะตะดะฝะธะต ััะดั ะทะฐะฝัะปะธ ั
ะผัััะต ะบะฐะฒะบะฐะทัั, ะฟะพะบะธะฝัะฒัะธะต ััะดั ัะพัะณะพะฒัะต, ััะพะฑั ะฟะพะดะดะตัะถะฐัั ัะตะถะธััะตััะบะธะน ะดะตะฑัั ะดััะณะฐ. ะ ัะตัะตะดะธะฝะต ัะตัะฝะธะปะธัั ะฒะฐะถะฝัะต ะฟะตััะพะฝั, ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพ ะฟัะธะณะปะฐัะตะฝะฝัะต ะฐะดะผะธะฝะธัััะฐัะธะตะน ัะตะฐััะฐ. ะะฐ ะพััะฐะปัะฝัั
ะผะตััะฐั
ัะฐัะฟะพะปะพะถะธะปะธัั ะธัััะต ััะพะปะธัะฝัะต ัะตะฐััะฐะปั ะธ ัะพะดััะฒะตะฝะฝะธะบะธ ะฐััะธััะพะฒ. ะกะฒะพะฑะพะดะฝัั
ะบัะตัะตะป ะฝะต ะฑัะปะพ, ะฝะฐ ะฟัะธััะฐะฒะฝัั
ัััะปััั
ะทัะธัะตะปะธ ัะธะดะตะปะธ ะดะฐะถะต ะฒ ะฟัะพั
ะพะดะฐั
. ะ ะทะฐะปะต ะพััััััะฒะพะฒะฐะปะธ ัะพะปัะบะพ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะธ ัะพะดะฝั ะัะตะปะธะธ. ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ะฟะพะณะปัะดัะฒะฐะป ะฝะฐ ัะฐัั, ั
ะพัั ัะถะต ะธ ะฝะต ะฝะฐะดะตัะปัั, ััะพ ะฐััะธััะบะฐ, ะฟัััั ะธ ั ะฟัะตัััะฟะฝัะผ ะพะฟะพะทะดะฐะฝะธะตะผ, ะฝะพ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ัะฒะธััั ะบ ะฝะฐัะฐะปั ัะฟะตะบัะฐะบะปั.
— ะฃั
, ะถัะฝั-ัะธะฝะฝะฐ! โ ะบะธะฟะตะป ะะฐะฒะธะด, ะณัะธะผะธััััั ะฒ ะผะตััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ะัะธะทัะฐะบะฐ ะธ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ั ััะธะผ ะพัะดะฐะฒะฐั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ัะบะฐะทะฐะฝะธั ัััะฟะฟะต. โ ะะฐ ัะฒะฐะตะผ ะผัััั, ะะฐะผะปัั, ั ะฑะธ ัะฐะผ ะตะต ััะฐะฟะธะป, ัะปััะธะน! ะ ะฝั ะฝะฐ ัััะฝั, ะฐ ะฒ ะฏัะทั, ะผะฐะผะพะน ะบะปัะฝััั! ะััั
ะฝะฐั ะฟะฐะดะฒัะปะฐ ะฟะพะด ะผะฐะฝะฐัััั!
— ะัะปะฐ ัะฐะบะฐั ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััั, โ ัะปะตะณะผะฐัะธัะฝะพ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะะฒะฐะฝ, ะฝะฐััะณะธะฒะฐั ะฟะฐัะธะบ ั ะฒัััะธะผะธัั ะบัะดััะผะธ. โ ะกะผะพััะธ!
ะััะฐะณะธะฝ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ัะธัะพะบะธั
ะตะปะธะทะฐะฒะตัะธะฝัะบะธั
ััะฐะฝะพะฒ ัะฒะพะน ะผะพะฑะธะปัะฝัะน ัะตะปะตัะพะฝ ะธ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะฟัะธััะตะปั ะฒะธะดะตะพ ั ะผะพััะฐ, ัะฐะบ ัะพะบะธัะพะฒะฐะฒัะตะต ะฒ ัะฒะพะต ะฒัะตะผั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน.
— ะญัะพ ะฒะธ ััะพ, ััะฟััะธัะพะฒะฐะปะธ? โ ั ะฝะฐะดะตะถะดะพะน ะฒ ะณะพะปะพัะต ัะฟัะพัะธะป ะฟะพัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปั ะกัะฐะฝะธัะปะฐะฒัะบะพะณะพ. โ ะ ะฐะฑะพัะฐ ะฐะบัะตัะฐ ะฝะฐะด ัะพะปัั, ะดะฐ?
— ะะฐ ะฝะตั, โ ัะตััะฝะพ ะฟัะธะทะฝะฐะปัั ะััะฐะณะธะฝ, โ ะะฝั ะผะตะฝั ะฟะพะฟัะพัะธะปะฐ ะฟะพะดัะณัะฐัั! ะะน ะดะปั ัะตะณะพ-ัะพ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะปะพ! ะะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ, ัะบะฐะทะฐะปะฐ, ั
ะพัะตั ัะฐะทะฒะตััะธ!
— ะะฐะฐ, ะฝั-ะฝั! โ ัะฐะทะพัะฐัะพะฒะฐะฝะฝะพ ะฟะพะผะพััะธะปัั ะงั
ะพะฝะธั.
ะะธะดะตะพ ะตะณะพ ัะตะผ ะฝะต ะผะตะฝะตะต ะฒะฟะตัะฐัะปะธะปะพ. ะฃะถ ะฑะพะปัะฝะพ ะฒััะฐะทะธัะตะปะตะฝ ะฑัะป ะััะฐะณะธะฝ ะฒ ะพะฑัะฐะทะต ะทะปะพะดะตั. ะะฐะบ ะพะฝ ะฝะฐะบะธะดัะฒะฐะปัั ะฝะฐ ะัะตะปะธั, ั
ะฒะฐัะฐะป ะตะต ะทะฐ ะฒะพะปะพัั, ะถะตััะพะบะพ ะทะฐะปะฐะผัะฒะฐะป ะดะตะฒััะบะต ััะบะธ, ะฟััะฐััั ัะฑัะพัะธัั ะถะตััะฒั ั ะผะพััะฐ!
— ะกัะพััั! โ ะบัะธัะฐะป ะััะฐะณะฐ ะฝะต ัะฒะพะธะผ ะณะพะปะพัะพะผ.
— ะัะฟัััะธ! โ ะฑะตัะฟะพะผะพัะฝะพ ะพัะฑะธะฒะฐะปะฐัั ะะฝั. โ ะงัะพ ัะตะฑะต ะฝะฐะดะพ? ะะพะปะธัะธั!
— ะะฐัะบะฝะธัั! ะขะตะฑั ะฒะตะดั, ะบะฐะบ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ะฟัะพัะธะปะธ, ะฟะพะณะพะฒะพัะธ ั ะพััะพะผ! ะฃะฑะตะดะธ! ะะตัะถะตะปะธ ะฝะต ะฟะพะนะดะตั ะฝะฐะฒัััะตัั ะปัะฑะธะผะพะน ะดะพัะบะต? ะะต ะทะฒะตัั ะถะต ะพะฝ?! ะขั ั
ะพัั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั, ััะพ ั ัะพะฑะพะน ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฐ?!
ะััะฐะณะฐ ะทะฐะฒะฐะปะธะฒะฐะตั ะะฝั ะฝะฐ ะฟะตัะธะปะฐ ะผะพััะฐ, ัะณัะพะถะฐะตั ัะฑัะพัะธัั ะตะต ะฒ ะฒะพะดั. ะะฝั ั
ัะธะฟะธั, ะทะฐะดัั
ะฐะตััั, ะฟััะฐะตััั ะพัะฒะพะฑะพะดะธัััั.
— ะะต ะดะตัะณะฐะนัั, ะฐ ัะพ ััะพะฝั! โ ััะถะตะปะพ ะดััะฐ, ัะพะฒะตััะตั ะทะปะพะดะตะน ะธ ัะตะฐััะฐะปัะฝะพ ัะผะตะตััั. ะะปะฐะทะฐ ั ะััะฐะณะธะฝะฐ ะฑะปะตัััั, ะบะฐะบ ั ะทะฐะฟัะฐะฒัะบะพะณะพ ะผะฐะฝััะบะฐ.
— ะฃะฑัะดะธััะปัะฝะพ, ัะปััะธะน! โ ะทะฐะบะธะฒะฐะป ะงั
ะพะฝะธั. โ ะะฐะดะพ ะฑัะดัั ั ะฒะฐะผะธ ยซะัะตะปะปะพยป ะฟะฐััะฐะฒะธัั! ะะฐัััะฐะปัะฝะพ ะดััะธัั, ะบัะฐัะฐััะธะบ!
ะััะฐะณะธะฝ ั ะณะพัะดะพัััั ะบะปะตะธะป ัะตะฑะต ััั, ะฝะพ, ะบะฐะบ ะฒะพัะฟะธัะฐะฝะฝัะน ัะตะปะพะฒะตะบ, ัะบัะพะผะฝะพ ะพัะผะฐะปัะธะฒะฐะปัั. ะะดะฝะฐะบะพ ะดะพัะผะพััะตัั ัะพะปะธะบ ะฝะต ะฟะพะปััะธะปะพัั: ัะฐะทะดะฐะปะฐัั ะฒะพะปัะตะฑะฝะฐั ะผะตะปะพะดะธั ะธ ะณะพะปะพั ะธะท ะดะธะฝะฐะผะธะบะฐ ะพะฑััะฒะธะป ะฟะตัะฒัะน ะทะฒะพะฝะพะบ. ะะฐะฒะธะด ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฒะตัะฝัะปัั ะฒ ัะตะฐะปัะฝะพััั, ะฒัะฟัั
ะฝัะป ะธ ะฝะฐัะฐะป ะฝะตัะฒะฝะพ ัะฐัั
ะฐะถะธะฒะฐัั ะทะฐ ะบัะปะธัะฐะผะธ, ะฟะพะฒัะพััั ะฟะพ-ะณััะทะธะฝัะบะธ ััะพ-ัะพ ะณะพััะฐะฝะฝะพะต ะธ ัะฒะฝะพ ะฝะตะฟัะธะปะธัะฝะพะต.
— ะัััั ะฑะธ ะพะฝะฐ ะฝะฐ ัััะฝั ัะฐะบ ัะฑัะดะธััะปะฝะพ ะธะณัะฐะปะฐ! โ ัะบะฒะพะทั ะทัะฑั ัะธะฟะตะป ะงั
ะพะฝะธั, ะฝะต ะถะตะปะฐั ะผะธัะธัััั ั ัะตะผ, ััะพ ะตะณะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝะพะต ะดะตัะธัะต ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ะฝะฐ ะณัะฐะฝะธ ะฟัะพะฒะฐะปะฐ. ะััััััะฒะธะต ะะฝะฝั ะฝะต ะพััะฐะฒะปัะปะพ ะฝะธะบะฐะบะธั
ะฝะฐะดะตะถะด ะตะณะพ ะธะทะฑะตะถะฐัั. ะ ะพะปั ะัะตะปะธะธ, ั
ะพัั ะธ ะฝะต ะทะฐะณะปะฐะฒะฝะฐั, ะฝะพ ะฑะตะท ะฝะตะต ะธะทะฒะตััะฝัะน ะดัะฐะผะฐัััะณ ะจะตะบัะฟะธั ะพะฑะพะนัะธัั ะฝะต ัะผะพะณ, ะฐ ะทะฝะฐัะธั, ะธ ะพะฝ, ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั, ะฒััะด ะปะธ ะพะฑะพะนะดะตััั. ะะฐ ะธ ะฝะตั ะฒัะตะผะตะฝะธ ััะพ-ะปะธะฑะพ ะผะตะฝััั โ ะทัะธัะตะปะตะน ะฟะพะปะฝัะน ะทะฐะป! ะกะฐะผัะต ะฝะตัะตัะฟะตะปะธะฒัะต ัะถะต ัะพัะพะฟัั ัะพะฑััะธั ะพะดะธะฝะพัะฝัะผะธ ั
ะปะพะฟะบะฐะผะธ.
— ะะธัะตะณะพ! โ ัะฐะผะพะฝะฐะดะตัะฝะฝะพ ะพัะผะฐั
ะฝัะปัั ะะฐะผะปะตั. โ ะัะบัััะธะผัั!
ะััะฐะณะธะฝ ะฑัะป ะฝะฐ ัะดะธะฒะปะตะฝะธะต ัะฟะพะบะพะตะฝ. ะะฐะทะฐะปะพัั, ะพััััััะฒะธะต ะฟะฐััะฝะตััะธ ะตะณะพ ะผะฐะปะพ ะฑะตัะฟะพะบะพะธั. ะขะฐะบะพะฒะฐ ัะถ ะฟัะธัะพะดะฐ ะฐััะธััะพะฒ: ะธั
ะธะฝัะตัะตััะตั ัะพะปัะบะพ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะฐั ัะพะปั ะธ ัะพ, ะบะฐะบ ะพะฝะธ ัะฐะผะธ ะฑัะดัั ัะผะพััะตัััั ะฝะฐ ััะตะฝะต. ะ ััะดัะฑะต ะฟัะตะดะฟัะธััะธั ะฒ ัะตะปะพะผ, ัะฐะฒะฝะพ ะบะฐะบ ะธ ะพ ะฒะฐะถะฝัั
ัะฐััะฝะพัััั
ัะฟะตะบัะฐะบะปั, ะฒัะฝัะถะดะตะฝ ััะตะฒะพะถะธัััั ะพะดะธะฝ ัะพะปัะบะพ ัะตะถะธััะตั-ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบ.
ะะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฒ ัะบะปะฐะดะบะฐั
ะฟัะปัะฝะพะณะพ, ะตัะต ะฝะต ะฟะพะดะฝััะพะณะพ ะทะฐะฝะฐะฒะตัะฐ ะงั
ะพะฝะธั ัะฒะธะดะตะป ะฝะตัะฒะฝะพ ั
ััััะตะฒััั ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฐะบััะธัั ะฅััะฝะพะฒั. ะงะธัะบะฝัะฒ ะฒะทะณะปัะดะพะผ ะฟะพ ะตะต ัะธัะพะบะพะน ะณััะดะธ, ัะตะถะธััะตั ััั ะถะต ะฝะฐัะตะป ะณะตะฝะธะฐะปัะฝะพะต ัะตัะตะฝะธะต ัะพะปะธ ะัะตะปะธะธ ะฒ ััะปะพะฒะธัั
ะพััััััะฒะธั ะฝะฐ ะฟัะตะผัะตัะต ะฐััะธััะบะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน.
— ะะฝะฝะฐ ะกััะณััะฒะฝะฐ, ะดะฐัะฐะณะฐั! ะกะฟะฐัะฐะนัั!
ะะฐะฒะธะด ัะผะตะป ะฑััั ะพะฑั
ะพะดะธัะตะปัะฝัะผ ั ะถะตะฝัะธะฝะฐะผะธ, ะธ ัะพะปั ะัะตะปะธะธ ะฑัะปะฐ ะผะพะปะฝะธะตะฝะพัะฝะพ ะพัะดะฐะฝะฐ ะะฝะฝะต ะกะตัะณะตะตะฒะฝะต ะฅััะฝะพะฒะพะน, ะทัะตะปะพะน ะดะฐะผะต, ัะปัะถะธะฒัะตะน ยซะบัะฐัะฝะพะน ัะฐะฟะพัะบะพะนยป ะฒ ะผะตััะพ, ะฝะพ ะฒัั ะถะธะทะฝั ะผะตััะฐะฒัะตะน ะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝัั
ะฟะพะดะผะพััะบะฐั
. ะงั
ะพะฝะธั ะฟะพะพะฑะตัะฐะป ะฅััะฝะพะฒะพะน ะณะปะฐะฒะฝัะต ัะพะปะธ ะฒะพ ะฒัะตั
ัะฒะพะธั
ะดะฐะปัะฝะตะนัะธั
ะฟะพััะฐะฝะพะฒะบะฐั
ะธ ะฒะดะพะฑะฐะฒะพะบ ะทะฐะฒะตัะธะป, ััะพ ัะฐัะฐ ั ัะดะพะผ ะฑัะดะตั ะดะพ ะบัะฐะตะฒ ะฝะฐะฟะพะปะฝะตะฝะฐ ะดะพะผะฐัะฝะธะผ ยซะกะฐะฟะตัะฐะฒะธยป, ะฒัะตะณะดะฐ ั
ัะฐะฝะธะฒัะธะผัั ั ะะฐะฒะธะดะฐ ะฒ ะณัะธะผะตัะบะต.
ะะฝะฝะต ะกะตัะณะตะตะฒะฝะต, ัะฐะผะพะน ะฒะพะทัะฐััะฝะพะน ะฐะบััะธัะต ะผะพะปะพะดะตะถะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ ยซะะตัะฟะตัะฝะฐั ัะปะธัะฐยป, ะฒ ะฟะพััะฐะฝะพะฒะบะต ะงั
ะพะฝะธะธ ะฑัะปะฐ ะพัะฒะตะดะตะฝะฐ ัะพะปั ะะตััััะดั, ะฒะตััะตะฝะพะน ะผะฐะผะฐัะธ ะะฐะผะปะตัะฐ. ะะพ ัะตะฟะตัั, ะฑะปะฐะณะพะดะฐัั ัะผะตะปะพะผั ะฟะพะปะตัั ัะตะถะธััะตััะบะพะน ะผััะปะธ, ะฅััะฝะพะฒั ะถะดะฐะปะฐ ะตัะต ะพะดะฝะฐ ะทะฝะฐัะธะผะฐั ัะพะปั. ะ ะฑะพะปััะตะผ ััะฐัััะต ะฝะฐัะธะฝะฐััะฐั ะฒะพะทัะฐััะฝะฐั ะฐััะธััะบะฐ ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะธ ะผะตััะฐัั. ะะพะปะณะพ ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ะะฝะฝั ะกะตัะณะตะตะฒะฝั ะฝะต ะฟัะธัะปะพัั. ะะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะฟะพะปััะตะฝะฐ ะธ ัะดะฐะปะฐัั ะฑะตะท ะฑะพั. ะะพ ะฝะฐะดะตััััั ะฝะฐ ัะพ, ััะพ ะทัะธัะตะปั ะฝะต ะทะฐะผะตัะธั ัะพะบะพะฒะพะน ะฟะพะดะผะตะฝั, ะฑัะปะพ ะฝะฐะธะฒะฝะพ. ะัะดะฐัั ะฟััะฝะพัะตะปัั ะะฝะฝั ะกะตัะณะตะตะฒะฝั ะทะฐ ั
ััะฟะบัั ะดะตะฒััะบั, ะพัะฐัะพะฒะฐะฝะฝัั ะทะฐะณะฐะดะพัะฝัะผ ะฟัะธะฝัะตะผ, ะฑัะปะพ ะบัะฐะนะฝะต ัะปะพะถะฝะพ. ะัะพะผะต ัะพะณะพ, ะบะพัััะผ ะัะตะปะธะธ, ะบะพัะพััะน ะะฝะต ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฑัะป ะดะฐะถะต ัะปะตะณะบะฐ ะฒะตะปะธะบะพะฒะฐั, ะฝะฐ ะะฝะฝะต ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ ัะผะพััะตะปัั, ะบะฐะบ ะดะธะฒะฐะฝะฝะฐั ะพะฑัะธะฒะบะฐ, ะฟะพะดัะตัะบะธะฒะฐั ะฒัะต ะธะทััะฝั ะฝะตะผะพะปะพะดะพะณะพ ัะถะต ัะตะปะฐ, ัััะฐัะธะฒัะตะณะพ ัะพัะผั ะพั ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพะณะพ ัะธะดะตะฝะธั ะฒ ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะผ ยซััะฐะบะฐะฝะตยป. ะะพ ะธะฝะพะณะพ ะฒัั
ะพะดะฐ ะธะท ัะปะพะถะธะฒัะตะนัั ะฟะฐัะพะฒะพะน ัะธััะฐัะธะธ ั ะะฐะฒะธะดะฐ ะงั
ะพะฝะธะธ ะฝะต ะฑัะปะพ. ะัะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะธะดัะธ ะฒะฐ-ะฑะฐะฝะบ. ะะฐะฝ ะธะปะธ ะฟัะพะฟะฐะป.
ะะฐะบะพะฝะตั ะฟัะพะทะฒััะฐะป ััะตัะธะน ะทะฒะพะฝะพะบ, ะณัะฐะฝะดะธะพะทะฝะฐั, ััะฐะปะธะฝัะบะธั
ะฒัะตะผะตะฝ ะปััััะฐ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟะพะณะฐัะปะฐ ะธ ะฝะฐัะฐะปัั ัะฟะตะบัะฐะบะปั. ะะฐะผะปะตั ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ ะฑัะพะดะธะป ะฟะพ ะฝะพัะฝะพะผั ะญะปััะธะฝะพัั, ะฐ ัะตะฝั ะตะณะพ ะพััะฐ ะทะปะพะฒะตัะต ััะตะฒะพะฒะตัะฐะปะฐ ั ะณััะทะธะฝัะบะธะผ ะฐะบัะตะฝัะพะผ:
ะฏ ะดัั
ั, ั ัะฒะพะน ะพััั,
ะัะธะณะพะฒะพัะตะฝะฝัะน ะฟะพ ะฝะพัะฐะผ ััะบะธัะฐัะฐ,
ะ ะดะฝะตะผ ัะพะผะธัะฐ ะฟะพัััะดะธ ะพะณะฝั,
ะะพะบะฐ ะณััั
ะธ ะผะพะตะน ะทัะผะฝะพะน ะฟัััะพะดั
ะั ะฒะธะถะณัััะฐ ะดะฐ ัะปะฐ!
ะกะฒะพะน ะผะพะฝะพะปะพะณ ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ะฟัะพะธะทะฝะพัะธะป ัะฐะบ ัะตะผะฟะตัะฐะผะตะฝัะฝะพ, ััะพ ะฝะตัะฒะฝัะต ะทัะธัะตะปัะฝะธัั ะณัะพะผะบะพ ะฐั
ะฐะปะธ ะธ ั
ะฒะฐัะฐะปะธัั ะทะฐ ัะฟะธะฝะบะธ ะฒะฟะตัะตะดะธ ััะพััะธั
ะบัะตัะตะป. ะะตะดะพะฒะพะปัะฝัะต ัะตะฐััะฐะปั ัะบะพัะธะทะฝะตะฝะฝะพ ัะธะบะฐะปะธ, ะฟัะธะทัะฒะฐั ัะพั
ัะฐะฝััั ั
ะปะฐะดะฝะพะบัะพะฒะธะต. ะญััะตะบั ะพั ะดััะตัะฐะทะดะธัะฐััะตะณะพ ะผะพะฝะพะปะพะณะฐ ะตัะต ะฑะพะปััะต ััะธะปะธะฒะฐะปัั, ะบะพะณะดะฐ ะงั
ะพะฝะธั ะฟะพััะตะฝัะบะธะฒะฐะป ะทะฒะพะฝะบะพะผ, ะฟัะธะบัะตะฟะปะตะฝะฝัะผ ะบ ััะปั ะฒะตะปะพัะธะฟะตะดะฐ, ะฐ, ะทะฐะบะพะฝัะธะฒ ะฒัะบัะธะบะธะฒะฐัั ัะตะบัั, ะฟัะธัะพัะผะพะทะธะป ั ัะฐะผะพะน ัะฐะผะฟั. ะัะพ-ัะพ ะธะท ะบะฐะฒะบะฐะทัะตะฒ ะฒ ะฟะตัะฒะพะผ ััะดั ะดะฐะถะต ััะฟะตะป ะฒัะบะธะฝััั ะฒะฟะตัะตะด ััะบะธ, ััะพะฑั ะฟัะธะฝััั ะฒ ะพะฑััััั ัะบะทะฐะปััะธัะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะทะตะผะปัะบะฐ. ะะพ ะัะธะทัะฐะบ ะผะฐััะตััะบะธ ะฝะฐะดะฐะฒะธะป ะฝะฐ ัะพัะผะพะทะฝัั ะฟะตะดะฐะปั ะธ ั ะฟัะพััะถะฝัะผ ัะบัะตะถะตัะพะผ ััััะธั
ัั ะพ ััะตะฝั ะฟะพะบัััะตะบ ะทะฐัััะป ั ะบัะฐั ะฑะตะทะดะฝั. ะขัั ะพัะตะปะพะผะปะตะฝะฝะพะน ะฟัะฑะปะธะบะต ะฝะธัะตะณะพ ะดััะณะพะณะพ ะฝะต ะพััะฐะฒะฐะปะพัั, ะบะฐะบ ัะพะปัะบะพ ะพะฑะปะตะณัะตะฝะฝะพ ะฒัะดะพั
ะฝััั ะธ ัะฐะทัะฐะทะธัััั ะฑััะฝัะผะธ ะพะฒะฐัะธัะผะธ.
ะัะปะฐ, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะตัะต ะพะดะฝะฐ ะฝะตัะฐะทัะตัะธะผะฐั ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ. ะะตัะผะพััั ะฝะฐ ะฒัั ัะฒะพั ะฑะตะทะทะฐะฒะตัะฝัั ะปัะฑะพะฒั ะบ ัะตะฐััั, ะะฝะฝะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ะฐะฑัะพะปััะฝะพ ะฝะต ัะฟะพัะพะฑะฝะฐ ะทะฐะฟะพะผะธะฝะฐัั ัะตะบัั. ะะฝะฐ ะฟะปะพั
ะพ ัะฟัะฐะฒะปัะปะฐัั ะดะฐะถะต ั ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะน ัะพะปัั, ะบะพัะพััั ะทัะฑัะธะปะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะตัััั. ะกะปะพะฒ ะถะต ะัะตะปะธะธ ะฝะต ะทะฝะฐะปะฐ ะฒะพะฒัะต ะธ ะฝะฐ ะฟัะตะผัะตัะต ะฑัะปะฐ ะฒัะฝัะถะดะตะฝะฐ ััะฐะณะธะบะพะผะธัะฝะพ ะธะผะฟัะพะฒะธะทะธัะพะฒะฐัั. ะ ะตะฟะปะธะบะธ ะัะตะปะธะธ ะธ ะะตััััะดั, ะบะฐะบ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะธ ะผะธะทะฐะฝััะตะฝั, ะพะฝะฐ ะฒะพะปัะฝะพ ะฟะตัะตะผะตัะฐะปะฐ. ะัะธัะตะปั ะฑัะป ะฒ ัััะฟะพัะต ะธ ัะถะต ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐะป, ะบัะพ ะตััั ะบัะพ. ะ ะฑะพะบะฐะปั ั ัะดะพะผ ะะตััััะดะฐ-ะัะตะปะธั ะฟัะธะบะปะฐะดัะฒะฐะปะฐัั ะฝะฐ ะฟัะพััะถะตะฝะธะธ ะฒัะตะณะพ ัะฟะตะบัะฐะบะปั ะธ ะบ ะผะพะผะตะฝัั ัะฒะพะตะน ะฝะตะปะตะฟะพะน ัะผะตััะธ ะฒะพ ะฒัะตะผั ะดััะปะธ ะะฐะผะปะตัะฐ ั ะะฐัััะพะผ ะฑัะปะฐ ัะถะต ะผะตััะฒะตัะบะธ ะฟััะฝะฐ.
ะะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะฐั ะฒะพะปัะฝะฐั ััะฐะบัะพะฒะบะฐ ะฟัะตัั ะฒัะทะฒะฐะปะฐ ัะบะฒะฐะป ะพะฒะฐัะธะน. ะกะฟะตะบัะฐะบะปั ะะฐะฒะธะดะฐ ะงั
ะพะฝะธะธ ะฟัะพัะตะป ะฝะฐ ััะฐ. ะญัะพ ะฑัะป ะฝะฐััะพััะธะน ััะธัะผั. ะ ะดะฐะถะต ัะดะฒะพะตะฝะฝะฐั ะณะธะฑะตะปั ะะตััััะดั, ะบะพัะพัะฐั ะฒะฝะฐัะฐะปะต, ะฟัะธัะฒะพััััั ะัะตะปะธะตะน, ััะพะฟะธะปะฐัั ะฒ ะฒัะบัะฐัะตะฝะฝะพะผ ะฟะพะปะธััะธะปะตะฝะต, ะฐ ะฟะพัะพะผ, ะฑะปะธะถะต ะบ ะบะพะฝัั, ะฒ ะพัะตัะตะดะฝะพะน ัะฐะท ะพััะฐะฒะธะปะฐัั ะณััะทะธะฝัะบะธะผ ะฒะธะฝะพะผ, ะฝะต ัะผะพะณะปะฐ ะธัะฟะพััะธัั ะพะฑัะตะณะพ ะฒะฟะตัะฐัะปะตะฝะธั. ะัะธัะตะปะธ ัะฐะดั ะพะฑะผะฐะฝัะฒะฐัััั, ะพะฝะธ ะฒะตะดั ะบะฐะบ ะดะตัะธ. ะัะฑะปะธะบะฐ ัะตัะธะปะฐ, ััะพ ะฒัะต ัะฐะบ ะธ ะฑัะปะพ ะทะฐะดัะผะฐะฝะพ, ะธ ะบะฐะฒะบะฐะทัะบะธะน ัะตะถะธััะตั-ัะฐะผะพัะพะดะพะบ ัะฒะธะป ัะผะตะปัั ััะฐะบัะพะฒะบั ยซะะฐะผะปะตัะฐยป. ะัะพ-ัะพ ะธะท ะฒััะพะบะพะปะพะฑัั
ะบัะธัะธะบะพะฒ ะดะฐะถะต ัะธั
ะพะฝัะบะพ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป ะฝะฐ ัั
ะพ ัะฒะพะตะผั ะฝะต ะผะตะฝะตะต ะฒััะพะบะพะปะพะฑะพะผั, ะฝะพ ะตัะต ะฑะพะปะตะต ะปะพะฟะพัั
ะพะผั ัะพัะตะดั:
— ะฅะพัะตั ััะธะปะธัั ะญะดะธะฟะพะฒ ะบะพะผะฟะปะตะบั!
ะ ัะพัะตะด ะบะธะฒะฝัะป, ะฟะพัะตั ะฑะพัะพะดะบั ะธ ัะบัะฟะตััะฝะพ ัะตะทัะผะธัะพะฒะฐะป:
— ะะตะฝะธะฐะปัะฝะพ!
ะะพะฒัะพัะธะผัั, ััะพ ะฑัะป ัััะพั. ะัะธัะตะปะธ ะฐะฟะปะพะดะธัะพะฒะฐะปะธ ััะพั. ะะฝะฝั ะกะตัะณะตะตะฒะฝั ะทะฐะฒะฐะปะธะปะธ ัะฒะตัะฐะผะธ. ะฅะปะพะฟะฐะปะธ ะธ ะฝะต ะพัะฟััะบะฐะปะธ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะผะธะฝัั. ะัะฒัะบัะฐั ะพั ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะพะณะพ ัะตะฟะปะฐ ัะฐะฑะพัะฝะธัะฐ ะผะตััะพะฟะพะปะธัะตะฝะฐ ัะฐะทััะดะฐะปะฐัั, ะฒ ััั ะผะธะฝััั ะตะน ั
ะพัะตะปะพัั ัะฐะทะดะฐัั ะฒัะตะผ ะฟัะธัััััะฒะพะฒะฐะฒัะธะผ ะฒ ะทะฐะปะต ะฑะตะทะปะธะผะธัะฝัะต ะฐะฑะพะฝะตะผะตะฝัั ะฒ ะผะตััะพ.
ะัะตะผัะตัั ยซะะฐะผะปะตัะฐยป ะพัะผะตัะฐะปะธ ะฒ ััะผะฝะพะน ะทะฐะฑะตะณะฐะปะพะฒะบะต ะฝะตะฟะพะดะฐะปะตะบั ะพั ะะพัะบะฒะพัะตัะบะพะณะพ ััะฝะบะฐ, ะบัะดะฐ ะบะฐะฒะบะฐะทัะบะธะต ะดััะทัั ะะฐะฒะธะดะฐ ะฟัะธะณะปะฐัะธะปะธ ะทะฐะฝัััั
ะฒ ะฟะพััะฐะฝะพะฒะบะต ะฐััะธััะพะฒ ะธ ะฒะตัั ัะตั
ะฝะธัะตัะบะธะน ะฟะตััะพะฝะฐะป ะผะพะปะพะดะตะถะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ, ะฒะบะปััะฐั ะบะฐะฟะตะปัะดะธะฝะตัั ะธ ะดะฐะถะต ะฑะธะปะตัะตััั ะฑะฐะฑั ะจััั, ัะปัะถะธัะตะปัะฝะธัั ะบัะปััะฐ ะะตะปัะฟะพะผะตะฝั ั ะฟะพะปัะฒะตะบะพะฒัะผ ััะฐะถะตะผ. ะัะปะพ ะฒะตัะตะปะพ ะธ ััะผะฝะพ, ะฟะธะปะธ ะทะฐ ะฒัะตั
, ะธะผะตะฒัะธั
ะบ ัะฟะตะบัะฐะบะปั ั
ะพัั ะบะฐะบะพะต-ัะพ ะพัะฝะพัะตะฝะธะต, ะฝะฐัะธะฝะฐั ั ะธะทะฒะตััะฝะพะณะพ ะดัะฐะผะฐัััะณะฐ ะฃะธะปััะผะฐ ะจะตะบัะฟะธัะฐ ะธ ะทะฐะบะฐะฝัะธะฒะฐั ะฒัะต ัะพะน ะถะต ะฑะฐะฑะพะน ะจััะพะน. ะะพ ะฟัะพััะฑะต ัะพะฑัะฐะฒัะธั
ัั ะะฒะฐะฝ ะััะฐะณะธะฝ ะตัะต ัะฐะท ะฟะพะฒัะพัะธะป ะทะฝะฐะผะตะฝะธััะน ะผะพะฝะพะปะพะณ ะดะฐััะบะพะณะพ ะฟัะธะฝัะฐ ยซะััั ะธะปะธ ะฝะต ะฑััั?ยป ะธ ััะตะฝั ะฒ ะผะพะณะธะปะต ั ัะตัะตะฟะพะผ ะฑะตะดะฝะพะณะพ ะะพัะธะบะฐ, ัะพะปั ะบะพัะพัะพะณะพ ะฝะฐ ััะพั ัะฐะท ะธัะฟะพะปะฝัะปะฐ ะฑะฐัะฐะฝัั ะปะพะฟะฐัะบะฐ. ะะพัะปะต ััะพะณะพ ะบะฐะฒะบะฐะทัะบะธะต ะดััะทัั ะงั
ะพะฝะธะธ ะฟัะตะดะปะพะถะธะปะธ ะตะผั ััะธะปะธัั ััะตะฝั ะดััะปะธ ะะฐะผะปะตัะฐ ั ะะฐัััะพะผ, ะทะฐะผะตะฝะธะฒ ะฟะธะถะพะฝัะบะพะต ัะตั
ัะพะฒะฐะฝะธะต ะฑััะฐัะพััะบะธะผะธ ัะฟะฐะณะฐะผะธ ะฝะฐ ะฟัะธะตะผั ะฝะฐััะพััะตะน ะฒะพะปัะฝะพะน ะฑะพััะฑั.
— ะัััั ะบะฐะบ ะดะฒะฐ ะผัะถะธะบะฐ ัะฐะทะฑะตััััั! โ ะฟะพะดััะพะถะธะป ะดะฐะณะตััะฐะฝะตั ะะฐะผะทะฐั ะธ, ััะพะฑั ะผััะปั ะตะณะพ ััะฐะปะฐ ะฟะพะฝััะฝะตะน, ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะธะณัะฐะฒัะตะผั ะะฐัััะฐ ะฐััะธััั ะฑัะพัะพะบ ัะตัะตะท ะฑะตะดัะพ ั ัะดััะฐััะธะผ ะทะฐะถะธะผะพะผ. ะะตะดะฝัะน ะะฐััั ะฝะต ััะฟะตะป ะฒะพะฒัะตะผั ัะฒะตัะฝััััั, ะธ ะดะปั ะฝะตะณะพ ะฑะฐะฝะบะตั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะทะฐะบะพะฝัะธะปัั. ะ ััั ะะฝะฝะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ ะฅััะฝะพะฒะฐ, ะฟัะธะฒัะบัะฐั ัะฟะฐัะฐัั ะฟะฐััะฝะตัะพะฒ ะฒ ัััะดะฝัั ะผะธะฝััั, ะฝะต ััะฐะปะฐ ะดะพะถะธะดะฐัััั ะพั ะะฐัััะฐ ะฝะต ะฟะพะดะฐะฝะฝะพะน ะฒะพะฒัะตะผั ัะตะฟะปะธะบะธ: ยซะะต ะฟะตะน ะฒะธะฝะฐ, ะะตััััะดะฐ!ยป โ ะธ, ะปะธั
ะพ ะทะฐะฟััะณะฝัะฒ ะฝะฐ ััะพะป ั ะฟััััั, ะบะพัะพัะพะน ะพั ะฝะตะต ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะพะถะธะดะฐะป, ะทะฐะปะฟะพะผ ะพัััะธะปะฐ ะฑะพะปััะพะน ัะพะณ ะณััะทะธะฝัะบะพะณะพ ะฒะธะฝะฐ. ะกัะพะฝั ะะฐัััะฐ ะทะฐะณะปััะธะป ะณัะพั
ะพั ะทะฐััะถะฝัั
ะพะฒะฐัะธะน ะธ ะฒะพััะพัะถะตะฝะฝัะต ะบัะธะบะธ ะบะฐะฒะบะฐะทัะตะฒ.
ะะปัะฑะพะบะพะน ะฝะพััั ะฟัะธะฝั ะะฐััะบะธะน ะะฒะฐะฝ ะััะฐะณะธะฝ ะธ ะทะปะพะฒะตัะธะน ะัะธะทัะฐะบ ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะธ ัะตะฑั ะฝะฐ ะดะตััะบะพะน ะฟะปะพัะฐะดะบะต ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพะณะพ ะธะผ ะดะฒะพัะฐ. ะะฝะธ ัะธะดะตะปะธ ะฒ ะฟะตัะพัะฝะธัะต ะธ ะฑัะปะธ ััะฐััะปะธะฒั, ะฟะตัะตะฑะธัะฐั ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ััะบะธะต ะผะพะผะตะฝัั ะฟัะพะผะตะปัะบะฝัะฒัะตะณะพ ะดะฝั. ะะพะณะดะฐ ะฒะฟะตัะฐัะปะตะฝะธั ะพั ัะฟะตะบัะฐะบะปั ะธ ะพั ะฑะฐะฝะบะตัะฐ ะฑัะปะธ ะธััะตัะฟะฐะฝั, ะฒัั ัะฐะฑะพัะฐ ะฝะฐะด ะพัะธะฑะบะฐะผะธ ะฟัะพะฒะตะดะตะฝะฐ, ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะธ ะธ ะฟัะพ ะะฝั ะจะตัะณะธะฝั.
— ะะฝะฐ ัะฐะผะฐ ะฝะต ะทะฝะฐะตั, ัะตะณะพ ัะตะณะพะดะฝั ะปะธัะธะปะฐัั! โ ัะพ ะทะปะพัะฐะดััะฒะพะผ ะฟัะพะธะทะฝะตั ะััะฐะณะฐ. โ ะะพะณะปะฐ ะฑั ะฟัะพัะฝััััั ะทะฒะตะทะดะพะน!
— ะกะปััะฐะน! ะ ััะพ ัั ัะฐะผ ะณะฐะฒะฐัะธะป ะฟัะฐ ะฐััะฐ? ะั, ะฝะฐ ะฒะธะดะตะพ! ยซะะฐะฟัะฐัะธ ะฐััะฐ, ะฟะฐะฟัะฐัะธ ะฐััะฐ!ยป ะ ัะตะผ ยซะฟะฐะฟัะพัะธ ะฐััะฐยป? โ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะะฐะฒะธะด.
— ะะฐ ั ัะฐะผ ัะพะปะบะพะผ ะฝะต ะทะฝะฐั, โ ัะฐะฒะฝะพะดััะฝะพ ะฑัะพัะธะป ะะฐะผะปะตั. โ ะะต ะฟะฐะฟะธะบ ะฒัะพะดะต ะบัััะพะน ัะตะป ะบะฐะบะพะน-ัะพ, ะดะพะผะฐ ัะฝะพัะธั ะฒะผะตััะต ั ะปัะดัะผะธ!
— ะะฐะปะฐัะฐั ะผะฐะปะฐะดะตัั, ัะปััะธะน, โ ัะฟะปัะฝัะป ะงั
ะพะฝะธั, ะฟะพะดะฝะธะผะฐััั ะฝะฐ ะดะตััะบัั ะณะพัะบั ะธ ะปะธั
ะพ ัะบะฐััะฒะฐััั ะพะฑัะฐัะฝะพ ะฒ ะฟะตัะพัะฝะธัั.
— ะกะปััะธะน, ะฐ ะดะฐะฒะฐะน ะฟะฐะนะดะตะผ ะบ ะฝัะน! ะััะผะพ ััะนัะฐั! โ ะฒะดััะณ ะพัะตะฝะธะปะพ ัะตะถะธััะตัะฐ. โ ะ ะฐััะบะฐะถัะผ, ะบะฐะบ ะฒัะต ะฑะธะปะพ! ะัััั ัััะฐะดะฐัั ะธ ะผััะฐัััั!
— ะะพัะปะธ, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะะฒะฐะฝ ะััะฐะณะธะฝ, ะบะพัะพััะน ะฒัะตะณะดะฐ ะฑัะป ะทะฐ ะปัะฑัั ะดะฒะธะถัั
ั, ะบัะพะผะต ะณะพะปะพะดะพะฒะบะธ. โ ะะฐะพะดะฝะพ ะฒ ะณะปะฐะทะฐ ะตะน ะฟะพัะผะพััะธะผ!
ะะฐะฒะธะด ะธ ะะฒะฐะฝ ัะธะฝัะปะธัั ะฝะฐ ะฟะพะธัะบะธ ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะะพะทะดะฝะธะน ัะฐั ะธั
ะฝะต ัะผััะฐะป, ะพะฝะธ ะฒัะต ะตัะต ะฟัะตะฑัะฒะฐะปะธ ะฒ ัะนัะพัะธะธ ะพั ะณัะฐะฝะดะธะพะทะฝะพะณะพ ััะฟะตั
ะฐ ะฟัะตะผัะตัั. ะงะตัะตะท ะบะฐะบะพะต-ัะพ ะฒัะตะผั ะฐััะธััั ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ะพะบะพะปะพ ะฒะทะพัะฒะฐะฝะฝะพะน ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ. ะะพะบััะณ ะตะต ะพะณะพัะพะถะตะฝะฝัั
ััะธะฝ, ะผะตััะฐั ัะฐะทะฝะพัะฒะตัะฝัะผะธ ะพะบะฝะฐะผะธ, ะฒััะธะปะธัั ะดะพะผะฐ. ะัะธะตั
ะฐะฒัะธะน ะธะท ัะธะฑะธััะบะพะน ะณะปัะฑะธะฝะบะธ ะะฒะฐะฝ ะััะฐะณะธะฝ ะธ ัะฟัััะธะฒัะธะนัั ั ะบะฐะฒะบะฐะทัะบะธั
ะณะพั ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ั ะณัััััั ัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ััะถะธะต ะผะพัะบะพะฒัะบะธะต ะพะบะฝะฐ, ะฟะพะฝะธะผะฐั, ััะพ ัะฐะผะธ ะพะฝะธ ะตัะต ะพัะตะฝั ะฝะตัะบะพัะพ ััะฐะฝัั ัะฐัััั ััะพะณะพ ะฑะปะฐะณะพััััะพะตะฝะฝะพะณะพ ะผะธัะฐ. ะ ะพะดะฝะพะน ะธะท ััะธั
ะบะฒะฐััะธั ะดะพะปะถะฝะฐ ะถะธัั ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะดะพัั ะพะปะธะณะฐัั
ะฐ. ะะฒะฐะฝ, ะฟะพ ะบัะฐะนะฝะตะน ะผะตัะต, ะฑัะป ะฒ ััะพะผ ัะฒะตัะตะฝ.
— ะงัะพ ะฑัะดะตะผ ะดะตะปะฐัั, ะผะฐััััะพ? โ ะดะตะปะพะฒะธัะพ ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ะััะฐะณะฐ.
ะะฐะถะตััั, ะพะฝ ะฑัะป ะฝะต ะฟัะพัั ะพะฑะพะนัะธ ะฒ ะฟะพะธัะบะฐั
ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฒัะต ะพะบัะตััะฝัะต ะดะพะผะฐ ะพั ะฟะพะดะฒะฐะปะพะฒ ะดะพ ัะตัะดะฐะบะพะฒ. ะ ะฝะตะฒะฐะถะฝะพ, ัะบะพะปัะบะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ััะพ ะผะพะถะตั ะทะฐะฝััั. ะะปั ะฟะพัะพะผััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ัะธะฑะธััะบะฐ ะฟะพะฑะตะณะฐัั ะฟะพ ััะฐะถะฐะผ โ ะฟะปะตะฒะพะต ะดะตะปะพ. ะะพ ะงั
ะพะฝะธั ะฝะต ัะฟะตัะธะป ะพัะธัะฐัั ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัะต ะฟะพะดัะตะทะดั. ะะฐะบ ะพะฑััะฝะพ, ะพะฝ ะถะดะฐะป ะฝะฐะธัะธั.
— ะะฐะดะพ ะฟะพะดัะผะฐัั, โ ะณะปัะฑะพะบะพะผััะปะตะฝะฝะพ ะธะทัะตะบ ะะฐะฒะธะด. ะะณะพ ะฟััะปะธะฒัะน ัะผ ะปะธั
ะพัะฐะดะพัะฝะพ ะธัะบะฐะป ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝะพ ะฒะตัะฝะพะต ัะตัะตะฝะธะต.
ะะฒะฐะฝ ะััะฐะณะธะฝ ะธ ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ะฟัะธัะตะปะธ ะฝะฐ ััััั ะพั ะฝะพัะฝะพะน ัะพัั ัะบะฐะผะตะนะบั, ััะพะฑั ั
ะพัะพัะตะฝัะบะพ ะฒัะต ะพะฑะผะพะทะณะพะฒะฐัั. ะงัะพ ะดะตะปะฐัั ะดะฐะปััะต, ะฑัะปะพ ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะฟะพะฝััะฝะพ. ะะต ะพัะฐัั ะถะต ะฒะพ ะฒัะต ะณะพัะปะพ ะฟะพะด ััะถะธะผะธ ะพะบะฝะฐะผะธ, ะฒัะทัะฒะฐั ะะฝั ะฒะพ ะดะฒะพั? ะญัะพั ะฒะฐัะธะฐะฝั ะฐััะธััั ัะพะถะต ะฝะต ะธัะบะปััะฐะปะธ, ะฝะพ ะฟัะธะฑะตัะตะณะฐะปะธ ะตะณะพ ะฝะฐ ัะฐะผัะน ะบัะฐะนะฝะธะน ัะปััะฐะน. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ะพะฑะฐ ะถะดะฐะปะธ, ะบัะพ ะธะท ะฝะธั
ะฟะตัะฒัะผ ะฟัะตะดะปะพะถะธั ะพััะฐะฒะธัั ะทะฐัะตั ั ะฟะพะธัะบะพะผ ะะฝะธ ะดะพ ะปัััะธั
ะฒัะตะผะตะฝ, ั
ะพัั ะฑั ะดะพ ะฝะฐัััะฟะปะตะฝะธั ัััะฐ. ะะพ ัะดะฐะฒะฐัััั ะฝะธะบัะพ ะฝะต ั
ะพัะตะป.
ะั ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฟะพะดัััะฟะธะฒัะตะน ะผะตะปะฐะฝั
ะพะปะธะธ ัะฟะฐัะฐะปะพ ะฒะธะฝะพ, ะฒัะต ะตัะต ะฑัะปัะบะฐะฒัะตะต ะฒ ะฟัะตะดััะผะพััะธัะตะปัะฝะพ ะฟัะธั
ะฒะฐัะตะฝะฝะพะน ะฝะฐ ะฑะฐะฝะบะตัะต ะบะฐะฝะธัััะต. ะะปะพะฒะตัะธะน ะัะธะทัะฐะบ ั ะฟะตัะฐะปัะฝัะผ ะะฐะผะปะตัะพะผ ะฟะธะปะธ ะฟะพ ะพัะตัะตะดะธ, ะทะฐะบัััะฒะฐั ััั
ะพัััะบัะฐะผะธ, ะบะพัะพััะต ะะฐะฒะธะด ัะตะดััะผะธ ะณะพััััะผะธ ะดะพััะฐะฒะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะพะฒ ะฑััะบ.
— ะะต ะฟะตะน ะฒะธะฝะฐ, ะะตััััะดะฐ! โ ะฟะพัะปััะฐะปัั ั ะฝะธั
ะทะฐ ัะฟะธะฝะพะน ะฝะธะทะบะธะน ั ั
ัะธะฟะพััะพะน ะณะพะปะพั.
ะ ะฟะตัะฒะพะต ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะพะฑะฐ ะฐััะธััะฐ ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะธ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะะฝะฝั ะกะตัะณะตะตะฒะฝั ะฅััะฝะพะฒั, ะพะฑะปะฐะดะฐะฒััั ัั
ะพะถะธะผ ะณััะดะฝัะผ ะฑะฐัะธัะพะฝะพะผ. ะะฒะฐะฝ ะธ ะะฐะฒะธะด ะพะฑะตัะฝัะปะธัั, ะธ ัะปัะฑะบะธ ัะฟะพะปะทะปะธ ั ะธั
ะปะธั: ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ััะพัะปะฐ ะฝะต ะัะตะปะธั ะธ ะดะฐะถะต ะฝะต ะะตััััะดะฐ, ะฐ ะดะฒะพะต ะฒ ััะฐััะบะพะผ.
ะัะปะฐ ะตัะต ะฝะฐะดะตะถะดะฐ, ััะพ ััะพ ัะตะณะพะดะฝััะฝะธะต ะทัะธัะตะปะธ, ัะปััะฐะนะฝะพ ัะทะฝะฐะฒัะธะต ะธั
ะฝะฐ ัะปะธัะต. ะะพ ะธ ั ััะพะน ะธะปะปัะทะธะตะน ะฟัะธัะปะพัั ะฟัะพััะธัััั: ัะถ ะฑะพะปัะฝะพ ััะธ ัะพัะปัะต ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัั ะฑัะปะธ ะฝะต ะฟะพั
ะพะถะธ ะฝะฐ ัะตะฐััะฐะปะพะฒ.
— ะงัะพ ะผั ััั ะธัะตะผ? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะดะธะฝ ะธะท ะฝะธั
, ะฟะตัะตะบััะฒะฐั ะฐััะธััะฐะผ ะฟััั ะบ ะฟะฐะฝะธัะตัะบะพะผั ะฑะตะณััะฒั. ะัะฐะฒัั ััะบั ะพะฝ ะดะตัะถะฐะป ะฒ ะบะฐัะผะฐะฝะต.
— ะะธัะตะณะพ, ะดะฐัะฐะณะพะน, ะฟััะผัััั ะพัะผะธัะฐะธะผ, ัะปััะธะน! โ ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ะฟะพะฟััะฐะปัั ะฒะบะปััะธัั ัะฒะพะต ะพะฑะฐัะฝะธะต, ะฝะพ ััะฐะทั ะถะต ะพัะตะบัั, ะพัะพะทะฝะฐะฒ, ััะพ ะฒ ะดะฐะฝะฝะพะน ัะธััะฐัะธะธ ะตะณะพ ะพะฑะตะทะพััะถะธะฒะฐััะฐั ัะปัะฑะบะฐ ะฝะต ััะฐะฑะพัะฐะตั, ะฐ ะผะพะถะตั, ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ะฟัะธะฒะตััะธ ะบ ะฝะตะถะตะปะฐัะตะปัะฝัะผ ะฟะพัะปะตะดััะฒะธัะผ.
— ะะพะบัะผะตะฝัะธะบะธ! โ ัะฐะฒะฝะพะดััะฝะพ ะฟัะพัะตะดะธะป ะพะดะธะฝ ะธะท ััะฐััะบะธั
, ะธ ั ะะฐะฒะธะดะฐ ะพั ะตะณะพ ะปะตะดัะฝะพะณะพ ัะพะฝะฐ ะฟะพ ัะฟะธะฝะต ะฟะพะฑะตะถะฐะปะธ ะฟัะพะฒะพัะฝัะต ะผััะฐัะบะธ. ะะฝ ะฒะดััะณ ะฒัะฟะพะผะฝะธะป, ััะพ ัะถะต ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะผะตัััะตะฒ ะถะธะฒะตั ะฒ ะะพัะบะฒะต ะฑะตะท ัะตะณะธัััะฐัะธะธ. ะะต ะดะฐะฒะฐั ััะฐััะบะธะผ ะพะฟะพะผะฝะธัััั, ะะฐะฒะธะด ะฟะพะฟััะฐะปัั ะฟัะพัะฒะฐัััั ัะตัะตะท ะถะธะฒะพะน ะทะฐัะปะพะฝ, ัะตัะธะฒ ะฑะพะดะฝััั ะณะพะปะพะฒะพะน ะฑะปะธะถะฐะนัะธะน ัะธะปััั, ะฝะพ ััะฐะทั ะถะต ะฝััะฝัะป ะปะธัะพะผ ะฒ ััะฐะฒั, ะฑะพะปัะฝะพ ัะดะฐัะธะฒัะธัั ะฒะฝะฐัะฐะปะต ะพ ะปะพะบะพัั ัะปัะถะฑะธััะฐ, ะฐ ะทะฐัะตะผ ะธ ะพ ั
ะพะปะพะดะฝัั ะทะตะผะปั. ะะฒะฐะฝ ะฝะต ััะฟะตะป ะฟะพะฝััั, ััะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั, ั
ะพัะตะป ะฑัะปะพ ะบะธะฝััััั ะฝะฐ ะฟะพะผะพัั ะดััะณั, ะฝะพ ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป ะทะฒะพะฝะบะธะน ัะดะฐั ะฟะพ ัั
ั, ัะตะผั-ัะพ ะบัะพัะบะพ ัะปัะฑะฝัะปัั ะธ ัะฟะฐะป ะฝะฐ ะทะตะผะปั ััะดะพะผ ั ะะฐะฒะธะดะพะผ.
ะะฑะพะธั
ะพะฑััะบะฐะปะธ ะธ, ัะบัััะธะฒ, ะฑัะพัะธะปะธ ะฒ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฑะตัััะผะฝัะน ััะฐะฝัะฟะพัั. ะัะดะฐ-ัะพ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟะพะฒะตะทะปะธ.
— ะัะพะดะต ะธะท ััะธั
, ะฟะพะดะพะฟััะฝัั
, โ ััะปััะฐะป ะะฒะฐะฝ ะทะฝะฐะบะพะผัะน ัะถะต ะณะพะปะพั ััะฐััะบะพะณะพ.
— ะ ัะตัะฝัะน, ะฒะพะพะฑัะต, ะฝะตะปะตะณะฐะป, โ ะฟะพะดัะฒะตัะดะธะป ะตะณะพ ะฝะฐะฟะฐัะฝะธะบ.
— ะกะฐะผ ัั ยซัะตัะฝัะนยป! โ ะฒะพะทะผััะธะปัั ะะฐะฒะธะด, ะฝะพ ะฟะพะปััะธะป ะบะฐะฑะปัะบะพะผ ะฒ ะปะพะฑ ะธ ะฟะพััะธ ััะฐะทั ะถะต ััะฝัะป. ะะฒะฐะฝะฐ ัะพะถะต ะบะปะพะฝะธะปะพ ะฒ ัะพะฝ ัะพ ะปะธ ะพั ะฒัะฟะธัะพะณะพ ยซะกะฐะฟะตัะฐะฒะธยป, ัะพ ะปะธ ะพั ะธะทะฑััะบะฐ ัะผะพัะธะน, ัะฒัะทะฐะฝะฝัั
ั ััะฟะตัะฝะพะน ะฟัะตะผัะตัะพะน, ัะพ ะปะธ ะพั ัะฐะบะพะณะพ ะถะต ะบะพัะพัะบะพะณะพ ัะดะฐัะฐ ะฒ ะปะพะฑ.
ะัะฝัะปะธัั ะฐััะธััั ะฒ ัะพะน ะถะต ะบะพะผะฝะฐัะต, ะณะดะต ัะพะผะธะปะธัั ะฒ ะฝะตะฒะพะปะต ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒะผะตััะต ัะพ ัะฒะพะธะผ ะพััะพะผ ะธ ะตะต ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ. ะะพัะฒะปะตะฝะธะต ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัะตะฒ ะฒัะฒะตะปะพ ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ ะธะท ะณะธะฟะฝะพะทะฐ. ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ัะฒะธะดะตะปะฐ ัะฒะพะธั
ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ, ะฐ ัะต, ะบ ัะฒะพะตะผั ะฝะตะฟะตัะตะดะฐะฒะฐะตะผะพะผั ะธะทัะผะปะตะฝะธั, ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะธ ััะดะพะผ ั ัะพะฑะพะน ะะฝั ะธ ะตะต ะพััะฐ. ะญัะพ ะฑัะปะพ ะฟะพั
ะพะถะต ะฝะฐ ะพะดะธะฝ ะธะท ัะพะบััะพะฒ ะัะฒะธะดะฐ ะะพะฟะฟะตััะธะปัะดะฐ. ะัะธ ะฟะพัะฒะปะตะฝะธะธ ะงั
ะพะฝะธะธ ะธ ะััะฐะณะธ ะฒะพะทะดัั
ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ัะณัััะธะปัั, ะธ ะธะท ะฝะตะพัะบัะดะฐ ะฝะฐ ะณะปะฐะทะฐั
ั ะะฝะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปะธะทะพะฒะฐะปะฐัั ัะตะปะฐั ะพัะฐะฒะฐ ะตะต ะดััะทะตะน. ะัะฑะพัะบะธะน, ะะพะปะธะฝะฐ, ะดัะดั ะคะตะดะพั, ะะฐัะฐัะฐ! ะะพะณ ะผะพะน, ะฒัะต ะฒ ัะฑะพัะต! ะจะบะพะปัะฝะธะบะธ ะบะธะฝัะปะธัั ะดััะณ ะบ ะดััะณั ะฒ ะพะฑััััั, ะบะฐะบ ะฟะฐััะฐะถะธัั ยซะขะธัะฐะฝะธะบะฐยป, ััะดะพะผ ัะฟะฐััะธะตัั ะฟะพัะปะต ััะพะปะบะฝะพะฒะตะฝะธั ั ะฐะนัะฑะตัะณะพะผ. ะัะต ะฑัะปะธ ัะฐะดั ะฝะตะทะฐะฟะปะฐะฝะธัะพะฒะฐะฝะฝะพะน ะฒัััะตัะต, ะฝะพ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะผะพะณ ะฟะพะฝััั, ะฟะพัะตะผั ัะฐะฝััะต ะพะฝะธ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะธ ะดััะณ ะดััะณะฐ ะธ ััะพ ะฒะพะพะฑัะต ะฟัะพะธะทะพัะปะพ. ะะฝั ัะฒะตััะปะฐ, ััะพ ะฝะฐั
ะพะดะธััั ััั ัะถะต ะดะพะฒะพะปัะฝะพ ะดะฐะฒะฝะพ, ะฝะพ ะฒัะต ััะพ ะฒัะตะผั ะฑัะปะฐ ัะฒะตัะตะฝะฐ, ััะพ, ะบัะพะผะต ะฝะตะต ั ะพััะพะผ, ะทะดะตัั ะฝะธะบะพะณะพ ะฝะตั. ะ ััั, ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ััะธััั ัััั ะปะธ ะฝะต ะฒะตัั ะตะต ะบะปะฐัั. ะ ะตะฑััะฐ ะณะพัะพะฒั ะฑัะปะธ ะฟะพะฑะพะถะธัััั, ััะพ ะธ ะพะฝะธ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะธ ะฝะธ ะะฝั, ะฝะธ ะตะต ะฟะฐะฟะฐัั โ ะฒะธะฝะพะฒะฝะธะบะฐ ะฒัะตั
ะฝะฐะฒะฐะปะธะฒัะธั
ัั ะฝะฐ ะฝะธั
ะฑะตะด. ะ ะตะฑััะฐ ะฟััะฐะปะธัั ะฟะพะฝััั, ะบะพะณะดะฐ ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะท ะพัะบััะฒะฐะปะฐัั ะดะฒะตัั ะบะพะผะฝะฐัั, ะฝะพ ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝะฐั ะฟะฐะผััั ะฝะต ะฟะพะผะพะณะฐะปะฐ. ะะฐะบะพะฝะตั ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะธ ะธ ะฟัะพ ะฒะฝะพะฒั ะฟัะธะฑัะฒัะธั
. ะ ะฐะทะฑัะถะตะฝะฝัะต ะปะธัะตะดะตะธ ัะธะดะตะปะธ ะฝะฐ ัะตัะฒะตัะตะฝัะบะฐั
, ัะพะถะต ะฝะฐะฟััะณะฐะปะธ ะฟะฐะผััั, ัะฐัะฐัะธะปะธ ะธ ัะตัะปะธ ะณะปะฐะทะฐ. ะัะพ-ัะพ ัะทะฝะฐะป ะฒ ะะฒะฐะฝะต ะััะฐะณะธะฝะต ะผะฐะฝััะบะฐ ะััะฐะณั, ะดััะธะฒัะตะณะพ ะจะตัะณะธะฝั ะฝะฐ ัะตะนะบะพะฒะพะผ ะฒะธะดะตะพ. ะะพ ะดะฐะปััะต ััะพะณะพ ะดะตะปะพ ะฝะต ะฟะพัะปะพ. ะัะธัััััะฒะธะต ัััะฐะฝะฝะพะณะพ ะณััะทะธะฝะฐ ะฒะพะพะฑัะต ะฟะพะฒะตัะณะฐะปะพ ะฒ ัะพะบ, ะณัะฐะฝะธัะธะฒัะธะน ั ะณะฐะปะปััะธะฝะฐัะธะตะน. ะะดะฝะธะผ ัะปะพะฒะพะผ, ะฝะธะบัะพ ัะถะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐะป. ะะฐัะฐะปะฐัั ะฟะพะปะฝะฐั ะฝะตัะฐะทะฑะตัะธั
ะฐ. ะัะต ะณะฐะปะดะตะปะธ ะธ ัะฐะทะผะฐั
ะธะฒะฐะปะธ ััะบะฐะผะธ, ะฝะฐะฟะตัะตะฑะพะน ะฟัะตะดะปะฐะณะฐั ะธ ะฝะฐะฒัะทัะฒะฐั ัะฒะพะต ะฒะธะดะตะฝะธะต ัะปััะธะฒัะตะณะพัั. ะะพ ั ะบะฐะถะดะพะณะพ ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ะผะตะปัะบะฐะปะธ ัะปะธัะบะพะผ ัะถ ัะฐะทะฝัะต ะบะฐััะธะฝั ัะตะฐะปัะฝะพััะธ, ะธ ะดะพะณะพะฒะพัะธัััั ะฑัะปะพ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ. ะกะพัะปะธัั ะฝะฐ ัะพะผ, ััะพ ะทะดะตัั ะฝะต ะพะฑะพัะปะพัั ะฑะตะท ัะตัะฝะพะน ะผะฐะณะธะธ.
— ะะปะธ ะณะธะฟะฝะพะทะฐ… โ ะฐะฒัะพัะธัะตัะฝะพ ะฒััะฐะฒะธะป ัะฒะพะต ะฒะตัะบะพะต ัะปะพะฒะฐ ะพัะตั ะะฝะธ, ะธ, ะฟะพั
ะพะถะต, ะพะฝ ะทะฝะฐะป, ะพ ัะตะผ ะณะพะฒะพัะธะป. ะะฐะฒะตะป ะจะตัะณะธะฝ ัะธะดะตะป ะฒ ััะพัะพะฝะบะต, ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปะธะทะฐัะธั ัะพะปะฟั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ, ะบะฐะทะฐะปะพัั, ะฝะต ะฟัะพะธะทะฒะตะปะฐ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ัะพะฒะฝัะผ ััะตัะพะผ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะฒะฟะตัะฐัะปะตะฝะธั.
ะะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฟัะธะฝั ะะฐััะบะธะน ะฒัััะตัะธะปัั ะฒะทะณะปัะดะพะผ ั ะัะตะปะธะตะน. ะะฝั ะพัะพัะปะฐ, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ะพั ัะฒะพะธั
ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ ะธ ั ะฒะธะฝะพะฒะฐัะพะน ัะปัะฑะบะพะน ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะฐัั ะบ ะััะฐะณะต. ะะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะดะปั ัะตะฑั ัะฐะผะพะณะพ ะะฒะฐะฝ ะดะพะฑัะพะดััะฝะพ ัะปัะฑะฝัะปัั, ั
ะพัั ะฒะตัั ะฒะตัะตั ะฟัะพะบัััะธะฒะฐะป ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ััะตะฝั, ะบะฐะบ ะฟัะธ ะฒัััะตัะต ั ะบะพะฒะฐัะฝะพะน ะดะพัะตััั ะะพะปะพะฝะธั ะธัะฟะตะฟะตะปะธั ะตะต ัะฝะธััะพะถะฐััะธะผ ะฒะทะณะปัะดะพะผ. ะงั
ะพะฝะธั ะพะบะฐะทะฐะปัั ะทะปะพะฟะฐะผััะฝะตะต. ะะฝะพ ะธ ะฟะพะฝััะฝะพ โ ัะตะถะธััะตั. ะะฐะฒะธะด ะฟะพะดะฝัะปัั ะฝะฐ ะฝะพะณะธ, ั
ะฐัะฐะบัะตัะฝะพ ัััะบะฝัะป ะธ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธะฒะฝะพ ะพัะพัะตะป ะฒ ััะพัะพะฝั.
— ะั, ะบะฐะบ ะฟัะพัะปะพ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั, ะฒััะธัะฐั ะฟะปะฐัะบะพะผ ะฒัะต ะตัะต ะบัะพะฒะพัะพัะฐัะธะน ะฝะพั ะะฐะผะปะตัะฐ. โ ะััะณัะฐะปะธ?
— ะคะฐะฝัะฐััะธะบะฐ! โ ะพัะฒะตัะธะป ะััะฐะณะธะฝ, ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะธะบะฐั. โ ะะพะปะฝัะน ะทะฐะป! ะฅะปะพะฟะฐะปะธ ะผะธะฝัั ะดะตัััั, ะฝะต ะผะตะฝััะต! ะะต ะพัะฟััะบะฐะปะธ!
— ะขัะธััะฐะดั ะผัะฝัั! โ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะธะท ัะฒะพะตะณะพ ัะณะปะฐ ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั. โ ะขัะธััะฐะดั ะผัะฝัั ั
ะปะพะฟะฐะปะธ! ะะฐะบ ััะผะฐััะดัะธั, ัะปััะธะน! ะขั ะผะฝะพะณะพั ะฟะพัััะฐะปะฐ!
— ะะทะฒะธะฝะธัะต, ะผะฐะปััะธะบะธ, โ ะะฝั ะพะฟัััะธะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ. โ ะั ะถะต ะฒะธะดะธัะต, ั ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะฟัะธะนัะธ! ะัะต ััะพ ะฒัะตะผั ั ะฑัะปะฐ ะทะดะตัั…
— ะกะดััั?! ะงัะพ ะทะฝะฐัะธั ัะดััั?! โ ะทะฐะพัะฐะป ะฒะดััะณ ะงั
ะพะฝะธั, ะฒ ัะตัะดัะต ะบะพัะพัะพะณะพ ะฒัะฟัั
ะฝัะป ะธ ะทะฐะฟัะปะฐะป ะฟะพะถะฐั ะบะฐะฒะบะฐะทัะบะพะณะพ ัะฒะพะฑะพะดะพะปัะฑะธั. โ ะะดั ะผั?! ะะพััะผั ะฝะฐั ะดััะถะฐั ะฒ ะฝัะฒะพะปัััั! ะกะฒะพะฑะพะดัััั! ะขะธัะฐะฝัััั!
ะ ััะพั ะผะพะผะตะฝั ะะฐะฒะธะด ะงั
ะพะฝะธั ะฑัะป ะฟะพั
ะพะถ ะฝะฐ ะผะพะปะพะดะพะณะพ ะะฐัะธะฑะฐะปัะดะธ, ะฟะพะด ะฟัะปัะผะธ ะฒัั
ะพะดััะตะณะพ ะฝะฐ ะฑะฐััะธะบะฐะดั. ะัะพะผะบะธะน ะณะพะปะพั ัะพัะณะพะฒัะฐ ััั
ะพัััะบัะฐะผะธ ะฒะทะฒะธะปัั ะฟะพะด ะฟะพัะพะปะพะบ, ะณะปัั
ะพ ัะดะฐััััั ะพ ะผัะณะบะธะต ััะตะฝั. ะะพ ะฝะธะบัะพ ะธะท ะฝะฐั
ะพะดะธะฒัะธั
ัั ะฒ ะทะฐัะพัะตะฝะธะธ ะผะฐะปะพะปะตัะฝะธั
ัะทะฝะธะบะพะฒ ะตะณะพ ัะตะฒะพะปััะธะพะฝะฝะพะณะพ ะฟัะปะฐ ะฝะต ะฟะพะดะดะตัะถะฐะป. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ะฟัะพััะพ ะฝะต ััะฟะตะป. ะะพัะพะผั ััะพ ะฒ ัะปะตะดัััะตะต ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะดะฒะตัั ะฑะตัััะผะฝะพ ะพัะฒะพัะธะปะฐัั, ะธ ะฝะฐ ะฟะพัะพะณะต ะฟะพะบะฐะทะฐะปัั ะฑัะฐะฒัะน ะะตะฝะตัะฐะป. ะ ะปะฐะผะฟะฐัะฐั
ะธ ั ะผะตะดะฐะปัะผะธ, ะฒัะต ะบะฐะบ ะฟะพะปะพะถะตะฝะพ. ะะฐ ะตะณะพ ัะฟะธะฝะพะน ะฒะพะทะฒััะฐะปะธัั ะฒัะต ัะต ะถะต ะดะฒะต ัะธัะพะบะพะฟะปะตัะธะต ัะธะณััั ะฒ ััะฐััะบะพะผ.
— ะั, ััะพ, ะพัะปั, ัะฐัะบัะดะฐั
ัะฐะปะธัั? โ ะฟะพ-ะพัะตัะตัะบะธ ะฟะพะถััะธะป ะะตะฝะตัะฐะป, ัะปะฐะดะบะพ ัะปัะฑะฝัะปัั, ะธ ะฝะฐ ะณััะดะธ ะตะณะพ, ะธะทะดะฐะฒะฐั ััะผะพัะฝัะน ะทะฒะพะฝ, ััะตะฝัะบะฝัะปะธ ะพัะดะตะฝะฐ. โ ะะพัะฐ ะฝะฐ ะฒัั
ะพะด! ะฅะพะทัะธะฝ ะถะดะตั!
ะะปะฐะฒะฐ 18. ะะฐััั ะะพะฑัะปัะฒะฐ. ะะพะปะฝััะบะธ


ะงัะพ-ัะพ ะผะตัะฝัะปะพัั, ะณะปัั ะพ ัััะฐ, ะฒ ัะฐะผะพะน ะณะปัะฑะธะฝะต ะฟะพะดะฒะฐะปะฐ, ัะฐะผ, ะณะดะต ัะฐััะตะธะฒะฐะปัั ะดัะพะถะฐัะธะน ะปัั ัะพะฝะฐัั ะธ ะฒะพะปะฝะพะฒะฐะปะธัั ะดะปะธะฝะฝัะต ัะตะฝะธ.
— ะัะพ ะทะดะตัั? โ ะบัะธะบะฝัะป ะดะพะปะณะพะฒัะทัะน ะฟะฐัะตะฝั, ะฝะตัะปะพะฒะธะผะพ ะฟะพั ะพะถะธะน ะฝะฐ ะะฝะดัะตั ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะฝะพ ะฟะพะบัะฐัะธะฒะตะต ะธ ั ัะผะธะปะธัะตะปัะฝะพะน ัะผะพัะบะพะน ะฝะฐ ะฒะพะปะตะฒะพะผ ะฟะพะดะฑะพัะพะดะบะต.
ะััะถะพะบ ัะฒะตัะฐ ะฟััะณะฝัะป ะฒะฒะตัั , ะฝะฐ ััััะต ัััะฑั, ะธ ะฒ ะฝะตะผ ะทะฐัะธะฟะตะปะฐ ะฒัั ะฒะฐัะตะฝะฝะฐั ะธะท ัะตะผะฝะพัั ะบะพัะบะฐ.
— ะะธัะฐ! โ ะฒะทะดัะพะณะฝัะปะฐ ั ะพะปะตะฝะฐั ะดะตะฒะธัะฐ, ะพัะดะฐะปะตะฝะฝะพ ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐััะฐั ะะตะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒั, ัะพะปัะบะพ ะฟะพัััะพะนะฝะตะต. โ ะะฐะบ ะถะต ัั ะฝะฐั ะฝะฐะฟัะณะฐะปะฐ!
ะะปะฐะทะฐ ะบัะฐัะฐะฒัะฐ, ะฟะพ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝัะผ ะฟัะธัะธะฝะฐะผ ะฟะพั ะพะถะตะณะพ ะฝะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ัะฐััะธัะธะปะธัั. ะะฝ ัะฒะธะดะตะป ััะพ-ัะพ ะทะฐ ะฟะปะตัะพะผ ะฟัะธะถะฐะฒัะตะนัั ะบ ะฝะตะผั ะดะตะฒะธัั. ะงัะพ-ัะพ ะฒัะณะปัะดัะฒะฐะปะพ ะธะท-ะทะฐ ััะธะบะพะฒ, ะพัะตะฝะธะฒะฐะปะพ ะพะฑััะฐะฝะพะฒะบั ะธ ะฟัะธะผะตัะธะฒะฐะปะพัั, ะฐ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะตะบัะฝะด ัะฟัััั, ัะฟััะณะฝัะฒ โ ะธะปะธ ัะฒะฐะปะธะฒัะธัั? โ ะฝะฐ ะฟะพะป, ะฑััััะพ ะฟะพะบะฐัะธะปะพัั ะบ ะฝะธะผ.
— ะััะธ, ะฑะตะณะธ! โ ัะบะพะผะฐะฝะดะพะฒะฐะป ะบัะฐัะฐะฒะตั, ัะพะปะบะฐั ัะฒะพั ัะฟััะฝะธัั ะบ ะฒัั ะพะดั ะธะท ะฟะพะดะฒะฐะปะฐ. โ ะัััะตัะธะผัั ะฝะฐะฒะตัั ั! ะะตะณะธ ะธ ะฝะต ะพะณะปัะดัะฒะฐะนัั!
ะัะฐัะฐะฒะตั ะฟะตัะตั ะฒะฐัะธะป ัะพะฝะฐัะธะบ ะฟะพัะดะพะฑะฝะตะต ะธ ะฟัะธะฝัะป ะฑะพะตะฒัั ััะพะนะบั, ะณะพัะพะฒัะน ะดะฐัั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะธ ัะตัะธัะตะปัะฝัะน ะฑะพะน ัะพะผั, ััะพ, ะฒัะฟะฐััะฒะฐั ะดะพัะบะธ ะธ ะฒััะธะฑะฐั ะฟะฐั ะธะท ัััะฑ, ะฝะตัะปะพัั ะตะผั ะฝะฐะฒัััะตััโฆ
— ะั ะดะตะฑะธะปั, โ ัะตะทัะผะธัะพะฒะฐะป ััะพัะพะถ ะัะฑะตะฝะบะพ ะธ ะฝะฐะถะฐะป ะฟัะพะฑะตะป, ะทะฐััะพะฟะพัะธะฒ ะณะตัะพะธัะตัะบะพะณะพ ัะฝะพัั ะฒ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฝะตัะดะพะฑะฝะพะน ะฟะพะทะต. ะะพั ััััะตะป ัะตะตะน, ัะตะปัะบะพะผ ัะฐะทะดะฐะฒะธะป ะฟะพะปะทัััั ะฟะพ ะพะฟะพะปะพะฒะธะฝะตะฝะฝะพะน ะฑัััะปะบะต ะผะพะปั, ัะฐะทะผะฐะทะฐะป ะฟะพ ะฝะพะณัั ัะตัะตะฑัะธัััั ะฟัะปััั. ะะฐ ััะปะตะฒัะผ ะปะพัะบััะพะผ ะทะฐะฝะฐะฒะตัะบะธ ะฟัะพะฝะทะธัะตะปัะฝะพ ัะฒะตัะธะปะฐ ะปัะฝะฐ, ะธ ะฒ ะตะต ะฟัะพั ะปะฐะดะฝะพะผ ัะฒะตัะต ััะพัะพะถั ััะดะธะปัั ะฒััะพะบะธะน, ะฝะตะถะธะฒะพะน ะธ ะฝะตัะผะพะปัะฝัะน ะทะฒัะบ, ัะปะพะฒะฝะพ ะบัะพ-ัะพ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฒะตะป ัะบะฐะปัะฟะตะปะตะผ ะฟะพ ะดะฝั ัะผะฐะปะธัะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะปะพัะบะฐ ั ะธะฝััััะผะตะฝัะฐะผะธ. ะ ะฐะฝััะต ะัะฑะตะฝะบะพ ัะฐะฑะพัะฐะป ะฒ ะผะพัะณะต. ะ ะตัะต ัะฐะฝััะต, ะฒ ัะพะฒัะตะผ ะดะพะฟะพัะพะฟะฝัะต ะฒัะตะผะตะฝะฐ, ะบะพัะพััะต ะพัะทัะฒะฐะปะธัั ะฒ ะฟะฐะผััะธ ัะพะปัะบะพ ั ะพั ะพัะพะผ ะฝะฐ ะฟะตัะตะผะตะฝะฐั ะธ ัะฝะตะถะฝัะผ ัะบัะธะฟะพะผ ะผะตะปะฐ ะฟะพ ะดะพัะบะต, โ ะฟะพะปัะพัะฐ ะณะพะดะฐ ะพัััะธะปัั ะฒ ะผัะทัะบะฐะปัะฝะพะน ัะบะพะปะต. ะะฐัั ะทะฐััะฐะฒะธะปะฐ ะธ ะฝะต ะดะฐะฒะฐะปะฐ ะฑัะพัะธัั, ะฟะพะบะฐ ะถะธะฒะฐ ะฑัะปะฐ. ะะฐัั ะพัะทัะฒะฐะปะฐัั ะฒ ะฟะฐะผััะธ ัะฐััะธะผ ะผะพัะบะพะฒะฝัะผ ะฟะธัะพะณะพะผ. ะะฐะถะตััั, ัะพะปัะบะพ ะพะฝะฐ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะปะฐัั, ััะพ ััะฟะพะฒะฐััะน ะธ ัะผััะฝะพะน ะัะฑะตะฝะบะพ โ ัะธะฝะตััะตัะธะบ.
ะะพัะปะต ัะพะณะพ, ะบะฐะบ ัะตะฝะพะฒะฐัะธั ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะณะพ ะบะฒะฐััะฐะปะฐ โ ัะฐะบ ัะฝะพั ะดะพะผะพะฒ ะธ ะฟะพัะปะตะดัััะฐั ะณัะฐะฝะดะธะพะทะฝะฐั ัััะพะนะบะฐ ะฑัะปะธ ะพะฑะพะทะฝะฐัะตะฝั ะฒ ะพัะธัะธะฐะปัะฝัั ะดะพะบัะผะตะฝัะฐั , โ ะฟัะธะพััะฐะฝะพะฒะธะปะธ ะฟะพ ะพัะตัะตะดะฝะพะผั ะพะบัะธะบั ัะฒะตัั ั, ะฒัั ัะตั ะฝะธะบั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ัะฒะตะทะปะธ ััะดะฐ, ะฒ ัะถะต ะพะณะพัะพะถะตะฝะฝัะน ะดะปั ัะฐะฑะพั ะดะฒะพั ะดะพะผะฐ ะฝะพะผะตั ััะธ. ะะท-ะทะฐ ะบะฐะผะฝะตะตะดั ะตะณะพ ะพะฟะตัะฐัะธะฒะฝะพ ะฟัะธะทะฝะฐะปะธ ะฐะฒะฐัะธะนะฝัะผ ะธ ะฟะพััะธ ะฟะพะปะฝะพัััั ัะฐััะตะปะธะปะธ, ะพััะฐะปะธัั ัะพะปัะบะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ััะผะฐััะตะดัะธั ะฑะฐะฑะพะบ, ะบะพัะพััะผ ัะพ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะตะผัะน ััะฐะถ ะฑัะป ะฝะต ัะพั, ัะพ ะฒ ะะพะฒัะต ะงะตัะตะผััะบะธ ะฝะต ั ะพัะตะปะพัั. ะะพัะบะพะปัะบั ัะฐะนะพะฝ ะฑัะป ะฟัะธะปะธัะฝัะน, ะพั ัะฐะฝััั ัััะพะธัะตะปัะฝะพะต ะดะพะฑัะพ ะพัััะดะธะปะธ ะฟะพััะธ ะฝะต ะฟัััะตะณะพ ััะพัะพะถะฐ ะัะฑะตะฝะบะพ ัะปะฐะฒัะฝัะบะพะน ะฒะฝะตัะฝะพััะธ, ะฝะพ ะฑะฐะฑะบะธ ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะพััะฐะปะธัั ะฝะตะดะพะฒะพะปัะฝั. ะัะฑะตะฝะบะพ ะฟะพะดะพะทัะตะฒะฐะป, ััะพ ััะพ ะพะฝะธ ะฟะพ ะฝะพัะฐะผ ะฑัะพัะฐัั ะบะฐะผะตัะบะธ ะฒ ะพะบะฝะพ ะตะณะพ ะฑััะพะฒะบะธ ะธ ััััะฐั ะฒ ััะตะฝั, ะผะตัะฐั ัะฟะฐัั.
ะะฐ ะฑะพะปััะต ะธ ะฝะตะบะพะผั ะฑัะปะพ.
ะะฐ ะบัะธะฒะพะน ะฟะปะฐััะผะฐััะพะฒะพะน ะดะฒะตัะธ ะฑะธะพััะฐะปะตัะฐ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ัะปะพะผะฐะฝะฐ ะทะฐะดะฒะธะถะบะฐ. ะะฐะถะต ะฝะต ัะปะพะผะฐะฝะฐ โ ะตะต ะฟัะพััะพ ะฒััะฒะฐะปะธ, ะพััะฐะฒะธะฒ ะฒ ัะธะฝะตะผ ะฟะปะฐััะธะบะต ะทะฒะตะทะดะพะพะฑัะฐะทะฝัั ะดััั. ะกัะฐัััะบะธ-ัะฐะทะฑะพะนะฝะธัั, ะฑะตะทะทะปะพะฑะฝะพ ะฟะพะดัะผะฐะป ะัะฑะตะฝะบะพ ะธ ัะฟัััะธะป ััะฐะฝั, ั ะพัั ะฟัะธัะตะป ััะดะฐ ะปะธัั ะฟะพ ะผะฐะปะพะน ะฝัะถะดะต. ะกะผะพััะธัะต, ะดััั, ะปะธัะธะปะธ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะฟัะฐะฒะฐ ะฝะฐ ะทะฐะบะพะฝะฝะพะต ัะตะดะธะฝะตะฝะธะต โ ะปัะฑัะนัะตัั ัะตะฟะตัั.
ะะฒะตะฝะตะปะฐ ะฒ ัะตัะฝะพะผ ะผะพัะบะพะฒัะบะพะผ ะฝะตะฑะต ะปะตะดัะฝะฐั ะปัะฝะฐ, ะพััะฟะฐะปะธัั, ััััะฐ, ะฟะพะถะธัะฐะตะผัะต ะบะฐะผะตะฝะฝะพะน ะฟะปะตัะตะฝัั ััะตะฝั, ะฑะตะทะผััะตะถะฝะพ ะถัััะฐะป ะัะฑะตะฝะบะพ. ะ ััะพ-ัะพ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ัะผะพััะตะปะพ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ, ะณะพะปะพะทะฐะดะพะณะพ ะธ ะฝะธ ะพ ัะตะผ ะฝะต ะฟะพะดะพะทัะตะฒะฐััะตะณะพ, ัะฐะบ ัะดะพะฑะฝะพ ัะฟะฐะบะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะฒ ัะธะฝัั ะฟะปะฐััะผะฐััะพะฒัั ะบะพัะพะฑะบั. ะกะผะพััะตะปะพ, ะพัะตะฝะธะฒะฐะปะพ ะพะฑััะฐะฝะพะฒะบั ะธ ะฟัะธะผะตัะธะฒะฐะปะพัั.
ย ***
ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฟัะธะฒัะบะปะฐ ะฝะต ัะพะฑะตัั ะฟะตัะตะด ะพัะพะฑะตะฝะฝัะผะธ ะปัะดัะผะธ. ะัะพ ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฒะพะทะฝะธะบะฐะป ะฟะตัะตะด ะฝะตะน, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ััะพัะปะฐ ััะดะพะผ ั ะฟะฐะฟะพะน, ะฑะปะฐะณะพัั ะฐััะธะผ ะฟะฐัััะผะตัะฝะพะน ะฒะพะดะพะน Clive Christian ะธ ะบัะตะฟะบะธะผ ะฟะพัะพะผ, ะธ ะบะธะฒะฐะปะฐ ะฟะพะด ะดะพะฑัะพะดััะฝะพะต ัะพะบะพัะฐะฝะธะต: ยซะะฝะตัะบะฐ, ะดะพัั, ะดะพัะบะฐ ะผะพั, ะะฝััะฐโฆยป ะะฝะพะณะธั ัะฐะบะธั ะปัะดะตะน ะะฝั ัะฐััะพ ะฒะธะดะตะปะฐ ะฒ ะฝะพะฒะพัััั , ะฒ ะณัะปัะฒัะธั ะฟะพ ัะบะพะปัะฝัะผ ัะฐัะฐะผ ะฐะฝัะธะบะพัััะฟัะธะพะฝะฝัั ัะพะปะธะบะฐั , ะฒ ะบะปะธะฟะฐั ะธ ัะฐะทะพะฑะปะฐัะธัะตะปัะฝัั ะฒะธะดะตะพ ะธะท ัะตะปะตะณัะฐะผ-ะบะฐะฝะฐะปะพะฒ. ะะดะฝั ะบัะฐัะฐะฒะธัั-ะฟะตะฒะธัั ะดะฐะถะต ัะฑะธะปะธ, ะทะฐััะฝัะปะธ ะฒ ัะตะผะพะดะฐะฝ ะธ ััะพะฟะธะปะธ ะฒ ะกััะพะณะธะฝัะบะพะน ะฟะพะนะผะต, ะฟัะธัะตะผ ะฟัะพะฒะตัะฝัะป ะฒัั ัะพั ัะฐะผัะน ััััััะน ััะฐัะธัะพะบ ะธะท ัััะพะธัะตะปัะฝะพะณะพ ะดะตะฟะฐััะฐะผะตะฝัะฐ, ั ะบะพัะพััะผ ะะฝั ะฒ ะฟะตัะฒัะน ะธ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะท ะฒะธะดะตะปะฐ ะฟะตะฒะธัั ะถะธะฒะพะน.
ะะพ ััะดะพะผ ั ััะธะผ ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ ะฑัะปะพ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะต ะฟะพ ัะตะฑะต. ะกััะฐะฝะฝะพ ะฑัะปะพ ะพั ัะพะณะพ, ััะพ ะพะฝ ะฝะต ะฒ ัะตะปะตะฒะธะทะพัะต, ัะตะนัะฐั ะฝะต ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะฝะพัะธ, ะฟััะฝะตะฝัะบะฐั ะผะฐะผะฐ ะฝะต ะดะตัะถะธั ะฑะพะบะฐะป ะทะฐ ั ััััะฐะปัะฝัั ะฝะพะถะบั, ะฐ ะทะฐ ะฟะฐะฝะพัะฐะผะฝัะผ ะพะบะฝะพะผ ะฝะต ััะฟะปะตั ะฟััะธัััะน ะฝะตััััะบะธะน ัะฝะตะณ. ะัะฟะพะผะธะฝะฐะปะพัั ะธ ะตัะต ััะพ-ัะพ โ ะฒะพะดะฐ, ะทัะฑะบะธะต ัะธะณััั ะฒ ะฟะพะปัััะผะต, ัะบะปะธะทะบะพะต ะฒะตัะปะพโฆ ััะพ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฑัะป ัะพะฝ, ะพะฑัะฐะทั ััะบะพะปัะทะฐะปะธ ะฟัะธ ะผะฐะปะตะนัะตะน ะฟะพะฟััะบะต ะธั ะทะฐะดะตัะถะฐัั ะธ ะฒัั ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะทะฐะณะปััะฐะปะฐ ะฟะตัะฝั ยซะะพ ะผะพะน ะฟะปะพะพะพะพะพัโฆยป ะ ัะพะผ ัะฝะต ััะดะพะผ ะฑัะป ะฟะฐะฟะฐ.
— โฆะะปะธ ะฒะพั ะพัะตั ะฒะฐั, ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั, โ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ัะตะปะพะฒะตะบ, ะบะพัะพัะพะณะพ ะฟัะพะฒะพะดะธะฒัะธะน ะธั ััะดะฐ ะณะตะฝะตัะฐะป ะฟะพะดะพะฑะพัััะฐััะฝะพ ะฝะฐะทัะฒะฐะป ะฅะพะทัะธะฝะพะผ. โ ะ ะฝะตะผ ััะพ ัะบะฐะถะตัะต?
— ะะพะถะฝะพ ะผะฝะต ะบ ะฝะตะผั? โ ะฑััััะพ, ะณะปัะดั ะฒ ะฟะพะป, ะฟะพะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั. โ ะะพะถะฐะปัะนััะฐโฆ
ะัั ะฟัะพะธะทะพัะปะพ ัะฐะบ ะฑััััะพ, ััะพ ะพะฝะฐ ะดะฐะถะต ะฝะต ะฟะพะฝัะปะฐ, ะฒ ะบะฐะบะพะน ะธะผะตะฝะฝะพ ะผะพะผะตะฝั ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ััั, ะฝะฐะตะดะธะฝะต ั ะฅะพะทัะธะฝะพะผ. ะะฝะธ ะฒัะต ะฒะผะตััะต ัะปะธ ะฟะพ ะบะพัะธะดะพัั, ะฑะพะดัะธะปะธัั, ะฝะตัะฒะฝะพ ะฟะตัะตัะผะตะธะฒะฐะปะธัั; ะฒะฟะตัะตะดะธ, ัะพัะฝะพ ะฒะพะถะฐะบ ััะฐะดะฐ ะบะพะปะพะบะพะปััะธะบะพะผ, ัะผะธัะพัะฒะพััััะต ะฟะพะทะฒัะบะธะฒะฐะป ะพัะดะตะฝะฐะผะธ ะณะตะฝะตัะฐะป. ะ ะฒะดััะณ ะบัะพ-ัะพ ัั ะฒะฐัะธะป ะะฝั ะฟะพะด ะปะพะบัะธ, ะพััะบะพัะธะป ะพั ััะตะฝ ะฝะฐัะฐะปัััะฒะตะฝะฝัะน ะพะบัะธะบ, ะฒัะบัะธะบะฝัะปะฐ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝโฆ ะ ะดะฐะปััะต โ ัะธัััะธะน, ั ะพัั ะธ ัะตัะฝะพะฒะฐััะน ะบะฐะฑะธะฝะตั, ัะฝัะฐัะฝัะน ะฟะฐัะบะตั, ะฝะพะฒะพะณะพะดะฝะธะน ะปะธะบ ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ. ะ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝัะต, ะฟะพะดัะพะฑะฝัะต, ั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปััะบะพะน ะตั ะธะดัะตะน โ ะผะพะถะตั, ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั ะฒัะต-ัะฐะบะธ, ะฐ ะผะพะถะตั, ะฟัะพัะดะตัะพัะผะฐัะธั ั ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ััะฟะพะบะฐะธะฒะฐะปะฐ ัะตะฑั ะะฝั, โ ะธ ัะพ ัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปััะบะธะผ ะถะต ัะฟะพัััะฒะพะผ ะทะฐะดะฐะฒะฐะตะผัะต ะฒะพะฟัะพัั. ะัะต ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะฟัะพ ะะฝะธะฝัั ะดััะทะตะน โ ะฟัะพ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ, ะฟัะพ ะะพัะพั ะพะฒะฐ, ะฟัะพ ะะตะนะฝะตะฝ, ะฟัะพ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะฟัะพ ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝะตะฒะฐ. ะ ัะฐะผัะต ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝัะต ะดะตัะฐะปะธ ะฒะดััะณ ะฒัะทัะฒะฐะปะธ ั ะฅะพะทัะธะฝะฐ ะฝะตะฟะพะดะดะตะปัะฝัะน ะธะฝัะตัะตั, ะฒัะพะดะต ัะพะน, ััะพ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะดะพ ะฝะตะดะฐะฒะฝะตะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปัั ะดะพะฟะพัะพะฟะฝัะผ ะฑะฐะฑััะบะพัะพะฝะพะผ.
— ะฅะผ, ััะพ ัะฐะบะพะน ั ะบะฝะพะฟะบะฐะผะธ? โ ะพะถะธะฒะธะปัั ะฅะพะทัะธะฝ, ะฑััััะพ ะทะฐะฟะธััะฒะฐั ััะพ-ัะพ ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพั. โ ะจะบะพะปัะฝะธะบ ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธ ะปะตั, ัะตะฝัั ะะพัะบะฒั, ะฟัะตััะธะถะฝะฐั ัะบะพะปะฐ, ะฐะบัะธะฒะฝะฐั ัะพัะธะฐะปัะฝะฐั ะถะธะทะฝั โ ะธ ัะตะปะตัะพะฝ ั ะบะฝะพะฟะบะฐะผะธ? ะ ัะฐะฟะบะธ ัะฐะบะพะน ะผะตั ะพะฒะพะน, ะบััะณะปะพะน, ั ะฝะตะณะพ ะฝะตั? ะจะฐัั, ะผะพะถะตั, ะผะพั ะตัะพะฒัะน? ะะตั? ะฅะผ. ะะฝ ัะปััะฐะนะฝะพ ะฝะต ะปัะฑะธั ะธะฝะพะณะดะฐ ะฟะพะถะตะฒะฐัั ะณัะดัะพะฝ? ะงัะพ? ะงัะพ ัะฐะบะพะต ะณัะดัะพะฝ? ะะต ะทะฝะฐะตัะต? ะญัะพ ั ะพัะพัะพ. ะ ะพะฝ ะทะฝะฐะตั? ะฅะผ. ะ ะบะฐัะฑะธะด? ะะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะป ะฑัะพัะธัั ะฒ ัะบะพะปัะฝัะน ััะฐะปะตั ะบะฐัะฑะธะด?
ะ ัะฐะบ ะดะพ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพััะธ, ะฟัะพ ะบะฐะถะดะพะณะพ. ะะฝั ัะพ ะฑะปะตะดะฝะตะปะฐ, ัะพ ะฟะปะฐะผะตะฝะตะปะฐ ััะฐะผะธ, ัะถะฐัะฐััั โ ะฝั ััะพ, ััะพ ะถะต ะฒั ัะฐะบะพะต ะฝะฐัะฒะพัะธะปะธ, ััะพ ะฒั ะทะฐะดัะผะฐะปะธ, ะฒ ัะตะผ ะฒะฐั ะพะฑะฒะธะฝะธัั ั ะพััั, ะฟะพะดะฟะพะปัะต ั ะฒะฐั ะบะฐะบะพะต-ัะพ, ััะพ ะปะธ, ัะฐะนะฝะพะต ะพะฑัะตััะฒะพ, ะดะตะบะฐะฑัะธััั ั ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ, ัะตะฒะพะปััะธะพะฝะตัั, ะฟะฐั ะฝััะธะต ะผะฐะผะธะฝัะผะธ ะบะพัะปะตัะบะฐะผะธ, ะณะปัะฟะตะฝัะบะธะต, ะฝั ะฟะพัะตะผั ะถะต ะฒั ะผะฝะต ะฝะต ัะบะฐะทะฐะปะธ, ะฝะต ะดะพะฒะตััะปะธ, ะดะฐ? ะ ัะฟัััั ะผะธะฝััั ัะฐะผะฐ ะถะต ะผะปะตะปะฐ ะพั ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ะพััะฐัะฝะฝะพะณะพ ะณะตัะพะธะทะผะฐ โ ะฝะธัะตะณะพ ะตะผั ะฝะต ัะบะฐะถั, ะฝะธะบะพะณะพ ะฝะต ัะดะฐะผ, ะฝะธะบะพะณะดะฐ. ะกะผะพััะตะปะธัั ะฐ ะฝะฐ ะฅะพะทัะธะฝะฐ ัะตัะธัะตะปัะฝะพ ะธ ัััะฐะดะฐะปััะตัะบะธ, ะฝะฐะฟัะพัั ะทะฐะฑัะฒ ะพ ัะพะผ, ััะพ ัะดะฐะฒะฐัั ะฝะตะบะพะณะพ ะธ ะฝะธัะตะณะพัะตะฝัะบะธ ะพะฝะฐ ะฝะต ะทะฝะฐะตั.
ะะพ ะบะพะณะดะฐ ะฅะพะทัะธะฝ ัะฟะพะผัะฝัะป ะพััะฐ, ะฝะพะณะธ ั ะะฝะธ ััะฐะปะธ ะฒะฐัะฝัะผะธ. ะะฝะฐ ะปะตะฟะตัะฐะปะฐ ััะพ-ัะพ, ะฝะฐะดะตััั ัะบัััั ะทะฐะผะตัะฐัะตะปัััะฒะพ. ะะฝะฐ ะพัะตะฝั ะปัะฑะธั ะฟะฐะฟั, ะฟะฐะฟะฐ ะผะฝะพะณะพ ัะฐะฑะพัะฐะตั, ะฒะธะดัััั ะพะฝะธ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะตัะฐััะพ, ะฝะพ ะฟะฐะฟะฐ ั ะพัะพัะธะน, ะฒัั ะตะน ะฟะพะบัะฟะฐะตั, ั ะฝะตะต ะฒัั ะตัััโฆ ะะฐ, ะธะท-ะทะฐ ััะพะณะพ ัััะพะธัะตะปัััะฒะฐ ั ะฝะตะต ะฑัะปะธ ะฟัะพะฑะปะตะผั ั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผะธ ะธ ั ัะฐะผะธะผ ะฟะฐะฟะพะน ัะพะถะต, ััะพ ะฒะพะพะฑัะต ะพัะตะฝั ัะปะพะถะฝะฐั ะธััะพัะธัโฆ ะะพ ะฟะฐะฟะฐ ั ะพัะตั ัะดะตะปะฐัั ะะพัะบะฒั ะปัััะต, ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะตะต, ะฒะตะดั ะณะพัะพะด ะผะตะฝัะตััั, ะฐ ะะฐะปะฐัะตะฒะบะฐ ััะฐัะฐั, ะธ ะพะดะธะฝ ัะฐะท ั ะฝะธั ะฒ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ ะดะฐะถะต ะบััะพะบ ัััะบะฐัััะบะธ ัะฟะฐะป ั ะฟะพัะพะปะบะฐ ะฟััะธะบะปะฐััะฝะธะบั ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒั.
— ะ ะฟะพะปะธัะธัะตัะบะธะต ะฒะทะณะปัะดั ะฒะฐัะตะณะพ ะพััะฐ ะฒะฐะผ ะธะทะฒะตััะฝั?
ะกะตัะดัะต ัะพััะปัะบะพะน ัั ะฝัะปะพ ะฒะฝะธะท. ะะฝั ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะฟะฐัะบะตั.
— ะะพะฒะพัะธัะต. ะะฝ ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ััะธะป ะฒะฐั ะณะพะฒะพัะธัั ัะพะปัะบะพ ะฟัะฐะฒะดั.
ะะฝั ะบะธะฒะฝัะปะฐ.
— ะ ะตัะต ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะพะฝ ัะตะณัะปััะฝะพ ะพะฑััะถะดะฐะป ั ะฒะฐะผะธ ัะฒะพะธ ะฟะพะปะธัะธัะตัะบะธะต ะฟัะตะดะฟะพััะตะฝะธั.
ะะฐะถะตััั, ั ัะฝะพะฒะฐ ะบะธะฒะฝัะปะฐ, ะทะฐะฟะฐะฝะธะบะพะฒะฐะปะฐ ะะฝั. ะะตั, ะฝะตั, ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั. ะะตั, ะบะธะฒะฝัะปะฐ, ะฟะพ ะธะฝะตััะธะธ.
— ะะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพะดััะพะถะธะผ: ั ะฝะฐั ะธะผะตะตััั ะฑะพะณะฐัะตะนัะธะน ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั, ะปัะฑััะธะน ะพัะตั ั ะฟัะพะณัะตััะธะฒะฝัะผะธ ะฒะทะณะปัะดะฐะผะธ, ะบะพัะพััะต ะพะฝ ัะตะณัะปััะฝะพ ะพะฑััะถะดะฐะตั ั ะผะฐะปะพะปะตัะฝะตะน ะดะพัะตัััโฆ
— ะกะตะนัะฐั ัะถะต ะฝะตั, โ ะฒัะฟะฐะปะธะปะฐ ะะฝั ะธ ัะฐะผะฐ ัะตะฑะต ะทะฐะถะฐะปะฐ ัะพั.
— ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะกะตะนัะฐั ะฑะตะทะพะฟะฐัะฝะตะต ัะฐะบ. ะะฐ ะธ ะบะฐะบ ะฒั ะฟะพะนะดะตัะต ะฟัะพัะธะฒ ะพััะฐ-ะปะธะฑะตัะฐะปะฐ, ะบัะพ ะถะต ะฑัะดะตั ะพะปะธัะตัะฒะพัััั ะทะฐัั ะปะพะต ะฟัะพัะปะพะต ะดะปั ะฒะฐัะตะณะพ ะฟะพะดัะพััะบะพะฒะพะณะพ ะฑัะฝัะฐ? ะะพ ะพะฝ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตั ะพะฟะปะฐัะธะฒะฐัั ะฒัะต ะฒะฐัะธ ะฟัะธั ะพัะธ. ะ ะฝะต ะทะฐะดะฐะตั ะปะธัะฝะธั ะฒะพะฟัะพัะพะฒ โ ะฒะตะดั ะพะฝ ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ะทะฐะฝัั. ะะฝ ัััะพะธั ะฝะฐัั ะฟะพั ะพัะพัะตะฒััั ััะพะปะธัั. ะฅะผ. ะงัะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ะพะฝ, ะบััะฐัะธ, ัะถะต ะฟะพัััะพะธะป?
ะะฝั ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ะฒัะฟะพะผะฝะธัั ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธั ัะปะธัะฝัั ะบะพะผะฟะปะตะบัะพะฒ, ะณะพััะธะฝะธั, ะฝะพ ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ะฑัะปะฐ ะทะฒะพะฝะบะฐั ะฟัััะพัะฐ.
— ะะฝ ะฟัะพััะพ ัััะพะธั, ะฒ ะผะตัะฐัะธะทะธัะตัะบะพะผ ัะผััะปะต. ะะฝ ัะฐัั ะธ ะดะตะผะธััะณ. ะะฝ ะฒัะต ะฒะฐะผ ะฟะพะทะฒะพะปัะตั. ะฅะผ. ะะฝ ะทะฐะฒะฐัะธะป ะฒัั ััั ะบะฐัั ัะพ ัะฝะพัะพะผ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะณะพ ะบะฒะฐััะฐะปะฐ ะธะผะตะฝะฝะพ ะฒ ัะพั ะผะพะผะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะฒะฐั ะทะฐััะฝัะปะฐ ัะบะพะปัะฝะฐั ัััะธะฝะฐ. ะะพัะฒะธะปะธัั ะฟะตัะฒัะต ะฟัะธะทะฝะฐะบะธ ะดะตะฟัะตััะธะธ, ะฒะฐะผ ัะฐะบ ั ะพัะตะปะพัั ัะพะฑััะธะน, ะพะฟะฐัะฝะพััะตะน, ะบััะฐะถะฐโฆ ะะฐะดัะผะฐะนัะตัั, ะะฝะตัะบะฐ. ะะฝะตัะบะฐ?
ะะฝั ะฟะพะดะฝัะปะฐ ะณะพะปะพะฒั. ะะพ ัะตะบะฐะผ ะฑะตะถะฐะปะธ ะฑัััััะต ั ะพะปะพะดะฝัะต ัะปะตะทั.
— ะะฐะดัะผะฐะนัะตัั: ะฐ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะปะธ ะดะตะปะต ััะพ ะฒะฐั ะพัะตั? โ ัะพัะถะตััะฒะตะฝะฝะพ ะทะฐะบะพะฝัะธะป ะฅะพะทัะธะฝ ะธ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ะฑะฐะฑััะบะพัะพะฝ โ ะฒ ัะพัะฝะพััะธ ัะฐะบะพะน ะถะต, ะบะฐะบ ั ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ. โ ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั? ะะฐ, ะณะพัะพะฒั. ะะพะดะฐัั ััะดะฐ ัััะฟ.
ย ***
ะกัะพัะพะถ ะัะฑะตะฝะบะพ ะฝะต ะผะพะณ ะฟะพัะตะฒะตะปะธัััั. ะงัะพ-ัะพ ะตัะต ะฟะพะดะฐัะปะธะฒะพะต, ะฝะพ ะพัััะธะผะพ ัะฒะตัะดะตััะตะต ะพะฑั ะฒะฐัะธะปะพ ะฒัั ะตะณะพ ัะตะปะพ. ะัะปะธ ะฝะตัะดะพะฑะฝะพ ัะพะณะฝัััะต ะบะพะฝะตัะฝะพััะธ โ ะัะฑะตะฝะบะพ ะฑัะป ะฟะพะดะฒะตัะตะฝ ะฒ ััะถะตะปะพะน ะฟะปะพัะฝะพะน ะผะฐััะต ะฒ ะฟะพะทะต ัะผะฑัะธะพะฝะฐ. ะะพะบัะฐั ะฟะปะตะฝะบะฐ ะพะฑะปะตะฟะธะปะฐ ะปะธัะพ, ะพะฝะฐ ะฟะฐั ะปะฐ ัะตะฟะปัะผ ะผััะฝัะผ ะบะปะตะนััะตัะพะผ โ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะัะฑะตะฝะบะพ ะฝะฐััะธะป ัะฒะพะตะณะพ ะผะตะปะบะพะณะพ ะฒะฐัะธัั ัะฐะบะพะน ะบะปะตะนััะตั, ะฑัะฒัะฐั ะฟะพัะพะผ ะพัะฐะปะฐ, ััะพ ะพะฝ ะทะฐะบะปะตะธะป ะฒ ะดะพะผะต ะฒัั, ะฐ ะฝะตะดะพัะพะฑะฐะบะต ะฟะพัะพะดั ัะธั ัะฐั ัะฐ ะฟััะฐะปัั ะฒะปะธัั ะบะปะตะนััะตั ะฟะพะด ั ะฒะพัั, ััะพะฑั ะฑะพะปััะต ะฝะต ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะฒัะณัะปะธะฒะฐัั.
ะัะฑะตะฝะบะพ ะทะฐะผััะฐะป ะฒ ะฟัะธัััะฟะต ะฟะพะปััะพะทะฝะฐัะตะปัะฝะพะณะพ ัะผะตั ะฐ. ะะปะตะฝะบะฐ ะพัะบะปะตะธะปะฐัั ะพั ะปะธัะฐ ะธ ะฟะพะฒะธัะปะฐ ะฝะฐ ะฟะพะดะฑะพัะพะดะบะต ััะถะตะปัะผ ะปะพัะบััะพะผ.
— ะะธะฝะฐ! โ ัะบะฐะทะฐะป ะดัะตะฑะตะทะถะฐัะธะน ะณะพะปะพั. โ ะะธะฝะฐ, ะฝั ะบัะพ ัะฐะบ ะบะปะตะธั?
ะ ะฐะทะปะตะฟะธะฒ ะฝะฐะบะพะฝะตั ะทะฐะปะธััะต ะบะปะตะนััะตัะพะผ ะฒะตะบะธ, ะัะฑะตะฝะบะพ ัะฒะธะดะตะป ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน ะพะดะฝั ะธะท ัะตั ัะตััะพะฒัั ะฑะฐะฑะพะบ, ะบะพัะพััะต ะพัะบะฐะทัะฒะฐะปะธัั ะฟะพะบะธะดะฐัั ัะฒะพะธ ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะดะพะผะต ะฝะพะผะตั ััะธ. ะะฐะฑะบะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ัะฐะบ, ะบะฐะบ ะพะฑััะฝะพ ัะผะพัััั ะฝะฐ ะบัะพะฒะฐะฒะพะต ะฟััะฝะพ ะพั ะฝะตัะดะฐัะฝะพ ัะฐะทะดะฐะฒะปะตะฝะฝะพะณะพ ะบะพะผะฐัะฐ.
— ะะธะฝะฐ, ะฝั ะดะพ ัะตะณะพ ัั ะฝะตะฐะบะบััะฐัะฝะฐั! ะ ัะพั ั ัะตะฑั ัะพััะธั, ะธ ััะพั ะพัะบะปะตะธะปัั!
ะะทะณะปัะฝัะฒ ััะดะฐ, ะบัะดะฐ ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะฒะพััะปะธะฒะฐั ะฑะฐะฑะบะฐ, ะัะฑะตะฝะบะพ ะพะฑะผะตั โ ะธะท ััะตะฝั ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ ัะพััะฐะปะธ ัะปะฐะฑะพ ัะตะฒะตะปััะธะตัั ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะธะต ะบะธััะธ, ะฐ ะฟะพะฒััะต ะบะธััะตะน ะธะท ะฟะพะปะพัะฐััั ะฑัะผะฐะถะฝัั ะพะฑะพะตะฒ ัะผะพััะตะปะพ ะฒะฟะพะปะพะฑะพัะพัะฐ ะปะธัะพ. ะะฒะฐะปะธะฒัะธะนัั ะฒะพัะฟะฐะปะตะฝะฝัะน ะณะปะฐะท ะฑะตัะตะฝะพ ะบะพัะธะปัั ะฝะฐ ะัะฑะตะฝะบะพ, ะดะตัะณะฐะปัั ัะฒะพะฑะพะดะฝัะน ะบัะฐะน ะณัะฑ.
ะัะฑะตะฝะบะพ ะพััะฐัะฝะฝะพ ะทะฐะฑะธะปัั, ะฝะพ ะดะฒะธะถะตะฝะธั ะตะณะพ ะฑัะปะธ ัะบะพัะตะต ะฒะพะพะฑัะฐะถะฐะตะผัะผะธ.
— ะขะธั ะพ, ะผะธะปะตะฝัะบะธะน, ัะธั ะพ, โ ัะผัะณัะธะปะฐัั ะฑะฐะฑะบะฐ ะธ ะฝะฐะบะปะตะธะปะฐ ะบััะพะบ ะฟะพะปะพัะฐััั ะพะฑะพะตะฒ ะพะฑัะฐัะฝะพ ััะพัะพะถั ะฝะฐ ะปะธัะพ. โ ะะธะบัะพ ะตัะต ะฝะต ัั ะพะดะธะป, ะธ ัั ะฝะต ัะนะดะตัั.
— ะะพัะพะฒั, ะะธะฝะฐ ะะฐะปะฝะฐ? โ ัะฟัะพัะธะป ะดััะณะพะน ะณะพะปะพั, ัะพะถะต ััะฐัััะตัะธะน, ะฝะพ ะฑะพะปะตะต ะผัะณะบะธะน, ะณััะดะฝะพะน.
— ะะพัะพะฒั. ะญัะพั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน.
— ะ ัะพัะฝะพ ะณะพะดะธััั? ะก ัะตะผ-ัะพ, ะดะฒะพัะฝะธะบะพะผ, ะฟะพะผะฝะธัะต, ััะพ ะฒััะปะพ?
ะะฒะพัะฝะธะบ, ัะผะธัะตะฝะฝัะน ะณะฐััะฐัะฑะฐะนัะตั ะฒ ัะฐะฟะพัะบะต ะธ ั ะฝะตะฟัะพะธะทะฝะพัะธะผัะผ ะธะผะตะฝะตะผ, ะฟัะพะฟะฐะป ะฝะตะดะตะปั ะฝะฐะทะฐะด. ะัะฑะตะฝะบะพ ะธัะบะฐะป ะตะณะพ, ััะพะฑั ะฟะพะดะผะตะป ะฒะพะบััะณ ะฑััะพะฒะบะธ, ะฐ ััะฐััั ะธ ัะบะฐะทะฐะปะธ, ััะพ ะพะฝ ััั ะฑะพะปััะต ะฝะต ัะฐะฑะพัะฐะตั. ะัะฑะตะฝะบะพ ะพะฟััั ะทะฐะผััะฐะป, ะฝะฐะฑัะฐัั ะฒ ะณััะดั ะฒะพะทะดัั ะฐ ะดะปั ะฟะพะปะฝะพัะตะฝะฝะพะณะพ ะฒะพะฟะปั ะฝะต ะฟะพะปััะฐะปะพัั.
— ะะต ะณะพะดะธััั, ะะธะฝะพัะบะฐ, ััะพะฑั ะพะฑะพะธ ะพัะฒะฐะปะธะฒะฐะปะธัั. ะ ััะพั ะณะพะดะธััั. ะะฝะตัะฝะพััั ัะปะฐะฒัะฝัะบะฐั, ะฟะพ ะผะฐัะตัะธะฝะพะน ะปะธะฝะธะธ ะผะพัะบะฒะธั ะฒ ััะตััะตะผ ะบะพะปะตะฝะต, ัะตัะฝัั ะบัะพะฒะตะน ะฝะตั. ะฅะพัะพัะธะน ะฟะฐัะตะฝั, ะฟะธัะฐัะตะปัะฝัะน.
ะฅะปะพะฟะฝัะปะฐ ะดะฒะตัั, ะทะฐัะฐัะบะฐะปะธ ะฝะพะณะธ โ ะพะดะฝะฐ ะฟะฐัะฐ, ะดะฒะต. ะะตะฒะธะดะธะผะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะฒะพะบััะณ ะัะฑะตะฝะบะพ ะฝะฐะฟะพะปะฝะธะปะฐัั ะณะพะปะพัะฐะผะธ.
— ะะปะฐะฒะดะธั ะกะตะผะตะฝะพะฒะฝะฐโฆ ะัะพัะบะฐ, ะฒะพั ัะฐะบ ัััะฟัะธะท!.. ะะฐะปะตะฝัะธะฝะฐ, ะฒั ะฟัะธะฝะตัะปะธ ัะฒะตัะธ?
ะะฐะบะพะฝะตั ััะฐะปะพ ัะธั ะพ, ะทะฐะฟะฐั ะปะพ ะพัะบััััะผ ะพะณะฝะตะผ โ ะตัะต ัะปะฐะฑัะผ ะธ ะฑะตะทะพะฟะฐัะฝัะผ, ั ะฟัะธะฒะบััะพะผ ะฟัะฐะทะดะฝะธัะฝะพะณะพ ัะพััะฐ. ะัะฑะตะฝะบะพ ะฒัะฟะพะผะฝะธะป ะพะฑ ะพััะฐะฒัะตะนัั ัะฐะผ, ะฒ ะตะณะพ ะดะฐะปะตะบะพะผ ะธ ัััะฝะพะผ ะดะฒะพัะพะฒะพะผ ะณะฝะตะทะดะต, ะพะฟะพะปะพะฒะธะฝะตะฝะฝะพะน ะฑัััะปะบะต, ะธ ะฑะตััะธะปัะฝะฐั ััะพััั ะฒัะฟัั ะฝัะปะฐ ะฒ ััะธัะฝััะพะน ะณััะดะธ. ะงัะพ-ัะพ ะฒ ัะพะปัะต ะธะทัะตะดะตะฝะฝะพะน ะฟะปะตัะตะฝัั ััะตะฝั ะฟะพะดะดะฐะปะพัั, ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะฝะฐ ะผะธะปะปะธะผะตัั, ะธ ะัะฑะตะฝะบะพ, ัะพ ัะฒะธััะพะผ ะฒััะฝัะฒ ะฒะพะทะดัั , ะทะฐะบัะธัะฐะป ะดะพะปะณะพ ะธ ะผะฐัะตัะฝะพ.
— ะะพัััะฐะฝั, ะฒะตะปะธะบะธะน, โ ะพัะฒะตัะธะป ะตะผั ั ะพั ััะฐัััะตััะธั ะณะพะปะพัะพะฒ. โ ะะพัััะฐะฝั, ะดัะตะฒะฝะธะน. ะะพัััะฐะฝั, ะผะฝะพะณะพะณะปะฐะทัะน ัะปะตะน, ะฒะผะตััะธะปะธัะต ะถะธะทะฝะธ. ะะพัััะฐะฝั, ะฒะตะปะธะบะธะนโฆ
ย ***
ะะฒะตัั ะพัะฒะพัะธะปะฐัั, ะธ ะปัะดะธ ั ะฝะตะฟัะธะผะตัะฝัะผะธ ะปะธัะฐะผะธ ะฒะฒะตะทะปะธ ะฒ ะบะฐะฑะธะฝะตั ะฑะพะปัะฝะธัะฝัั ะบะฐัะฐะปะบั, ะฝะฐะบััััั ัะพะทะพะฒัะผ ะดะตััะฐะดะพะฒัะบะธะผ ะพะดะตัะปะพะผ. ะะพะด ะพะดะตัะปะพะผ ัะณะฐะดัะฒะฐะปะธัั ะฟัะพะดะพะปะณะพะฒะฐััะต ะบะพะฝัััั. ะฅะพะทัะธะฝ ะบะธะฒะฝัะป ะฝะตะฟัะธะผะตัะฝัะผ, ะบะพัะพััะต ััั ะถะต ะฒััะบะพะปัะทะฝัะปะธ ะพะฑัะฐัะฝะพ ะฒ ะบะพัะธะดะพั, ะธ ะฟะพะดะฝัะป ะพะดะตัะปะพ.
ะะฝั ะฒะทะฒะธะทะณะฝัะปะฐ, ัะฒะธะดะตะฒ ะฝะฐ ัะบะพะปัะทะบะพะผ ะดะตัะผะฐัะธะฝะต ะฑะปะตะดะฝะพะณะพ ะธ ัะฟะพะบะพะนะฝะพะณะพ, ัะฐะทะดะตัะพะณะพ ะดะพ ััะณะธั ยซะฑะพะบัะตัะพะฒยป ะะฒะฐะฝะฐ ะััะฐะณะธะฝะฐ, ะทะฒะตะทะดั ะผะพะปะพะดะตะถะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ ยซะะตัะฟะตัะฝะฐั ัะปะธัะฐยป, ะบะพัะพัะพะผั ะะฐะฒะธะด ะงั ะพะฝะธั ะฒ ัะตะถะธััะตััะบะพะผ ัะบััะฐะทะต ะฟัะพัะพัะธะป ะผะตััะพ ะฒ ะะพะปััะพะผ, ั ะพัั ะฝะธ ะฟะตัั, ะฝะธ ัะฐะฝัะตะฒะฐัั ะฑะตะดะฝัะน ะะฐะผะปะตั ะฝะต ัะผะตะป. ะฅะพะทัะธะฝ ะฒะทัะป ะััะฐะณะธะฝะฐ ะทะฐ ะฟะพะดะฑะพัะพะดะพะบ, ะฟะพะฒะตัะฝัะป ะณะพะปะพะฒั ะฒ ะพะดะฝั ััะพัะพะฝั, ะฟะพัะพะผ ะฒ ะดััะณัั โ ัััะฟ, ะบะฐะบ ะฒะธะดะฝะพ, ะฑัะป ัะพะฒัะตะผ ัะฒะตะถะธะผ โ ะธ ัะฒะพะฑะพะดะฝะพะน ััะบะพะน ะฟะพะผะฐะฝะธะป ะบ ัะตะฑะต ะะฝั:
— ะะพะดะพะนะดะธัะต ะฑะปะธะถะต, ะฝะต ะฑะพะนัะตัั. ะงัะพ ะถะต ะฒั ัะฐะบ ะฟะพะทะตะปะตะฝะตะปะธ? ะ ัะผะตััะธ ะฝะฐะดะพ ะฟัะธััะฐัั ัะตะฑั ั ะดะตัััะฒะฐ, ะฒัะต ะผะตััะฒัะผะธ ะฑัะดะตะผ.
ะะฑะปะธะทะธ ะััะฐะณะธะฝ ะบะฐะทะฐะปัั ะตัะต ะฑะพะปะตะต ะฑะปะตะดะฝัะผ, ะฟะพััะธ ะฟัะพะทัะฐัะฝัะผ. ะะตัะตัะธะปะธะฒะฐั ัะถะฐั, ะะฝั ะฟัะธะณะปัะดะตะปะฐัั ะธ ะฟะพะฝัะปะฐ, ััะพ, ะฒ ะพะฑัะตะผ-ัะพ, ะธ ะฝะต ะบะฐะทะฐะปัั โ ะตะณะพ ััะธ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฑัะปะธ ะฟะพะปัะฟัะพะทัะฐัะฝัะผะธ, ัะปะพะฒะฝะพ ะผะตะดัะทั, ะฐ ัะบะฒะพะทั ะฟะฐะปััั ะฟัะพัััะฟะฐะป ัะตัะพั ะพะฒะฐััะน ะดะตัะผะฐัะธะฝ ะบะฐัะฐะปะบะธ. ะะฝั ะฒะพะฟัะพัะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะฅะพะทัะธะฝะฐ ะธ ัะฒะธะดะตะปะฐ ะฝะฐ ะตะณะพ ะฝะพะฒะพะณะพะดะฝะตะผ ะปะธะบะต ัะปัะฑะบั.
— ะขะตั ะฝะธัะตัะบะธ ะพะฝ ะดะฐะถะต ะฝะต ะผะตััะฒัะน, ะะฝะตัะบะฐ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะตะณะพ ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฑัะปะพ. ะญัะพ ะฒะพะปะฝััะบะฐ. ะกะฟะตัะธะฐะปะธััั ะฝะฐัะธ ะธั ัะฐะบ ะฟัะพะทะฒะฐะปะธ. ะ ะดะฐะฝะฝัะน ะผะพะผะตะฝั โ ะฒะพะปะฝััะบะฐ ะฒ ััะฐะดะธะธ ะฟะพะปััะฐัะฟะฐะดะฐ, ะพะฝะธ ะฝะต ััะฐะทั ะธััะตะทะฐัั. ะฅะผ-ั ะผโฆ ะก ััะธะผ ะฟะตััะพะฝะฐะถะตะผ ะฒัั ััะฐะทั ะฟะพะฝััะฝะพ ะฑัะปะพ. ะะฐั ะณััะทะธะฝัะบะธะน ะบะพะปะปะตะณะฐ ะผะตััะฐะป ะพะฑ ะธะดะตะฐะปัะฝะพะผ ะฐะบัะตัะต โ ะธ ะฒะพั ะพะฝ, ะฟะพะถะฐะปัะนััะฐ. ะขะพะปัะบะพ ะธะณัะฐัั ะธ ัะผะตะป, ะดะปั ัะพะณะพ ะธ ะฒะพะทะฝะธะบ. ะั ะฝะต ะฒ ะฐะบัะตััะบะพะผ, ัะบะฐะถะตะผ ัะฐะบ, ะฐะผะฟะปัะฐ ะตะณะพ ะฒะธะดะตะปะธ? ะะพั ะธ ะฟะพะถะฐะปัะนััะฐ. ะะพะปะฐั ััะฝะบัะธั. ะก ะดััะณะธะผะธ ะฟะพัะปะพะถะฝะตะต, ะบะพะฝะตัะฝะพ.
ะะฝั ะฒ ะดะตัััะฒะต ะณัะปัะปะฐ ั ะฑะฐะฑััะบะพะน ะฒ ะปะตัั ะฟะพะด ะะฐัะณะพะปะพะฒะพ ะธ ะทะฝะฐะปะฐ, ััะพ ะฒะพะปะฝััะบะธ โ ััะพ ัะฐะบะธะต ะณัะธะฑั, ัะพะทะพะฒัะต, ั ะฟัะธััะฝะพ ะผะฐั ัะพะฒัะผะธ ะบัะฐัะผะธ ะฒะพะณะฝััะพะน ัะปัะฟะบะธ. ะะฐะฑััะบะฐ ะฝะฐะดัะตะทะฐะปะฐ ะฝะฐะผะฐะฝะธะบััะตะฝะฝัะผ ะฝะพะณัะตะผ ะณัะธะฑะฝัั ะผัะบะพัั, ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะะฝะต ะบะฐะฟะปะธ ะผะปะตัะฝะพะณะพ ัะพะบะฐ ะธ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ, ััะพ ะฒะพะปะฝััะบะธ ัะพัะบะพัะฝั ะฒ ั ะพะปะพะดะฝะพะน ะทะฐัะพะปะบะต. ะะฝั ะพััะตัะปะธะฒะพ ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะฐ ะฑะฐะฑััะบะธะฝ ะณะพะปะพั ะธ ั ัััะดะพะผ ะฟะพะฑะพัะพะปะฐ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพะต ะถะตะปะฐะฝะธะต ัะฐัะฐะฟะฝััั ะฝะพะณัะตะผ ัะตะบั ะััะฐะณะธะฝะฐ, ััะพะฑั ะฟะพัะผะพััะตัั, ะฝะต ะฟัะพัััะฟะธั ะปะธ ัะพะบ. ะะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฒะธะด ั ะฝะตะต ััะฐะป ะฟัะธ ััะพะผ ัะพะฒัะตะผ ัะถ ะฑะตะทัะผะฝัะน, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฅะพะทัะธะฝ ะฟะพะดะพะดะฒะธะฝัะป ัััะป:
— ะกะฐะดะธัะตัั, ะะฝะตัะบะฐ. ะฏ ะฒะฐะผ ะฒัั ัะตะนัะฐั ะพะฑัััะฝั.
ะ ะพะฑัััะฝะธะป, ั ะผัะบะฐั ะธ ะฟะพะบะฐัะปะธะฒะฐั, ัะพัะฝะพ ัะฐะผ ััะธัะฐะป ะฝัะถะฝัะผ ะพััะตะฐะณะธัะพะฒะฐัั ะฝะฐ ัะฒะพะธ ะพัะพะฑะพ ัะดะฐัะฝัะต ัะตะฟะปะธะบะธ. ะฅะปะพะฟะฐั ะทะฐะฟะปะฐะบะฐะฝะฝัะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ะะฝั ัะปััะฐะปะฐ ะฟัะพ ัะพ, ััะพ ะฟะพะด ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะผ ะบะฒะฐััะฐะปะพะผ ะฒัะฐะณะธ โ ะฐ ะผะพะถะตั, ะธ ะฝะต ะฒัะฐะณะธ โ ั ะฝะตะทะฐะฟะฐะผััะฝัั ะฒัะตะผะตะฝ ัะฟัััะฐะปะธ โ ะฐ ะผะพะถะตั, ะธ ะฝะต ัะฟัััะฐะปะธ โ ะธััะพัะฝะธะบ ะฟัะธั ะพััะพะฟะฝะพะณะพ ะธะทะปััะตะฝะธั, ะฝัะฝะต ะธะทะฒะตััะฝัะน ะบะฐะบ ะะพะปะฝะฐ. ะ ัะพะพัะฒะตัััะฒัััะธะผ ัะปัะถะฑะฐะผ ะดะฐะฒะฝะพ ะฟะพะฝััะฝะพ, ััะพ ะฟะพะด ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะตะผ ะะพะปะฝั ะปัะดะธ ะฒะฟะฐะดะฐัั ะฒ ัะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะพะต ะฒะพะปะฝะพะฒะพะต ะฟะพะผะตัะฐัะตะปัััะฒะพ, ัะฐะผะฐั ะฑะตะทะพะฑะธะดะฝะฐั ัะพัะผะฐ ะบะพัะพัะพะณะพ โ ัั ะพะด ะฒ ะผะธั ะฑะตะทัะผะฝัั ัะฐะฝัะฐะทะธะน. ะะตัั ะฒะพะพะฑัะฐะทะธะป ัะตะฑะต ะพััะฐ-ะพะปะธะณะฐัั ะฐ ะธ ัะบะฐะทะพัะฝะพะต ะฑะพะณะฐัััะฒะพ, ะะตะนะฝะตะฝ โ ัะฒะตัั ัะตััะตััะฒะตะฝะฝัะต ัะฟะพัะพะฑะฝะพััะธ, ัะฐะผะฐ ะะฝั โ ะฟััะตัะตััะฒะธะต ั ะพััะพะผ ะฟะพ ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะผั ะกัะธะบััโฆ ะะพ ะฝะต ัะฐะบ ะดะฐะฒะฝะพ ัะฟะตัะธะฐะปะธััั ะฒัััะฝะธะปะธ, ััะพ ะฒัั ะตัะต ั ัะถะต. ะะฐะปะปััะธะฝะฐัะธะธ ัะตั , ะบัะพ ัะปะธัะบะพะผ ะดะพะปะณะพ ะฝะฐั ะพะดะธะปัั ะฟะพะด ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะตะผ ะะพะปะฝั, ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ัะฟะพัะพะฑะฝั ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะฒะพะฟะปะพัะฐัััั ะฒ ัะตะฐะปัะฝะพััั. ะะฟะตัะณััะฟะฟะฐ ะฟะพะฑัะฒะฐะปะฐ ะฒ ะฒะพะพะฑัะฐะถะฐะตะผะพะน ะบะฒะฐััะธัะต ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ะธ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะฐ, ััะพ ะพะฝะฐ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ัััะตััะฒัะตั, ั ะพัั ะธ ะฝะฐั ะพะดะธััั ะฟะพ ะฟัะธัะธะฝะต ะดะปะธัะตะปัะฝะพะณะพ ะพััััััะฒะธั ัะฒะพะตะณะพ ั ะพะทัะธะฝะฐ ะฒ ััะฐะดะธะธ ัะฐัะฟะฐะดะฐ. ะขะฐะบะธะต ัะฐะฝัะพะผั, ะฟัะพะทะฒะฐะฝะฝัะต ะฒะพะปะฝััะบะฐะผะธ, ะฟะพะฟะฐะดะฐัััั ะฒ ัะฐะนะพะฝะต ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธ ะฟะพะฒัะตะผะตััะฝะพ. ะะพะปะฝััะบะพะน ะผะพะถะตั ะพะบะฐะทะฐัััั ััะพ ัะณะพะดะฝะพ โ ะฟัะตะดะผะตั, ะฟะพะผะตัะตะฝะธะต, ะฝะพ ัะฐัะต ะฒัะตะณะพ ััะพ ัะตะปะพะฒะตะบ. ะัะฑััะฐั ััะฟััะณะฐ, ะทะฐะฑะพัะปะธะฒัะน ะพัะตั, ัะฐะปะฐะฝัะปะธะฒัะน ะผะพะปะพะดะพะน ะฐะบัะตั, ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝัะน ะฟัะตัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปั-ะดะฒะพะนะฝะธะบ, ะฟะพะผะพะณะฐััะธะน ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐัั ัะตะฑั ะทะฝะฐัะธะผัะผ โ ัะพั, ะบะพะณะพ ัะฐะบ ะพััะฐัะฝะฝะพ ะฝะต ั ะฒะฐัะฐะตั ะฑัะตะดััะตะผั ะดะปั ััะฐัััั. ะขะฐะนะฝัะต ะถะตะปะฐะฝะธั โ ัััะบะฐ ัะปะพะถะฝะฐั ะธ ะทะฐะฟััะฐะฝะฝะฐั, ัะฐััะพ ะฑะตะทัะผะตั ัะฐะผ ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั ะฝะต ัะฐะด ัะพะผั, ะบะพะณะพ ะฒัะทะฒะฐะป. ะะฐะบ ัะฐะผะฐ ะะฝั ะฑัะปะฐ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ัะฐะดะฐ ะญัะธะบะต โ ะฒะพะปะฝััะบะต ะฒ ััะฐะดะธะธ ัะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะธั, ัะฐะบ ะธ ะฝะต ััะฟะตะฒัะตะน ะฟะพะบะธะฝััั ะฟัะตะดะตะปั ะตะต ะฒะพะพะฑัะฐะถะตะฝะธัโฆ
— ะญัะธะบะฐ ะฑัะปะฐ ะฒะพะปะฝััะบะพะน?..
— ะะธััะธัะตัะบะฐั ัะฟะธะพะฝะบะฐ, ะฒะพะทะฝะธะบัะฐั ะฒ ัะพั ะผะพะผะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะฝะฐ ะฒะฐั ัะพะฒัะตะผ ะฟะตัะตััะฐะปะธ ะพะฑัะฐัะฐัั ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต? ะะพะฒะพัััะฐั ะฝะฐ ะฝะตะผะตัะบะพะผ ั ะพัะธะฑะบะฐะผะธ? Nabelkรผsser ist tot, ะะฝะตัะบะฐ. Tot, ะฐ ะฝะต tod. ะ ะฝะตะผะตัะบะพะผ ะฟัะพะธะทะฝะพัะตะฝะธะธ ัะฐะทะฝะธัะฐ ะพัะตะฝั ั ะพัะพัะพ ัะปััะฝะฐ. ะะฐะผ ะฟัะพััะธัะตะปัะฝะพ, ะฒั ะถะต ะฐะฝะณะปะธะนัะบะธะน ะธะทััะฐะตัะต, ะฐ ะญัะธะบะฐ ะทะฝะฐัั ะฑะพะปััะต ะฒะฐัะตะณะพ ะฝะต ะผะพะณะปะฐ. ะะฐ ัะฐะบะธั ะผะตะปะพัะฐั ะพะฝะธ ะธ ะฟัะพะบะฐะปัะฒะฐัััั. ะะฐ ะฝะตัะพะพัะฒะตัััะฒะธัั ะฒัะพะดะตโฆ ะบะฐะบ ะฒั ัะบะฐะทะฐะปะธ? ะัะพะดะต ะฑะฐะฑััะบะพัะพะฝะฐ ั ััะตะฝะธะบะฐ ะฟัะตััะธะถะฝะพะน ะผะพัะบะพะฒัะบะพะน ัะบะพะปั.
— ะะพ ะฒั ะถะต ัะบะฐะทะฐะปะธ, ััะพ ะะตัั ัะฐะผ ัะพะทะดะฐะป ะฒะพะปะฝััะบั! ะะฒะฐััะธัั! ะะต ะผะพะถะตั ะถะตโฆ
— ะ ัะพะผ ะธ ะฑะตะดะฐ, ะะฝะตัะบะฐ, ััะพ ะผะพะถะตั. ะะพะปะฝััะบะธ ะฝะต ะทะฝะฐัั, ััะพ ะพะฝะธ ัะฐะฝัะพะผั. ะะฑัะตัั ะดะพััะฐัะพัะฝััโฆ ั ะผ, ะผะฐัะตัะธะฐะปัะฝะพััั, ะพะฝะธ ะฝะฐัะธะฝะฐัั ะพะฑัะฐััะฐัั ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัะผะธ ะฒะพะปะฝััะบะฐะผะธ. ะ ัะฐะบ ะดะพ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพััะธ. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ะฒะตัั ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป ะฟะพะปะฝะพัััั ะฝะฐั ะพะดะธััั ะฒ ะฒะพะพะฑัะฐะถะฐะตะผะพะน ัะตะฐะปัะฝะพััะธ, ะฝะตะพัะปะธัะธะผะพะน ะพั ะฝะฐัะตะน ะธ ะฒัััะฟะฐััะตะน ั ะฝะตะน ะฒ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพ ัะตะผ ััะตะฒะฐัะพะต ะฒะทะฐะธะผะพะดะตะนััะฒะธะต. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ะฒะพะพะฑัะฐะถะฐะตะผะฐั ัะตะฐะปัะฝะพััั ัะถะต ะฒััะปะฐ ะทะฐ ะตะณะพ ะฟัะตะดะตะปั. ะะพะทะผะพะถะฝะพโฆ โ ะฅะพะทัะธะฝ ะฟะพะฟะตัั ะฝัะปัั. โ ะะฝะตัะบะฐ. ะั ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฟัะพะฒะตะปะธ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ. ะงัะพ ัะฐะผ ะฑัะปะพ? ะงัะพ ะฒั ะฟะพะผะฝะธัะต?
ย ***
ะกะปะธัะบะพะผ ะผะฝะพะณะพ ะธั ะพะฝ ะฒะธะดะตะป, ะพััะทะฐะป, ะฒะดัั ะฐะป ะธั ะณะฝััะฝัะต ัะพะปะพะฝะพะฒะฐััะต ะธัะฟะฐัะตะฝะธั. ะกะปะธัะบะพะผ ะดะพะปะณะพ ัะตัะฟะตะป, ะฟะพะบะฐ ะพะฝะธ ะฝะฐะฟะปะฐััััั, ะฝะฐะตะดัััั, ะฝะฐะปัะฑัััั ะธ ััะฐะฝัั ะฝะฐะบะพะฝะตั ัะฟะพะบะพะนะฝัะผะธ ะฟัะพะดะพะปะณะพะฒะฐััะผะธ ะฟัะตะดะผะตัะฐะผะธ. ะขะฐะบะธะผะธ ะธั ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ัะตัะฟะตัั, ัะฐะบะธะต ัะปะพัะผะธ ะปะตะถะฐะปะธ ัะฐะผ, ะฒะฝะธะทั, ะพัะบัะดะฐ ัะปะพ ะถะธะฒะธัะตะปัะฝะพะต ะฟะพะดะทะตะผะฝะพะต ัะธัะฝะธะต, ะธ ะฟะธัะฐะปะธ ะตะณะพ. ะะฑััะฒะบะธ ะธั ัะตัะตะฝัะบะธั ะดัั ัะปะธะฒะฐะปะธัั ะฒ ะตะดะธะฝัั, ะผะพะณัััั ะธ ะพะณัะพะผะฝัั, ะตะณะพ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัั ะดััั. ะะพัะพะผั ะพะฝ ะธ ัะตัะฟะตะป, ะฝะฐะปะธะฒะฐััั ะธั ะถะธะทะฝัะผะธ, ะฟะพะทะฝะฐะฒะฐั ะธั ัะฐะทัะผะพะผ. ะะฝ ัะฐะผ ะฒะทัะฐัะธะฒะฐะป ะธั , ะบะฐะบ ะผััะฐะฒัะธ ัะตัะฟะตะปะธะฒะพ ะฒะทัะฐัะธะฒะฐัั ัะปั.
ะะพ ัะตะฟะตัั ะพะฝะธ ะทะฐั ะพัะตะปะธ ะตะณะพ ัะฑะธัั. ะะพัะตะปะธะปะธ ะฒ ะฝัััะพ ะฑะพะปะตะทะฝั, ัะฐะทัััะฐัััั ะฟะปะพัั, ะฟัะธัะฐัะธะปะธ ัะฒะพะธ ัะฐัะฐั ัััะธะต ะฟััะพัะฝัะต ะธะฝััััะผะตะฝัั. ะะฐะดัะผะฐะปะธ ะฟะพััะฐะฒะธัั ะฝะฐ ะตะณะพ ะผะตััะพ ะดััะณะพะณะพ, ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะพะฝะธ ะทะดะตัั ัะตัะฐะปะธ, ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะณะปะฐะฒะฝัะผะธ.
ะฅะพัะพัะพ, ััะพ ั ะฝะตะณะพ ะฑัะปะธ ะฒะตัะฝัะต ัะฐะฑัะฝะธ-ัะปัะถะธัะตะปัะฝะธัั, ะธะท ะฟะพะบะพะปะตะฝะธั ะฒ ะฟะพะบะพะปะตะฝะธะต ะฟะตัะตะดะฐะฒะฐะฒัะธะต ัะฒััะตะฝะฝะพะต ะทะฝะฐะฝะธะต: ะณะปะฐะฒะฝะพะต โ ั ัะฐะฝะธัั ะพัะฐะณ, ะฑะตัะตัั ะดะพะผ, ััั ะธั ะผะตััะพ ะธ ััะฐัััะต. ะะฝะธ ะฟะพะดะปะฐัะฐะปะธ ะตะณะพ ะธะทัะตะดะตะฝะฝัั ะฑะพะปะตะทะฝัั ะฟะปะพัั ัะตะฟะปัะผะธ ัะตะปะฐะผะธ ัะฒะพะธั ัะพะฑัะฐััะตะฒ, ะฝะฐัััะธะปะธ ะตะณะพ ะธั ะถะธะทะฝัะผะธ โ ัะพะดะฝัะผะธ, ัะทะฝะฐะฒะฐะตะผัะผะธ, ะพั ััะถะดัั ั ะฝะตะณะพ ัะปััะฐะปะพัั ะฝะตัะฒะฐัะตะฝะธะต โ ะธ ัะตะฟะตัั ัะผะธัะตะฝะฝัะผ ั ะพัะพะผ ะฒะทัะฒะฐะปะธ:
— ะะพัััะฐะฝั, ะฒะตะปะธะบะธะน! ะะพัััะฐะฝั, ะผะฝะพะณะพะณะปะฐะทัะน ัะปะตะน, ะฒะผะตััะธะปะธัะต ะถะธะทะฝะธ!
ะะพะผ ะฝะพะผะตั ััะธ ัะฐัะฟะฐั ะฝัะป ะพะบะฝะฐ ะธ ะธะทะดะฐะป ะพะณะปััะธัะตะปัะฝัะน ัะตะฒ.
ย ***
— ะั ััะพ, ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต ัะตะฟะตัั, ััะพ ะฒัโฆ ััะพ ะผั ะฒัะต ะฝะฐัะฒะพัะธะปะธ? ะะพะด ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะตะผ ะะพะปะฝั ััะพะน ะฟัะพะบะปััะพะน, ะฐ? ะะพะฝะธะผะฐะตัะต, ััะพ ะตัะปะธ ะฝะต ัะฐะทะฑะตัะตะผัั, ะบัะพ ะธะท ะฝะฐั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฐ ะบัะพ ะฒะพะปะฝััะบะฐ ะดัะพะถะฐัะฐั, ัะพ ะฒัะต, ะฒัะต ะฟะพะณะธะฑะฝะตะผ, ะะฝะตัะบะฐ? โ ะปะธัะพ ะฅะพะทัะธะฝะฐ ะบัะธะฒะธะปะพัั ะฒ ัะฐะทะฝัะต ััะพัะพะฝั, ะฝะพั ะฟะพ-ะผััะธะฝะพะผั ะฟะพะดัะฐะณะธะฒะฐะป. โ ะ ั ะผะตะฝั ะธ ะฒะพะฒัะต ัะตะพัะธะนะบะฐ ะพะดะฝะฐ ะตััั. ะะพะดะพะนะดะธัะต ััะดะฐ, ะะฝะตัะบะฐ. ะะฝะฝััะบะฐ. ะะฝััะพัะบะฐ. ะั ะฝะต ะฑะพะนัะตัั, ั ะผโฆ
ะะฝ ะฟัะธะดะตัะถะธะฒะฐะป ะบะพัะพัะตะฝัะบะธะผะธ ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะบัะฐะน ะทะพะปะพัะธััะพะน ะบะฐะทะตะฝะฝะพะน ะทะฐะฝะฐะฒะตัะบะธ ะธ ะบะพัะธะปัั ะฝะฐ ัะปะธัั. ะ ัะฐะผ, ัะฝะฐััะถะธ, ัะปััะฐะปัั ะพัะดะฐะปะตะฝะฝัะน ััะถะบะธะน ะณัะพั ะพั.
— ะ ััะพ, ะตัะปะธ ะฒัะต ะผั ััั ะฒะพะปะฝััะบะธ, ะะฝััะพัะบะฐ? ะะดะฝะพะณะพ ะฟะพะปั, ะผะฝั-ะผะฝั, ะณัะธะฑะพัะบะธ? ะั ั ะฝะฐั ะดะตะฒััะบะฐ ัะพ ัััะฐะฝะฝะพัััะผะธ, ะฝะพ ะฒะตะดั ะธ ั, ะตัะปะธ ะฝะฐัะธััะพัั ะณะพะฒะพัะธัั, ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัััะฐะฝะฝัะน. ะฏ ัะถ ะธ ะฟะพะผะธัะฐะป, ะธ ัะพะฝัะป, ะธ ะฟัะพัะพัะตััะฒะพะฒะฐะป, ะธ ัะตะณะพ ัะพะปัะบะพ ะฝะต ัะฒะพัะธะป. ะ ะผะพะถะตั, ะฝะธ ะฒะฐั ะฝะตั, ะฝะธ ะผะตะฝั ะฝะตั, ะฝะธ ะ ะพััะธะธ ะฝะตั ัะถะต? ะ? ะญัะพ ะถะต ะบะพะฝะตั ัะฒะตัะฐ, ะะฝะฝััะบะฐ. ะ? ะ ะธะท ััะตะน ะณะพะปะพะฒั ะผั ะฒัะต ัะฐััะตะผ ะฒ ัะฐะบะพะผ ัะปััะฐะต, ะบะฐะบ ะฒั ะดัะผะฐะตัะต-ั? ะกะพ ัะปะพะฒะพะตััะฐะผะธ ะทะฐะณะพะฒะพัะธะป, ะฒะธะดะธัะต, ะบะฐะบ ะฒัั ัะฑะพะธั ะฝัะฝัะต ะฒ ัะตะฐะปัะฝะพััะธ, ะดะฐะฝะฝะพะน ะฝะฐะผ ะฒ ะพัััะตะฝะธะธ? ะ ััะพ, ะตัะปะธ ะธะท ะฒะฐัะตะน? ะะพะถะตั, ะฒั-ัะพ, ะะฝะตัะบะฐ, ะธ ะตััั ะฝะฐัะฐ ะผะตััะธั, ะฒะพะฝ ะธ ะฑะปะตะดะฝะตะฝัะบะฐั ะฒั, ะธ ะปะธัะธะบะพ ะธะบะพะฝะพะฟะธัะฝะพะต ะฒะฟะพะปะฝะต, ะธัะฟะธัะพะต. ะะฐ ะฝะต ะฒะพะทะผััะฐะนัะตัั ะฒั, ะฟะปะตะผั ะผะปะฐะดะพะต, ะฝะตะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะฝะพะต, ััะพ ะทะฝะฐัะธั, ััะพ ะธะทะผะพะถะดะตะฝะฝะพะต ั ะฒะฐั ะปะธัะธะบะพ, ะฐ ะฝะต ะบะฐะบ ั ะฑะพะผะถะธั ะธโฆย Nabelkรผsser ist tot. ะ Tod, ะบะฐะบ ะฒะพะปะฝััะบะฐ ะฒะฐัะฐ ะฒะตัะฐะปะฐ, โ ััะพ ะฟะพ-ััััะบะธ ัะผะตััั, ะะฝะตัะบะฐ. ะัะต ัะผัะตะผ, ะฒัะต ะฒ ะณะฐะปะปััะธะฝะฐัะธัั ััะถะธั ะฟะพัะพะฝะตะผ, ะตัะปะธ ะฝะต ัะทะฝะฐะตะผ, ะพัะบัะดะฐ ะฒัั ััะพ ัะฐััะตั, ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต, ะะฝะตัะบะฐ? ะ ะผะพะถะตั, ะฒั-ัะพ ะฒัั ััะพ ะธ ะพััะฐะฝะพะฒะธัะต, ะตัะปะธ ะผั ะฒ ะฒะฐัะตะน ะณะพะปะพะฒะต ัะธะดะธะผ!
ะกะพะฒัะตะผ ั ัะผะฐ ัะพัะตะป, ะฟะพะดัะผะฐะปะฐ ะะฝั, ะณะปัะดั ะฝะฐ ะตะณะพ ะฑะปะตะดะฝะพะต, ัะพ ะถะต, ะบะฐะบ ั ะผะตััะฒะพะณะพ ะััะฐะณะธะฝะฐ, ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะฟัะพะทัะฐัะฝะตััะตะต ะปะธัะพ. ะะฐะบ ะฟะพ-ะฝะตะผะตัะบะธ ยซััะผะฐััะตะดัะธะนยป? ะะฐะถะตััั, verrรผckt. ะะฐะถะตััั, ะฒ ััะพั ัะฐะท ะฑะตะท ะพัะธะฑะพะบโฆ
ะ ะพะฝะฐ ะฝะฐะบะพะฝะตั ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ััะดะฐ, ะบัะดะฐ ัะฐะบ ัะฟะพัะฝะพ ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐะป ะฅะพะทัะธะฝ โ ะฒ ะพะบะฝะพ.
ะะฐ ะณะพัะธะทะพะฝัะต ะทะตะปะตะฝะตะป ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป โ ะพะฝะฐ ะฒัะตะณะดะฐ ัะทะฝะฐะฒะฐะปะฐ ะตะณะพ ะฟะพ ััะดะพะผ ัะพั ัะฐะฝะธะฒัะธะผัั ัะพะฟะพะปัะผ ะธ ัะตัะบะพะฒะฝะพะน ะผะฐะบะพะฒะบะต. ะะฐะด ะบะฒะฐััะฐะปะพะผ ะฒะทะดัะผะฐะปัั ััะพะปะฑ ะฟัะปะธ, ะธ ััะพ-ัะพ ะพะณัะพะผะฝะพะต ะฒะพัะพัะฐะปะพัั ัะฐะผ, ะพะณะปะฐัะฐั ะณะพัะพะด ะผะฝะพะณะพะณะพะปะพััะผ ัะตะฒะพะผ. ะญัะพ ะััะปั ั, ะฟะพะดัะผะฐะปะฐ ะะฝั. ะะฝะธ ัะฐะทะฑัะดะธะปะธ ะััะปั ั.
— ะั ะฝะฐ ะณะปะฐะฒะฝัะน ะฒะพะฟัะพั ะพัะฒะตัััะต, ะะฝะตัะบะฐ, โ ะทะฐัะฒะธััะตะป ะตะน ะฝะฐ ัั ะพ ะฅะพะทัะธะฝ. โ ะกะฐะผะธ-ัะพ ะฒั ะบัะพ? ะะพะผะฝะธัะต ะจะฒะตะนัะฐัะธั? ะะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฒ ะณะธะฟัะต? ะะตะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะฐั ะฑะพะปะตะทะฝั ะฟะพะทะฒะพะฝะพัะฝะธะบะฐ?
ะะพั ะพะถะต, ะััะปั ั, ะปะพะผะฐั ะฐััะฐะปัั, ัะฐะณะฐะป ะบ ะฝะธะผ. ะะฝั ัะฐััะตัะฝะฝะพ ะบะธะฒะฝัะปะฐ.
— ะั ะฒะพะพะฑัะต ะธะท ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปะธัั? โ ัะตะฟะพั ััะฐะป ะฟะพััะธ ะฑะตะทะทะฒััะฝัะผ. โ ะะปะธ ะฒะฐั ะทะดะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะธ ะฝะต ะฑัะปะพ?
ะะปะฐะฒะฐ 19. ะกะตัะฐัะธะผะฐ ะัะปะพะฒะฐ. ะะต ะฑะพะณะธ


ะะฒะตัั ัะฐัะฟะฐั
ะฝัะปะฐัั. ะัะดะธ ะฒ ััะฐััะบะพะผ ะฒะฟะธั
ะฝัะปะธ ะะฝั ะจะตัะณะธะฝั ะฒะฝัััั, ะบ ะพััะฐะปัะฝัะผ, ะธ ัะฝะพะฒะฐ ะทะฐะฟะตัะปะธ ะฟะปะตะฝะฝะธะบะพะฒ. ะะฝั ะฑัะปะฐ ัะฒััะฒะตะฝะฝะพ ะทะตะปัะฝะพะน, ััะฐะทั ะพัะตะปะฐ ะฝะฐ ะฟะพะป. ะจะตัะณะธะฝ, ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ ะธ ะดะตะฒะพัะบะธ โ ะฒัะต, ะบัะพะผะต ะะธะทั ะะตะนะฝะตะฝ โ ะฑัะพัะธะปะธัั ะบ ะฝะตะน, ะฐ ะคะตะดั ะะพัะพั
ะพะฒ ะธ ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน โ ะบ ะดะฒะตัะธ, ััะพััะฝะพ ะฑะฐัะฐะฑะฐะฝั ะบัะปะฐะบะฐะผะธ ะธ ััะตะฑัั ะฒัะฟัััะธัั ะธั
ะฝะฐะบะพะฝะตั. ะัะฒะตัะฐ ะฝะต ะฟะพัะปะตะดะพะฒะฐะปะพ. ะฃะดะฐัั ััะฟะฐะปะธัั ะฝะฐ ะดะฒะตัั, ัะตัะตะท ะผะธะฝััั ะบ ะฝะธะผ ะฟัะธะฑะฐะฒะธะปะพัั ัััะฐะฝะฝะพะต ัั
ะพ. ะคะตะดั ะทะฐะผะตั, ัะธะบะฝัะป ะฝะฐ ะะฝะดัะตั ะธ ะะฐัะฐัั ะะฐัะฐะนัะตะฒั, ั ะฟัะธัะธัะฐะฝะธัะผะธ ะพะฑะผะฐั
ะธะฒะฐะฒััั ะะฝั ัะฐะผะธะปัะฝัะผ ะฟะฐะฟะธะฝัะผ ะฟะปะฐัะบะพะผ. ะัะต ะทะฐะผะตัะปะธ ะธ ะฟัะธัะปััะฐะปะธัั. ะะดะต-ัะพ ะฒะดะฐะปะธ ัะฐะทะดะฐะปัั ะณัะป, ะผะตัะฝัะน ะธ ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ะพััะทะฐะตะผัะน. ะัะต ะฒะพะบััะณ ะตะดะฒะฐ ะพัััะธะผะพ ะฒะธะฑัะธัะพะฒะฐะปะพ. ะะตั, ััะพ ะฑัะปะธ ะฝะต ัะดะฐัั, ัะบะพัะตะต, ะฟะพะดะทะตะผะฝัะต ัะพะปัะบะธ.
— ะกัะดะฐ, ััะพ ะปะธ, ะะพะดะทะธะปะปะฐ ะธะดัั? โ ะคะตะดั ะฟะพัะตัะฐะป ะฒ ะทะฐััะปะบะต.
— ะฅัะถะต, โ ะผัะฐัะฝะพ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะฝั.
— ะงัะพ ัั ะทะฝะฐะตัั? ะะพะฒะพัะธ, ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฒ ะพะฑัะตะท, ะฐ ะปัะฑะฐั ะธะฝัะพัะผะฐัะธั ะผะพะถะตั ะฟะพะผะพัั ะฝะฐะผ ะฒัะฑัะฐัััั! โ ะคะตะดั ั
ะพัะตะป ะฒัะตะฟะธัััั ะฒ ะะฝั, ะฝะพ ะะฐัั ะฒััะฐะป ะฝะฐ ะตะณะพ ะฟััะธ:
— ะขั ะฒะธะดะธัั, ะพะฝะฐ ะตะปะต ะถะธะฒะฐ!
— ะะตั-ะฝะตั, ะพะฝ ะฟัะฐะฒ, ะฝะฐะดะพ ัะฐััะบะฐะทะฐัั, โ ะะฝั ัััะฐะปะพ ัะบัะธะฒะธะปะฐ ะณัะฑั. ะกะธะป, ััะพะฑั ะฟะพะฒะตะดะฐัั ะฑะตะทัะผะฝัั ัะฐะณั ะพ ะะพะปะฝะต ะธ ัะตะปะพะฒะตะบะต ั ะฝะพะฒะพะณะพะดะฝะตะณะพ ัะบัะฐะฝะฐ, ะฝะต ะฑัะปะพ. ะ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฝะต ั
ะฒะฐัะฐะปะพ, ััะพะฑั ะธะทะปะพะถะธัั ะฒัั ะดะพััะพะฒะตัะฝะพ. ะะพ ะฟัะธะดัััั ะบะฐะบ ะตััั. ะะฝะฐ ะพัะบััะปะฐ ัะพั ะธ ะพัะตะบะปะฐัั. ะกะบะฒะพะทั ะณัะปะบะธะต ัะดะฐัั ะฟัะพัะฒะฐะปัั ะฝะพะฒัะน ะทะฒัะบ: ััะผ ะฒะตััะพะปััะฐ.
— ะกะฑะตะณะฐะตั, โ ะฟัะพัะตะฟัะฐะปะฐ ะะฝั.
— ะัะพ? โ ะฝะฐะฟะธัะฐะป ะคะตะดั.
— ะะฐ ะฅะพะทัะธะฝโฆ ะะพััั, ัะตะฟะตัั ะผั ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะทะฐัะธัะตะฝั, ัะฐะฝััะต ะทะดะตัั ั
ะพัั ะตะณะพ ะพั
ัะฐะฝะฐ ะฑัะปะฐ, ะฐ ัะตะฟะตัั ะฝะฐั ะผะพะณัั ัะฐะทะดะฐะฒะธัั, ะบะฐะบ ะบะพััั. ะัะถะฝะพ ะฒัะฑะธัะฐัััั ะพัััะดะฐ ะปัะฑัะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ.
ะ ะะฝั, ะฝะฐัะบะพะปัะบะพ ัะผะพะณะปะฐ ะบะพัะพัะบะพ, ะฟะพะฒะตะดะฐะปะฐ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผ ะธ ะพัะพัะพะฟะตะฒัะตะผั ะพััั ะฒัั, ััะพ ัะทะฝะฐะปะฐ ะพ ะฟัะธัะพะดะต ะะพะปะฝั. ะ ะทะฐะพะดะฝะพ ะฟัะพ ะฝะพะฒะพะต, ะฟะพะธััะธะฝะต ัะธะทะพััะตะฝะธัะตัะบะพะต ะฟะพัะพะถะดะตะฝะธะต ะะพะปะฝั โ ะฑะตัะฝัััะธะนัั ะฝะฐ ะณะพัะธะทะพะฝัะต ะดะพะผ-ััะดะพะฒะธัะต ะธะท ะะฐะปะฐััะฒัะบะพะณะพ ะบะฒะฐััะฐะปะฐ.
— ะฏ ะดัะผะฐั, ะตัะปะธ ะบัะพ ะธ ัะผะพะถะตั ัะตะนัะฐั ััะพ-ัะพ ั ััะธะผ ัะดะตะปะฐัั, ัะฐะบ ััะพ ะะธะทะฐ, โ ะฟะพะดััะพะถะธะปะฐ ะะฝั. โ ะะฝะฐ ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ะผะพะถะตั ะฒะปะธััั ะฝะฐ ะะพะปะฝัโฆ ะฃ ะฝะตั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฟัะธัะพะดะฝัะน ะฟะตัะตะดะฐััะธะบ ะฒัะธั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต. ะั ััะพ ัะถะต ะฒะธะดะตะปะธ ะฝะต ัะฐะท.
ะัะต ัะฐะทะพะผ ะพะฑะตัะฝัะปะธัั ะบ ะะธะทะต โ ะพะฝะฐ ัะธะดะตะปะฐ ะฒ ัะณะปั ั ะฑะปะพะบะฝะพัะพะผ ะธ ัะธัะพะฒะฐะปะฐ ะฒ ะฝัะผ ะบะฐัะฐะบัะปะธ, ะบะฐะบ ะดะตะปะฐะปะฐ ััะพ ะฒัะตะณะดะฐ ะพั ัะถะฐัะฐ ะฝะตะผะพัั ะฟะตัะตะด ัะธัััะผ ะปะธััะพะผ, ะดะฐ ะธ ะฟัะพััะพ ะพั ัะถะฐัะฐ. ะะธะทะฐ ัะพะถะต ะฑัะปะฐ ะฑั ัะฐะดะฐ ะบ ะบะพะผั-ะฝะธะฑัะดั ะพะฑะตัะฝััััั, ะฝะพ ะฟะตัะตะปะพะถะธัั ะพัะฒะตัััะฒะตะฝะฝะพััั ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ะฝะต ะฝะฐ ะบะพะณะพ. ะะฐะถะต ะฒะตัะฝัะน ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน ัะพะปัะบะพ ะธ ัะผะพะณ, ััะพ ะพัะพะนัะธ ะพั ะดะฒะตัะธ ะธ ัะตััั ััะดะพะผ ั ะะธะทะพะน. ะะฝะฐ ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ ะตะณะพ ัะตะฟะปะพ, ัะฝะตัะณะธั ะฝะฐะฟััะถะธะฝะตะฝะฝะพะณะพ, ัะธะปัะฝะพะณะพ ัะตะปะฐ ะบะพะปัะฝัะปะฐ ะตั, ะทะฐััะฐะฒะธะฒ ัะฐัะฟัะฐะฒะธัั ะฟะปะตัะธ. ะะธะทะฐ ะฝะฐะบะพะฝะตั ัะผะพะณะปะฐ ะฟะพัะผะพััะตัั ะะฝะต ะฒ ะณะปะฐะทะฐ:
— ะ ะตัะปะธ ะพะบะฐะถะตััั, ััะพ ะฒัะต ะผั ะฝะตะฝะฐััะพััะธะต?
— ะฏ ะฝะต ะดัะผะฐั, ััะพ ะผั ะฝะตะฝะฐััะพััะธะต, โ ะฑััััะพ ะทะฐะณะพะฒะพัะธะป ะคะตะดั, ะฝะต ะดะฐะฒะฐั ะะฝะต ะพัะฒะตัะธัั ัะฐะผะพะน. โ ะะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะผั ัะตะนัะฐั ะฒ ััะฟะตัะฟะพะทะธัะธะธ, ะบะฐะบ ะบะพั ะจััะดะธะฝะณะตัะฐ. ะั ะธ ะฝะฐััะพััะธะต, ะธ ะฝะตั. ะขะพ ะตััั ั ะฟะพะผะพััั ะะพะปะฝั ะผั ะผะพะถะตะผ ะฟะพะฒะปะธััั ะฝะฐ ะฟะพะดะปะธะฝะฝะพััั ัะฒะพะตะณะพ ัััะตััะฒะพะฒะฐะฝะธั. ะัะปะธ ัั, ะะธะทะฐ, ะฝะฐั ะฝะต ัะฐะทะฒะพะฟะปะพัะธัั ั ะฟะพะผะพััั ะฟะธััะผะฐ, ะฝะฐั ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะพัะปะธัะธั ะพั ะฝะฐััะพััะธั
. ะะฐะบ ะธ ะะฐะปะฐััะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป. ะะฐะบ ะธ ะฒะตัั ััะพั ัะฐะนะพะฝโฆ ะฐ ะผะพะถะตั ะฑััั, ะธ ะฑะพะปััะตโฆ ัะธัะตโฆ
— ะะฐะณะฐะดะพัะฝะฐั ััััะบะฐั ะดััะฐ, โะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะััะฐ ะฟะพะด ะะพะปะฝะพะนโฆ
— ะ ััะพ? ะะต ัะพัะผะพะทะธ, โ ะคะตะดั ัะฝะพะฒะฐ ะฒั
ะพะดะธะป ะฒ ัะฐะถ.
— ะะธัะตะณะพโฆ ะะพะน ะฟะฐะฟะฐ ะดะฐััะฐะฝะธะฝ. ะะต ัะฒะตัะตะฝะฐ, ััะพ ะฟะพะฝะธะผะฐั ััะธ ัััะบะธ ั ััััะบะพะน ะดััะพะน.
— ะะต ะฒะธะถั, ะบะฐะบ ััะพโฆ
— ะฏ ะฒะพะพะฑัะต ะดัะผะฐะป, ััะพ ะผะพะน ะพัะตั โ ััะพ ัะฒะพะน ะพัะตั ัะพะถะต, โ ะฒะผะตัะฐะปัั ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ. โ ะั, ะฒัั ะบ ััะพะผั ะฒะตะปะพ. ะฃ ัะตะฑั ัะฟะพัะพะฑะฝะพััะธ, ะทะฝะฐัะธั, ัั ััะตัะธะน ัะตะฑัะฝะพะบ, ะฝัะถะฝัะน ะดะปั ัะธััะฐะปะฐ. ะะพ, ะฒะธะดะธะผะพ, ัะธััะฐะปะฐ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะฝะต ัััะตััะฒัะตั, ั ะดะฐะถะต ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐั ัะตะฟะตัั, ะตััั ะปะธ ั ะผะตะฝั ะพัะตั ะธะปะธ ั ะณะพะผัะฝะบัะป ะบะฐะบะพะน-ัะพโฆ
— ะ ะธััะฐะป, โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะะพะถะตั ะฑััั, ะตัะปะธ ะพัะตะฝั ะฒะตัะธัั, ะฟะพะปััะธััั ะฒัั ััะพ ะทะฐะฟะตัะฐัะฐััโฆ ัะพะปัะบะพ ะบะฐะบ ะฒะตัะธัั, ะตัะปะธ ะฒั ะผะฝะต ะฒัั ัะฐััะบะฐะทะฐะปะธ? ะั ัะฐััะบะฐะทะฐะปะธ ะผะฝะต ัะปะธัะบะพะผ ะผะฝะพะณะพ! โ ะฒ ัะตัะดัะฐั
ะฒะพัะบะปะธะบะฝัะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะฏ ัะตะฟะตัั ะฝะต ะผะพะณั ะพัะดะตะปะฐััััโฆ
ะะธะทะฐ ัะฝะพะฒะฐ ัะบะพััะธะปะฐัั ั ััะตะฝั ะธ ะพะฑั
ะฒะฐัะธะปะฐ ะณะพะปะพะฒั ััะบะฐะผะธ, ะบะพะถะตะน ััะฒััะฒัั ะฝะฐะฟัะฐะฒะปะตะฝะฝัะต ะฝะฐ ะฝะตะต ะฒะทะณะปัะดั. ะขะพะปัะบะพ ะะฝะดัะตะน ะฝะต ัะผะพััะตะป. ะะฝ ะฟัะพััะพ ัะธะดะตะป ััะดะพะผ, ะฝะต ะณะพะฒะพัั ะฝะธ ัะปะพะฒะฐ. ะะณะพ ัะตะฟะปะพ ัะตัะตะท ะฟัะธะบะพัะฝะพะฒะตะฝะธะต ะปะพะบัั ะฟะตัะตะปะธะฒะฐะปะพัั ะฒ ะะธะทั, ะบะฐะบ ะดะพะฝะพััะบะฐั ะบัะพะฒั. ะั ััะพะณะพ ะฟัะธะบะพัะฝะพะฒะตะฝะธั ะฒ ะะธะทะต ะฟะพะดะฝะธะผะฐะปะฐัั ะฝะพะฒะฐั ัะธะปะฐ, ะฟะพะณัะตะฑะตะฝะฝัะน ะฟะพะด ัะฟัะดะพะผ ะฝะตะฒะตะดะพะผัะน ะฒะฝัััะตะฝะฝะธะน ัะตะทะตัะฒ.
— ะฏ ะฟะพะฟัะพะฑัั, โ ะฝะตั
ะพัั ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะขะพะปัะบะพ ะพัะฒะตัะฝะธัะตัั ะฒัะต ะธ ะฝะต ะณะฐะปะดะธัะต. ะะตั, ัั, ะะฝะดัะตะน, ะฝะต ัั
ะพะดะธ.
ะะธัั ัะพ ัะฟะฐัะธัะตะปัะฝัะผะธ ะบะฐัะฐะบัะปัะผะธ ะฑัะป ะฟะตัะตะฒััะฝัั, ะธ ะฟะตัะตะด ะะธะทะพะน ะฒะฝะพะฒั ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ัะถะฐัะฝะฐั ะฒ ัะฒะพะตะน ะฟะตัะฒะพะทะดะฐะฝะฝะพััะธ ัะธััะฐั ัััะฐะฝะธัะฐ.
— ะะพะดะทะธะปะปะฐ, โ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะพะปััะพะน ัััะฐัะฝัะน ะะพะดะทะธะปะปะฐ ะธะท ะบะธัะฟะธัะฐ ะธ ะฐัะผะฐัััั. ะจััะบะฐัััะฝัะน ะผะพะฝััั. ะกะผะตัะฝะพ ะถะต. ะั ะฒ ะณััะฑะฐะฝะพะผ ะฐะฝะธะผะตโฆ
ะะธะทะฐ ะธ ะฝะต ั
ะพัะตะปะฐ, ะฐ ั
ะธั
ะธะบะฝัะปะฐ.
— ะะพัั-ะฐะฝะธะผะต, โ ะฟะพะฟัะฐะฒะธะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะัะต ะฟัะธะทะฝะฐะบะธ ะฝะฐะปะธัะพ: ัะฒะตัั
ัะฟะพัะพะฑะฝะพััะธ, ะบะปะฐะฝะพะฒัะต ะธะฝััะธะณะธ, ััะดะพะฒะธัะฐ, ะผะฐะณะธั-ัะผะฐะณะธั, ัะฐัะฟะฐะดะฐััะธะนัั ะฝะฐ ัะฐััะธ ะผัะปััะธะฒะตัััะผโฆ
— ะขะพะปัะบะพ ะฒะผะตััะพ ัะฟะพะฝัะตะฒ ะดะฐััะฐะฝะต, โ ัะฐะทะฒะธะป ะธะดะตั ะะฝะดัะตะน. โ ะัั ั ะะธัะดะทะฐะบะธ ั
ะพะดััะธะน ะทะฐะผะพะบ ัะฟััะปะธ.
ะะธะทะฐ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะฒ ะณะพะปะพั. ะคะตะดั ะะพัะพั
ะพะฒ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะป ะธ ะณะฝะตะฒะฝะพ ะพะณะปัะฝัะปัั. ะะผั ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ั
ะพัะตะปะพัั ะฑััั ัะฐะทะดะฐะฒะปะตะฝะฝัะผ ัััะบะฐัััะฝัะผ ะะพะดะทะธะปะปะพะน ะฒัะผััะบั. ะกัะดั ะฟะพ ะฟะพะดะทะตะผะฝัะผ ัะพะปัะบะฐะผ, ะฒะทะฑะตัะธะฒัะธะนัั ะดะพะผ ัะฐะณะฐะป ัะถะต ัะพะฒัะตะผ ะฑะปะธะทะบะพ.
— ะัะถะฝะพ ััะพ-ัะพ ะฟะธัะฐัั, ะะธะท, โ ะผัะณะบะพ ะฟะพะดัะพะปะบะฝัะป ะะฝะดัะตะน. โ ะฅะพัะตัั, ะฝะฐัะฝะธ, ะบะฐะบ ะขััะณะตะฝะตะฒ, ะบะพะณะดะฐ ั ะฝะตะณะพ ะฑัะป ะฟะธัะฐัะตะปััะบะธะน ะฑะปะพะบโฆ ะฟะพั
ะฐะฑะฝะพะต ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ะฝะฐะฟะธัะธ, ะฟัััั ะดะฐะถะต ยซะ ัััะบะธะน ะฒะตััะฝะธะบยป ััะธะผ ะฝะต ัะดะพะฒะปะตัะฒะพัะธััั.
— ะะฐ ะฝะตั, โ ะฟะพะผะพััะธะปะฐัั ะะธะทะฐ.
— ะะฐัะพ ะฟัะพัะผะตััััั โ ะธ ะปะตะณัะต ััะฐะฝะตั.
— ะะฐ ั ัะถะต ะฟัะพัะผะตัะปะฐัั.
ะะธะทะฐ ะทะฐะถะผััะธะปะฐัั ะธ ะฝะฐัะฐะปะฐ ะฒะพะดะธัั ัััะบะพะน ะฟะพ ะฑัะผะฐะณะต, ััะพะฑั ะฒัั-ัะฐะบะธ ัะฝััั ะฑะปะพะบ ะธ ะฒัะฒะตััะธ ะฟะตัะฒัั ะฑัะบะฒั, ะฝะพ ะฒะผะตััะพ ัะปะพะฒ ัะฝะพะฒะฐ ะฒะพะทะฝะธะบะฐะป ัะธััะฝะพะบ. ะขะพ ัะฐะผะพะต, ััะพ ัะฐะบ ะตั ะฝะฐะฟัะณะฐะปะพ, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ััะปััะฐะปะฐ ัะฐััะบะฐะท ะะฝะธ ะพ ะฟัะธัะพะดะต ะะพะปะฝั. ะัะพะบะปัััะต, ััะพ ะฑัะปะฐ ะบะฐััะฐ ะผะธัะฐ, ะฝะพ ะธัะบะฐะถัะฝะฝะฐั, ัะบะพะผะบะฐะฝะฝะฐั, ะฒัะถัะฐะฝะฝะฐั ะฝะตะฒะตะดะพะผัะผ ะทะฒะตัะตะผ. ะะพะปะฝะฐ ัะบะพะฝััััะธัะพะฒะฐะปะฐ ะฟะพะด ัะพะฑะพะน ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝัะต ะทะตะผะปะธ, ะฒะตะปะธะบัั ะขะฐััะฐัะธั, ะบะพัะพัะฐั, ะตะดะฒะฐ ัะฒะตัั
ัะตััะตััะฒะตะฝะฝะพะต ะฒะปะธัะฝะธะต ะพัะปะฐะฑะปะพ, ะธััะตะทะปะฐ, ะฟัะพะฒะฐะปะธะปะฐัั ะฝะฐ ะดะฝะพ ัะธัััะตะณะพ ะพะทะตัะฐ. ะะฒัะฐะทะธะนัะบะธะน ะบะพะฝัะธะฝะตะฝั ัะฐะผ ัะตะฑะต ะพัะบััะธะป ัะฟะธะฝั.
ยซะะฐั ะฝะตั, โ ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะพัะดะตะปะฐัััั ะพั ัะฐะทัััะธัะตะปัะฝะพะน ะผััะปะธ ะะธะทะฐ. โ ะะฐั ะฒัะตั
ะฝะตั. ะัั ะฒัะดัะผะฐะฝะพ: ะณะตะพะณัะฐัะธั, ะธััะพัะธั, ะบัะปััััะฐ. ะัั ะธะทะผััะปะตะฝะพ ะฝะตะฒะตะดะพะผัะผ ะทะฐะตะทะถะธะผ ัะฐะฝัะฐะทััะพะผ, ะฟะพะดั
ะฒะฐัะตะฝะพ ะะพะปะฝะพะน ะธ ะฒะพะฟะปะพัะตะฝะพ ััะตะดะธ ะณะปัั
ะธั
ะปะตัะพะฒ ะธ ะฐัะบะฐััะธั
ะฑะพะปะพัโฆ ะั ะฒัะต ััะดั…ยป
ะะธะทะฐ ัะดะฐัะธะปะฐ ัะตะฑั ะบัะปะฐะบะพะผ ะฒ ะปะพะฑ, ัะถะฐะปะฐ ะฟะฐะปััั ะดะพ ั
ััััะฐ, ัะฐััััะปะฐ ะบะพััััะบะฐะผะธ ะบะพะถั. ะัะปะธ ะพะฝะฐ ะฑัะดะตั ัะปะธัะบะพะผ ะธััะพะฒะพ ะดัะผะฐัั ะพะฑ ััะพะผ, ะฒัั ัะฐะบ ะธ ะฒัะนะดะตั, ะฐ ะฝะต ะทะฐัััะตะฒะฐัั ะฝะฐ ัััะฐัะฝะพะน ะผััะปะธ ะฝะต ะฟะพะปััะฐะตััั.
ะะฐะตะทะถะธะผ ะดะฐััะฐะฝะธะฝะพะผโฆ ะทะฐะตะทะถะธะผ ัะบะฐะทะพัะฝะธะบะพะผโฆ
ยซะัั ะดะพะปะถะฝะพ ะฑััั ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะธะผ, โ ะฟะพะดัะผะฐะปะพัั ะฒ ะพััะฐัะฝะธะธ. โ ะัะธัะธะฝั ะดะพะปะถะฝั ะฑััั ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะธะผะธโฆ ะบะฐะบะธะผะธ-ัะพ ะพัะตะฝั ะฟัะพัััะผะธโฆ ะฐ ะฝะฐะผ ะฒัั ัะฐะบ ะพะฑัััะฝะธะปะธ, ััะพะฑั ะผั ะฟะพัะฟะพัะพะฑััะฒะพะฒะฐะปะธ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะผั ัะฝะธััะพะถะตะฝะธั. ะะพัะธะทะพะฝั ะทะฐะบัััะธััั, ะฒัั ัั
ะปะพะฟะฝะตััั, ะฝะตั, ะฝะตั, ะฝะต ะดัะผะฐัั…ยป
ะะฝะดัะตะน ะณะปะฐะดะธะป ะตั ััะบั. ะะตะฒัั. ะ ะฟัะฐะฒะพะน ะฑัะปะฐ ัััะบะฐ, ะดะฐะฒะฝะพ ะฟัะพัะฒะฐะฒัะฐั ะฑัะผะฐะณั.
ยซะฅะพัั ะฑััั ัะตะฑัะฝะบะพะผ, โ ัะพัะบะปะธะฒะพ ะพัะพะทะฒะฐะปะฐัั ะฝะฐ ะฟัะธะบะพัะฝะพะฒะตะฝะธั ะะธะทะฐ. โ ะัััั ะฑั ะบัะพ-ัะพ ะทะฐ ะผะตะฝั ะพัะฒะตัะฐะป. ะ ะฐะทะฒะต ัะฐะฝัะฐะทะธะธ ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะฐ ะพ ะฑะพะณะฐั
ะฝะต ัะพ ะถะต ัะฐะผะพะต? ะขะฐะบ ั
ะพัะตััั, ััะพะฑั ะบัะพ-ัะพ ะพัะฒะตัะฐะป ะทะฐ ะฒะตัั ััะพั ะฑะตะดะปะฐะผ. ะัะพ-ัะพ, ะฝะต ััยป.
ะััะปั ะพ ะฑะพะณะฐั
ััะตัะฐะปะฐ, ะฟะพะดะฑะฐะดัะธะฒะฐะปะฐ. ะะฐะฒะตัะฝะพะต, ััะฐ ะผััะปั ัะพะถะต ะฑัะปะฐ ะฐะฝะธะผะตัะฝะพะน, ัะบะปะฐะดัะฒะฐะปะฐัั ะฒ ะพะฑััั ััะธะปะธััะธะบั. ะะธะทะฐ ะดัะผะฐะปะฐ ะพ ัะพะผ, ััะพ ะฒ ัะธะฝัะพะธะทะผะต ะฑะพะณะธ ะฒะพะพะฑัะต ะถะธะฒัั ะฟะพะด ะบะฐะถะดัะผ ะบัััะพะผ ะธ ะธะผ ะผะพะถะฝะพ ะฒ ะปัะฑะพะน ะผะพะผะตะฝั ะฟัะตะดััะฒะธัั ะทะฐ ะฑะฐะทะฐั. ะะฐะปั, ััะพ ะพะฝะฐ ะฝะต ัะธะฝัะพะธััะบะฐ, ะฝะพ ััะพะน ะบะพะฝัะตะฟัะธะตะน ััะพะธะปะพ ะฒะพัะฟะพะปัะทะพะฒะฐัััั.
ะญะฝะตัะณะธั ะฝะฐะบะพะฝะตั ัะบะพะฟะธะปะฐัั ะฒ ัะตะปะต ะธ ะทะฐััััะธะปะฐัั ัะตัะตะท ัััะบั ะฝะฐ ะฑัะผะฐะณั. ะะธะทะฐ ะฟะพะดั
ะฒะฐัะธะปะฐัั ะธ ััะฐะปะฐ ะฟะธัะฐัั, ะฟะพะปัะฑะตััะพะทะฝะฐัะตะปัะฝะพ, ะฟะตัะตะฝะพัั ะฒ ะฑะปะพะบะฝะพั ัััะพัะบะธ ัะฐะฝััะต, ัะตะผ ะพัะพะทะฝะฐะฒะฐะปะฐ ะธั
ัะผััะป.
ยซะะพะณะธ ะดะพะปะถะฝั ะฑััั ะบะฐะบะธะผะธ-ัะพ ะพัะตะฝั ะพะฑััะฝัะผะธ ะธ ะฝะต ะฟะพะดะพะทัะตะฒะฐัั, ััะพ ะพะฝะธ ะฑะพะณะธ. ะัััั ั ะฝะธั
ะฑัะดะตั ะผะฝะพะณะพ ะฑัะผะฐะถะฝะพะน ัะฐะฑะพัั, ะบะฐะบ ั ััะดะพะฒะพะณะพ ะพัะธัะฝะพะณะพ ะฟะปะฐะฝะบัะพะฝะฐ. ะัััั ะพะฝะธ ะฑัะดัั ัะฟะพัะพะฑะฝั ัะฒะพัะธัั, ะฝะพ ะฝะต ะพัะพะทะฝะฐัั ัะฒะพั ะพัะฒะตัััะฒะตะฝะฝะพััั. ะัััั ั ะฝะธั
ะฒัะต ะฒัั
ะพะดะธั ัะปััะฐะนะฝะพ, ะฐ ะฝะฐ ัะตะฐะปัะฝะพััั ะฒะปะธัะตั ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ัะพ, ััะพ ะพะฝะธ ะฟะพัะธัะฐัั ะปัััะธะผ ะธะท ัะพะทะดะฐะฝะฝะพะณะพ…ยป
ะัะพะฒั ะฟัะธะปะธะปะฐ ะบ ัะตะบะฐะผ, ะะธะทะต ััะฐะฝะพะฒะธะปะพัั ะถะฐัะบะพ. ะะฝะฐ ะฟะธัะฐะปะฐ ะฒัั ะฑััััะตะต, ะฑัะดัะพ ะผะตะดะธัะผ โ ะฟัะพะฒะพะดะฝะธะบ ััะถะพะน ะฒะพะปะธ. ะะพะดะทะตะผะฝัะต ัะพะปัะบะธ ััะธั
ะปะธ, ะฝะพ ะะธะทะฐ ะฝะต ะพะฑัะฐัะฐะปะฐ ะฝะฐ ััะพ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั.
ยซะะดะฝะฐ ะธะท ะฑะพะณะธะฝั ะปัะฑะธั ั
ะพะดะธัั ะฒ ะถัะปัะพะผ ะฟะธะดะถะฐะบะต, โ ัััะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะฃ ะดััะณะพะณะพ ะฑะพะณะฐ ัะตะดัะต ััั ัััะพัะบะพะน ะธ ะผะปะฐะดัะฐั ัะตัััะฐ, ะพะฝะฐ ััะถะฐัโฆ ะขัะตัะธะน ะฑะพะณ ะพัะตะฝั ััะผัะฝัะน, ะบัะพะฒั ั ะผะพะปะพะบะพะผ, ะธ ั ะฝะตะณะพ ะฟััะฝะฐั ะฑะพัะพะดะฐ, ะพะฝ ัะฐะทะฑะธัะฐะตััั ะฒ ะผัะทัะบะต…ยป
ะัะตะด. ะ ะตะฐะปัะฝัะน ะฑัะตะด ัะพะฑะฐัะธะน. ะะธะทะฐ ัะถะต ะฒะธะดะตะปะฐ ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน ัะดะธะฒะปัะฝะฝัะต ะปะธัะฐ ััะธั
ะปัะดะตะน, ะฒัะทะฒะฐะฝะฝัั
ะธะท ะฝะตะฑััะธั. ะะฝะธ ะฑัะปะธ ะฒััะฒะฐะฝั ะธะท ะบะพะฝัะตะบััะฐ ัะฒะพะตะน ะถะธะทะฝะธ, ะฒััะฐัะตะฝั ะธะท ัะฐะผัั
ัะฐะทะฝัั
ัะธััะฐัะธะน โ ะฟะพะตะทะดะบะฐ ะฒ ะผะตััะพ, ะบะพะฝัะตัั, ะดะพะผะฐ ะฟะตัะตะด ะผะฐะปะตะฝัะบะพะน ะดะพัะตััั ั ะปะพะถะบะพะน ะบะฐัะธ โ ะธ ัะตะฟะตัั ะพะฝะธ ะฒัะต ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ััะพัะปะธ ะฟะตัะตะด ะฝะตะน, ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ัะผะตัะฝัะผะธ ะฟะพะฒัะตะดะฝะตะฒะฝัะผะธ ะทะฐะฝััะธัะผะธ, ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ะฟะปะฐะฝัะตัะฐะผะธ, ะฝะพัะฐะผะธ ะธ ะปะพะถะบะฐะผะธ, ะฐ ะพะฝะฐ ะพะฑัะฐัะฐะปะฐัั ะบ ะฝะธะผ, ะดะฐะฒั ะฒะฝัััะธ ัะผะตั
:
ยซะะฐะผ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ะทะฐัะตะผ ั ะฒะฐั ะฒัะตั
ะทะดะตัั ัะพะฑัะฐะปะฐ?ยป
ะขะพั, ั ัะตะดัะผะธ ััะฐะผะธ, ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ ะธ ัะฐะทะดัะฐะถัะฝะฝะพ ะฟะตัะตัััะฟะธะป ั ะฝะพะณะธ ะฝะฐ ะฝะพะณั, ะบะฐะบ ะฑั ะฝะฐะผะตะบะฐั, ััะพ ะพะฝ ัะตะปะพะฒะตะบ ะทะฐะฝััะพะน ะธ ะตะผั ะฝัะถะฝะพ ะฒะตัะฝััััั ะบ ัะฐะฑะพัะต. ะะธะทะฐ ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะฟะพะฝััั, ะฟะพัะตะผั ะพะฝะธ ั ะฝะตะน ะฝะต ะณะพะฒะพััั. ะะพะถะตั, ัะตะปะพะฒะตะบั ะฝะต ะดะฐะฝะพ ัะปััะฐัั ะณะพะปะพั ะฑะพะณะพะฒ? ะะท ััะตะน ะบัะพะฒั ะฟะพัะตััั? ะขะพะปัะบะพ ัะตะปะพะฒะตะบ ะผะพะถะตั ะพะฑัะฐัะฐัััั ะบ ะฑะพะณั, ะฝะต ะฝะฐะพะฑะพัะพั.
ะัะพััะฑะฐ ะพะฑััะฝะฐั, ะฟัะพััะฑะฐ ะฑะฐะฝะฐะปัะฝะฐั โ ะฒัั ััะพ ะฝัะถะฝะพ ะพััะฐะฝะพะฒะธัั. ะะฐะฟะตัะฐัะฐัั ะะพะปะฝั. ะั, ัะตะฑััะฐ, ะฝะฐั
ะพะดะธัะตัั ะฝะฐ ะธะทะฝะฐะฝะบะต ะผะธัะฐ, ะฒะธะดะธัะต ะฒัั ะฟัะพััะพ ะธ ััะฝะพ, ะทะฝะฐะตัะต, ะพัะบัะดะฐ ะธะดัั ะฒะตัะพััะฝะพััะฝัะต ะฝะธัะธ. ะ ะฒะฐัะธั
ัะธะปะฐั
ะฟะตัะตะฟะปะตััะธ ะฒัั ะทะฐะฝะพะฒะพ. ะะพัะพะผั ััะพ ะถะธัั ะฒ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพ ะผะตะฝัััะตะผัั ัะฝะพะฒะธะดะตะฝะฝะพะผ ะผะธัะต ะฝะตั ัะถะต ะฝะธะบะฐะบะธั
ัะธะป.
ะงะตะปะพะฒะตะบั ะฝัะถะฝะพ ััะพ-ัะพ, ััะพ ะพะฝ ััะธัะฐะตั ะฝะฐััะพััะธะผ, ะฟะพะดะปะธะฝะฝัะผ. ะขะพะปัะบะพ ััะพ ะดะฐะตั ัะธะปั ัััะตััะฒะพะฒะฐัั. ะะพะนะดะธัะต ะฒ ะฝะฐัะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต.
ะะพะณะธ, ะบะฐะถะตััั, ะฟะพะฝัะปะธ, ะฒะพ ะฒััะบะพะผ ัะปััะฐะต ะบัะพ-ัะพ ะธะท ะฝะธั
ะบะธะฒะฝัะป. ะะธะทะฐ ะฝะฐะดะตัะปะฐัั, ััะพ ะพะฝะธ ะฟะพะฝัะปะธ ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ. ะัั ะฟัะพััะพ ะดะพะปะถะฝะพ ััะฐัั ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพ. ะะตะท ัะธะทะพััะตะฝะธะธ. ะ ััะพั ะฒะฐัะธะฐะฝั ัะฐะทะฒะธัะธั ะฒัะตะปะตะฝะฝะพะน ะฝะฐะดะพ ะทะฐะฑัะฐะบะพะฒะฐัั, ะพัะฟัะฐะฒะธัั ะตะณะพ ัะบะพะผะบะฐะฝะฝัะผ ะธัะฟะธัะฐะฝะฝัะผ ะปะธััะพะผ ะฒ ะผััะพัะฝัั ะบะพัะทะธะฝะบั. ะ ะพะฝะธ ะฒัะต ะฒะตัะฝัััั ะบ ะฝะฐัะฐะปั, ะณะดะต ะฝะตั ะตัะต ะฝะธ ะฒะทะพัะฒะฐะฝะฝะพะน ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ, ะฝะธ ะฟัะพะตะบัะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ. ะ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะฟะพัะตะผั ะธะผะตะฝะฝะพ ะถะธัะตะปัะผ ะะฐะปะฐััะฒัะบะพะณะพ ะบะฒะฐััะฐะปะฐ ัะฐะบ ะฝะต ะฟะพะฒะตะทะปะพ?
ะัััั ะฝะต ะฟะพะฒะตะทัั ะบะพะผั-ัะพ ะดััะณะพะผั. ะญัะพ ะฒะฟะพะปะฝะต ะฒ ะฑะพะถะตััะฒะตะฝะฝัั
ัะธะปะฐั
.
ะัััั ะฝะต ะฟะพะฒะตะทัั ะบะพะผั-ัะพ ะดััะณะพะผั. ะัััั ะบัะพ-ัะพ ะดััะณะพะน ัััะฐะดะฐะตั ะธ ัะฐััะตะปัะตััั. ะัััั ะดัะตะฒะฝัั ั
ัะพะฝั ะฟะพะด ะดะพะผะฐะผะธ ะฝะต ะฑัะดะตั ะฟะพััะตะฒะพะถะตะฝะฐ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะตั ะฟัะพััะพ ะฝะต ัััะตััะฒัะตั. ะะธั ัะบััะฝัะน ะธ ะฑะตะทะพะฟะฐัะฝัะน, ะฟัะธะฒััะฝัะน, ะฝะฐะฟะพะปะฝะตะฝะฝัะน ะฟัะธะฒััะฝัะผ ะทะปะพะผ, ะบะพัะพัะพะต ัะตะผ ะฝะต ะผะตะฝะตะต ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั ะฝะต ั ะฝะฐะผะธ. ะะพัะตะผั ะฝะต ั ะฝะฐะผะธ? ะะพัะพะผั ััะพ ะผั ะฟะพะฟัะพัะธะปะธ, ััะพะฑ ะฝะต ั ะฝะฐะผะธ. ะั ะพัะตะฝั ั
ะพัะพัะพ ะฟะพะฟัะพัะธะปะธ.
ะะฐัั ะฟัััั ะฝะต ะฟัะธั
ะพะดะธั, ะพะฝ ะฝะต ะผะพะถะตัโฆ
— ะะธะทะฐ! ะะธะทะฐ! โ ะะฝะดัะตะน ัะพัะผะพัะธะป ะตั. ะะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ะพะฝะฐ ะฝะฐ ัะตะบัะฝะดั ััะฝัะปะฐ ะฝะฐะด ะฑะปะพะบะฝะพัะพะผ.
ะะธะทะฐ ะพัะบััะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ. ะ ะปะธัะพ ะฑะธะป ััะบะธะน ัะฒะตั. ะะดะฝะฐ ะธะท ััะตะฝ ะบะฐะทะตะผะฐัะฐ ะธััะตะทะปะฐ. ะะฝัััะธ ัะถะต ะฑัะปะพ ะฟัััะพ โ ะฒัะต, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฟะพัะพัะพะฟะธะปะธัั ะฒัะนัะธ. ะะฝะดัะตะน ัั
ะฒะฐัะธะป ะะธะทั ะทะฐ ััะบั ะธ ะฒัะฒะตะป ะธะท ะทะฐัะพัะตะฝะธั. ะะฝะธ ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ะฝะฐ ัะตััะธัะพัะธะธ, ะพะณะพัะพะถะตะฝะฝะพะน ะทะฐะฑะพัะพะผ, ะฟะตัะตััะฟะฐะฝะฝะพะน ะบะธัะฟะธัะพะผ ะธ ะฑะธััะผ ัะตะฑะฝะตะผ. ะะพะทะฐะดะธ ะพััะฐะฒะฐะปัั ะฝะฐะฟะพะปะพะฒะธะฝั ัะฝะตััะฝะฝัะน ะดะพะผ, ะฒะธะดะธะผะพ, ัะพะถะต ะถะตััะฒะฐ ัะตะฝะพะฒะฐัะธะธ.
ะัััั ะฝะต ะฟะพะฒะตะทัั ะบะพะผั-ัะพ ะดััะณะพะผั.
— ะะดะต ะฒัะต? โ ะทะฐะพะทะธัะฐะปะฐัั ะะธะทะฐ.
— ะะตััะบะฐ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฟะพะฑะตะถะฐะป ัะฒะพั ะบะฒะฐััะธัั ะฟัะพะฒะตัััั, ะธะฝัะตัะตัะฝะพ ะถะต, ะธััะตะทะปะฐ ะพะฝะฐ ะธะปะธ ะฝะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะั ะธ ะพััะฐะปัะฝัะต ะทะฐ ะฝะธะผ ะฟะพััะฝัะปะธัั. ะัะพะผะต ะจะตัะณะธะฝัั
. ะะฝั ััะพ-ัะพ ัะพะฒัะตะผ ะฟะปะพั
ะฐ, ะพะฝะธ ะดะพะผะพะน ะฟะพัะปะธ.
— ะัะบัะดะฐ ะทะดะตัั ะผะพะณ ะฒะทะปะตัะตัั ะฒะตััะพะปััโฆ โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ ะะธะทะฐ.
— ะงัะพ?
— ะะธัะตะณะพ, ะพ ะฝะตะบะพัะพััั
ะฒะตัะฐั
ะปัััะต ะฝะต ะดัะผะฐััโฆ
— ะะฐัั ะฟะพัะธัะฐัั, ััะพ ั ัะตะฑั ะฟะพะปััะธะปะพัั? โ ะะฝะดัะตะน ะฟะพััะฝัะปัั ะบ ะฑะปะพะบะฝะพัั.
— ะะต ััะพะธั, โ ะพัะบะฐะทะฐะปะฐัั ะะธะทะฐ ะธ ัะตััะฝะพ ะดะพะฑะฐะฒะธะปะฐ, โ ะญัะพ ั
ัะดัะตะต ะผะพั ะฟัะพะธะทะฒะตะดะตะฝะธะต. ะะฒัะพะผะฐัะธัะตัะบะพะต ะฟะธััะผะพ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะผะพะน ะผะตัะพะด. ะกัััะตะฐะปะธััั ะฑั ะถะธะฒะพัะธะบะธ ะฝะฐะดะพัะฒะฐะปะธ.
— ะะต ะดัะผะฐั, ััะพ ััะพ ั
ัะดัะตะต ะฟัะพะธะทะฒะตะดะตะฝะธะต. ะ ะธััะตัั ัั ัะพัะฝะพ ะฝะฐะผะฝะพะณะพ ั
ัะถะต!
ะะฝะธ ัะฐััะผะตัะปะธัั ะธ ััะฐะปะธ ะฟะตัะตะฑะธัะฐัััั ัะตัะตะท ะบะฐะผะตะฝะฝัะต ะทะฐะฒะฐะปั.
ะัะปัะฝัะน ะพัะตะฝะฝะธะน ะฒะพะทะดัั
ะฟะฐั
ัััะพะน ัััะบะฐัััะบะพะน, ัะตะฑัะฝะบะพะน, ะปัะณะบะธะผ ะดะพะถะดัะผ. ะะฐัะธะฝั ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟะพะปะทะปะธ ะฟะพ ะฟะตัะตัะปะบั, ะฟะตัะตะบะพะฟะฐะฝะฝะพะผั ะพัะตัะตะดะฝัะผ ัะตะผะพะฝัะพะผ. ะขัั ะธ ัะฐะผ ะปะตะถะฐะปะธ ัะพะปัััะต ะบัะฐัะฝัะต ัััะฑั, ะฟะพั
ะพะถะธะต ะฝะฐ ัะฟะฐะณะตััะธ. ะะฐััะฐ ัะพะฑัะฝัััะฐ, ะบะฐะบ ัะบะฐะทะฐะป ะพะดะธะฝ ะตั ะดััะณ. ะะฝะดัะตะน ะธ ะะธะทะฐ ะฟัะพะฑะธัะฐะปะธัั ะฟะพ ััะปะพะถะฝัะฝะฝะพะผั ัะตะผะพะฝัะพะผ ะปะฐะฝะดัะฐััั, ะพะฑั
ะพะดั ะทะฐะณัะฐะถะดะตะฝะธั ะธ ัััะฟะฐั ะฒ ะผะพะบััะน ะฟะตัะพะบ. ะัั ััะพ ะฑัะปะพ ัััะฐัะฝะพ ัะพะดะฝัะผ ะธ ััะฟะพะบะฐะธะฒะฐััะต ะฟัะธะฒััะฝัะผ. ะ ะพะดะฝะพะต, ะฟัะธะฒััะฝะพะต ะทะปะพ, ะฝะฐัะตะฟะธะฒัะตะต ะผะฐัะบั ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพะณะพ ะฑะปะฐะณะพััััะพะนััะฒะฐ, ะทัััะฝัั
ััะฐั ะฒ ะฟะพะฟััะบะฐั
ัะดะตะปะฐัั ัะดะพะฑะฝะตะต ัะพ, ััะพ ะธ ัะฐะบ ัะดะพะฑะฝะพ, ัะธัะต ัะพ, ััะพ ะธ ัะฐะบ ัะธััะพ, ะปัััะต ัะพ, ััะพ ะธ ัะฐะบ ั
ะพัะพัะพ. ะฃะปัััะฐะนะทะตั, ะฟะพะณััะถะฐััะธะน ะฒัั ะฒ ะณััะทั ะธ ั
ะฐะพั. ะจะธะทะพััะตะฝะธั. ะะตั, ะพะฑัะตััะธะฒะฝะพ-ะบะพะผะฟัะปััะธะฒะฝะพะต ัะฐััััะพะนััะฒะพ. ะะพั ะปะธัะพ ะดะตะผะพะฝะฐ ะะพัะบะฒั. ะัะปะธ ะตััั ะฑะพะณะธ, ัะพ ะตััั ะธ ะดะตะผะพะฝั, ะฟัะฐะฒะดะฐ? ะ ะผะพะถะตั, ะฑะพะณะธ ะธ ะดะตะผะพะฝั โ ััะพ ะพะดะฝะพ ะธ ัะพ ะถะต? ะัะพััะพ ัะธะปั, ะบะพัะพััะต ััะพ-ัะพ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพ ะฟะพะดะบัััะธะฒะฐัั ะฒ ะผะธัะพะทะดะฐะฝะธะธ.
ะะธะทะต ะะตะนะฝะตะฝ ะฝะต ั
ะพัะตะปะพัั ะฑััั ะฝะธ ะฑะพะณะพะผ, ะฝะธ ะดะตะผะพะฝะพะผ. ะะฐะฟัะพัะธะฒ, ะตะน ั
ะพัะตะปะพัั ะฝะฐะฒัะตะณะดะฐ ัะฑัะพัะธัั ั ัะตะฑั ััะพั ะณััะท ะพัะฒะตัััะฒะตะฝะฝะพััะธ, ะฐ ะฟะพัะพะผ ะฒัะปะฐััั ััะณะฐัั ัะตั
, ะบัะพ ัะพั
ัะฐะฝะธะป ัะฟะพัะพะฑะฝะพััั ััะพ-ัะพ ัะตัะฐัั. ะงะตััะฝะพะต ัะปะพะฒะพ, ะฝะธะบัะพ ะฒ ัะตะปะพะผ ัะฒะตัะต ะฝะต ั
ะพัะตั ััะพ-ัะพ ัะตัะฐัั, ะบัะพะผะต ััะผะฐััะตะดัะธั
, ะบะพัะพััะต ะปัะฑัั ะฒะปะฐััั ะฑะพะปััะต ะฒัะตะณะพ ะฝะฐ ัะฒะตัะต. ะะธะทะฐ ะฝะต ััะผะฐััะตะดัะฐั.
— ะะฝะดัะตะน, ะฐ ะผั-ัะพ ะบัะดะฐ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ.
— ะะตะผะฝะพะณะพ ะพััะฐะปะพัั. ะะดะตัั ะฝะตะดะฐะปะตะบะพ.
— ะญัะพ ัััะฟัะธะท? ะฃ ะฝะฐั ะพัะตะฝั ะดะฐะฒะฝะพ ะฝะต ะฑัะปะพ ัััะฟัะธะทะพะฒ.
— ะะฐะบัะพะน ะณะปะฐะทะฐ.
— ะะฐ ะบะฐะบ ั ะทะฐะบัะพั, ััั ะถะต ัััั ะฝะพะณั ัะปะพะผะธัโฆ
— ะฏ ัะตะฑั ะฟัะพะฒะตะดั. ะะตัะถะธัั ะบัะตะฟัะต.
ะัะตะถะดะต ัะตะผ ะฟะตัะตั
ะฒะฐัะธัั ะบัะตะฟะบัั ัะพะดะฝัั ะปะฐะดะพะฝั, ะะธะทะฐ ะฒะฝะพะฒั ะพัะบััะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพั ะธ ััะพ-ัะพ ะฒ ะฝะตะผ ะทะฐะฟะธัะฐะปะฐ, ััะพ-ัะพ ะดะฐะถะต ะฑะพะปะตะต ัะตะทะบะพะต, ัะตะผ ะฟะพะทะฒะพะปัะป ัะตะฑะต ะขััะณะตะฝะตะฒ, ะฝะฐั
ะพะดััั ะฒ ะฟะธัะฐัะตะปััะบะพะผ ะฑะปะพะบะต. ะ ะฒ ัะปะตะดัััะตะต ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะผะตัะฝัะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพั ะฝะฐ ะฟัะพะตะทะถัั ัะฐััั โ ะฟะพะด ะบะพะปััะฐ ะทะฐะฑะธะฑะธะบะฐะฒัะตะณะพ ัะฐะบัะธ.
ะะธะทะฐ ะทะฐะบััะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ. ะัะตะฝะฝัั ัััะพััั ะพะฑะฝะธะผะฐะปะฐ ะตั, ะฒะตัะตั ะณะปะฐะดะธะป ัะตะบะธ. ะกะตะนัะฐั ะฑัะดะตั ัะบะฒะตั, ะณะดะต ัะตะปะตัััั ะดะตัะตะฒัั, ัะฐะทะฑัะฐััะฒะฐั ัะผะพััะตะฝะฝัะต ะฟะธััะผะตะฝะฐ ะปะธัััะตะฒ. ะ ัะฐะผ ะฝะตะดะฐะปะตะบะพ ะธ ะดะพ ะดะพะผะฐโฆ ะะธะทะฐ ะทะฝะฐะตั ััั ะฒัะต ะฝะฐะธะทัััั, ััะพ ะฝะพะฒะพะณะพ ะผะพะณ ะพัััะบะฐัั ะดะปั ะฝะตั ะะฝะดัะตะน, ััะพ ะทะฐ ัััะฟัะธะทโฆ
ะะฐะปััั ั ะฝะตะณะพ ั
ะพะปะพะดะฝัะต, ะฝะต ะฟะพ ะฟะพะณะพะดะต ะพะดะตะปัั ะธ ะฒะพั ะทะฐัััะป. ะะต ะถะฐะปัะตััั, ะฟัะธะฒัะบ ัะตัะฟะตัั. ะัะตะฟะบะธะน, ะทะฐะบะฐะปัะฝะฝัะน ะพัะณะฐะฝะธะทะผ. ะะฝ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะธ ะฒ ะผะธะฝัั ะฟััั ัะฟะพัะพะฑะตะฝ ะฟะพ ะะพัะบะฒะต ะฒ ัััะฑะพะปะบะต ัะฐัะฐัััั. ะ ัะฝะตะณะพะผ ะฑั ะทะธะผะพะน ัะฐััะธัะฐะปัั, ะตัะปะธ ะฑั ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะณะพะดั ััั ะฑัะป ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฒะฝััะฝัะน ัะฝะตะณ.
ะะฐะปััั ั
ะพะปะพะดะฝัะต, ะฒะพะดัะฝะธัััะต, ะฟะพั
ะพะถะธะต ะฝะฐ ะฒะพะดัะฝัะต ะฑะพะผะฑะพัะบะธ, ะบะพัะพััะต ะพะฝะธ ะบะธะดะฐะปะธ ั ะฑะฐะปะบะพะฝะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะะฝะดัะตะน ะฟัะธััะป ะบ ะฝะตะน ะฝะฐ ะดะตะฝั ัะพะถะดะตะฝะธั, ัะพะณะดะฐ, ะดะฐะฒะฝะพ, ะธะผ ะฑัะปะพ ะฟะพ ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะปะตัโฆ
— ะะฝะดัะตะน?
— ะะผะผ?..
— ะะพะฒะพัะธ ััะพ-ะฝะธะฑัะดั, ะผะฝะต ะฟะพัะตะผั-ัะพ ัััะฐัะฝะพ.
— ะะฝะต ะบะฐะถะตััั, ะผั ั ััะธะผ ะฝะต ะทะฐะบะพะฝัะธะปะธ.
— ะก ัะตะผ ะธะผะตะฝะฝะพ?
— ะก ะะพะปะฝะพะน.
— ะะต ะฝะฐะดะพ ะพ ะฝะตะน. ะะต ะดัะผะฐะน ะพ ะฑะตะปะพะน ะพะฑะตะทััะฝะต, ะธ ะพะฝะฐ ะฝะต ะฟะพัะฒะธััั.
— ะฏ ััะธัะฐั, ััะพ ัะฒะพะตะณะพ ะฑะปะพะบะฝะพัะฐ ะผะฐะปะพ, ััะพะฑั ะทะฐะฟะตัะฐัะฐัั ะะพะปะฝั. ะัะถะฝะพ ัะฟัััะธัััั ะฟะพะด ะทะตะผะปั ะธ ะฟะพะบะพะฝัะธัั ั ะฝะตะน ัะฐะผ.
— ะฏ ะพัะฟะธัะฐะปะฐัั ะพั ััะพะณะพ, โ ัะตัะดะธัะพ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะฏ ะฑะพะปััะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ัะผะพะณั, ั ะผะตะฝั ะฝะตั ัะฟะพัะพะฑะฝะพััะตะน. ะัััั ะดััะณะธะต ั
ะพัั ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฟะพัะฐะฑะพัะฐัั. ะฏ ะฝะต ั
ะพัั ะทะฐ ะฒัั ะพัะฒะตัะฐัั. ะะตััะบะฐ ะฒะพะฝ ัะตะปัั ะบะฒะฐััะธัั ัะตะฑะต ะฝะฐะฒะพะพะฑัะฐะถะฐะป, ะฟัััั ะทะฐะฟะตัะฐััะฒะฐะตั, ะตัะปะธ ั ะฝะตะณะพ ัะฐะบะฐั ะฟัะธั
ะธัะตัะบะฐั ัะธะปะฐโฆ
ะะธะทะฐ ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั. ะขะพะปัะบะพ ััะพ ะพะฝะฐ ะดะตัะถะฐะปะฐ ั
ะพะปะพะดะฝัั ััะบั ะะฝะดัะตั, ะฐ ัะตะฟะตัั?
ะะฐะปััั ั
ะฒะฐัะฐะปะธ ะฒะพะทะดัั
.
— ะะฝะดัะตะน?
ะัะบััะฒะฐัั ะณะปะฐะทะฐ ัะปะตะดะพะฒะฐะปะพ ัะฐะฝััะต.
ะฃะปะธัะฐ ะฑัะปะฐ ะฟัััะฐ. ะะตัะตะฒัั ัะบะปะพะฝะธะปะธัั ะฝะฐะด ะะธะทะพะน, ะฝะพ ะผะพะปัะฐะปะธ, ะฒะตัะตั ััะธั
, ะฝะต ัะตะฟัะฐะป, ะฝะต ะณะปะฐะดะธะป, ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะพะฑะตัะฐะป.
ะะธะทะฐ ะฝะต ะฟะพะผะฝะธะปะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะท ะพััะฐะฒะฐะปะฐัั ะพะดะฝะฐ. ะัะตะฝั ะดะฐะฒะฝะพ. ะัะตะณะดะฐ ะฝะต ะพะดะฝะฐ. ะฅะพัั ะฑั ะฒะธัััะฐะปัะฝะพะต ยซะดะพะฑัะพะต ัััะพยป ะธ ยซัะฟะพะบะพะนะฝะพะน ะฝะพัะธยป, ะฐ ัะฐัะต ะดะพะปะณะฐั ะฟะตัะตะฟะธัะบะฐ ะฟะตัะตะด ัะฝะพะผ ะธ ะฝะต-ัะฐะทะปะตะน-ะฒะพะดะฐ ะฒ ะปัะฑะพะต ะฒะพะทะผะพะถะฝะพะต ะฒัะตะผั โ ััะพ ะฑัะปะพ ะฟัะพ ะฝะธั
ั ะะฝะดัะตะตะผ. ะะฝะฐ ะพัะฟะปัะฒัะฒะฐะปะฐัั ะพั ะฒัะตั
, ะบัะพ ะผะพะณ ะฒัะบะฝััั, ััะพ ะปัะดัะผ ะฝะตะพะฑั
ะพะดะธะผะพ ะปะธัะฝะพะต ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะพ ะธ ะพะฝะธ ั ะะฝะดัะตะตะผ ัะบะพัะพ ัััะฐะฝัั ะดััะณ ะพั ะดััะณะฐ.
ะะดะธะฝะพัะตััะฒะพ ะดะปั ัะปะฐะฑะฐะบะพะฒ.
— ะัะฒะปะตะบะฐะป ะผะตะฝั ะดะพ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะณะพ, โ ะฟัะพัะตะฟัะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะะปะฐะทะฐ ะฒะตะปะตะป ะทะฐะบััััโฆ
ะะฝะฐ ะฟัะธัะปะพะฝะธะปะฐัั ัะฟะธะฝะพะน ะบ ั
ะพะปะพะดะฝะพะน ััะตะฝะต. ะะฐะปะตะบะพ ะฒะฟะตัะตะดะธ, ะฒ ะบะพะฝัะต ะฟะตัะตัะปะบะฐ, ะผะฐััะธะปะฐ ะบะพะปะพะบะพะปัะฝั โ ัะธะผะฒะพะป ะะฐะปะฐััะฒัะบะพะณะพ ะบะฒะฐััะฐะปะฐ.
ะะปะฐะฒะฐ 20. ะะปะฐะดะธะผะธั ะะตัะตะทะธะฝ. ะะพะด ะดะฐัะฝัะผ ะฐะฑะฐะถััะพะผ

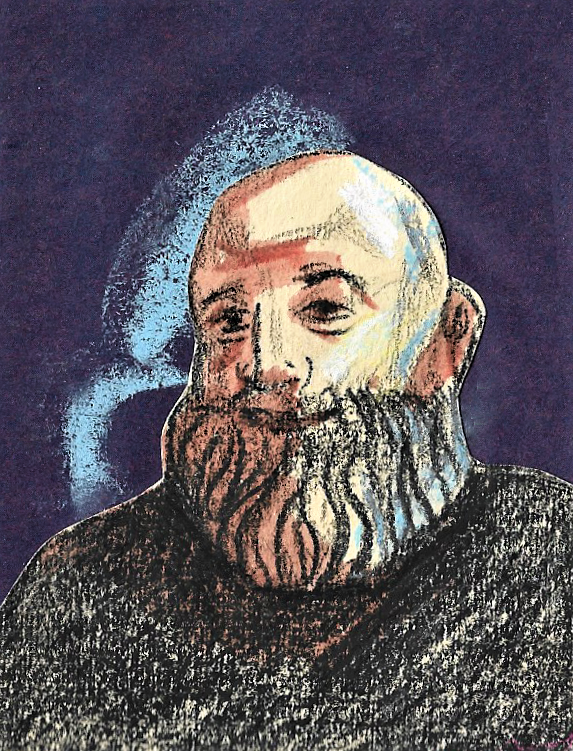
ะะฝะธ ะฒััะปะธ ะฝะฐ ััะฐะฝัะธะธ, ะบะพัะพัะฐั, ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพ, ะฑัะปะฐ ะธ ะฝะต ััะฐะฝัะธะตะน, ะฐ ะฟะปะฐััะพัะผะพะน, ะฝะฐะทะฒะฐะฝะฝะพะน ะฟะพ ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพะผั ะบะพะปะธัะตััะฒั ะบะธะปะพะผะตััะพะฒ, ะพัะดะตะปัะฒัะตะผั ะตะต ะพั ะณะพัะพะดะฐ. ะัะปะพ ะฟััััะฝะฝะพ, ะฑัะดัะพ ะฒัะต ะผะตััะฝัะต ะถะธัะตะปะธ ะฟัะพะฒะฐะปะธะปะธัั ะฒ ะดััะณะพะต ะธะทะผะตัะตะฝะธะต.
ะะธะทะฐ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะฟัะธะฒัะบะฝััั ะบ ะฟะพัะฒะปะตะฝะธั ะะฝะดัะตั, ะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะฟัะธะฒัะบะฝััั ะบ ะตะณะพ ะธััะตะทะฝะพะฒะตะฝะธั. ะ ััะพะผ ะทะฐะณะฐะดะพัะฝะพะผ ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะต, ะบะฐะทะฐะปะพัั, ะพะฝ ะฟะพะฒะทัะพัะปะตะป ะฝะฐ ะณะพะด, ะธ ะะธะทะฐ ั ัะดะธะฒะปะตะฝะธะตะผ ัะฒะธะดะตะปะฐ ะทะฐััะฝัะฒัะธะนัั ััะฐะผ ะฝะฐ ะตะณะพ ะปะฐะดะพะฝะธ. ะะฝ ะผะพะปัะฐะป ะฝะตะฟัะธะฒััะฝะพ, ะฑัะดัะพ ะฝะฐะฑัะฐะฒ ะณะฒะพะทะดะตะน ะฒ ัะพั. ะะฐะบะพะต-ัะพ ะฒะฐะถะฝะพะต ะทะฝะฐะฝะธะต ะะฝะดัะตะน ะฟะพะปััะธะป ะฒ ัะฒะพะต ะพััััััะฒะธะต, ะฝะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะพะฑัััะฝะธะป, ะฐ, ะฒะทัะฒ ะทะฐ ััะบั, ะฒััะฐัะธะป ะะธะทั ะธะท ะดะพะผะฐ ะธ ะพัะฟัััะธะป ะปะธัั ะฒ ัะพั ะผะพะผะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะบะพัะผะธะป ะผะพะฝะตัะฐะผะธ ะบะฐััะพะฒัะน ะฐะฟะฟะฐัะฐั. ะขะพะปัะบะพ ะบะพะณะดะฐ ัะปะตะบััะธัะบะฐ ะพััะตั
ะฐะปะฐ, ะฟัะพะธะทะฝัั:
โ ะขั, ะณะปะฐะฒะฝะพะต, ะฝะธัะตะผั ะฝะต ัะดะธะฒะปัะนัั. ะะฝะต ะฒัั ััะฐะปะพ ััะฝะพ. ะ ั ะฟะพะฝัะป, ะบัะดะฐ ะฝะฐะผ ะฝัะถะฝะพ ะตั
ะฐัั โ ะบ ะผะพะตะผั ะฟัะฐะดะตะดั. ะะฝ ัะพัะพะบ ะปะตั ัะธะดะธั, ะบะฐะบ ะผะตะดะฒะตะดั ะฒ ัะฒะพะตะน ะฑะตัะปะพะณะต, ะฝะฐ ะดะฐัะต ะฒ ะฟะพััะปะบะต ะณะตะฝะตัะฐะปะพะฒ. ะัะฐะดะตะด ะดะพะปะถะตะฝ ะฑัะป ะฒะพะพะฑัะต ะฑััั ะผะฐััะฐะปะพะผ, ะฝะพ ะฟัะพะธะทะพัะปะฐ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะทะฐะณะฐะดะพัะฝะฐั ะธััะพัะธั, ะธ ะพะฝ ะพัััะธะปัั ะฒ ะพัััะฐะฒะบะต ััะตะดะธ ะผะฐะปะธะฝั ะธ ัััะฝะพะน ัะผะพัะพะดะธะฝั. ะะธะบัะดะฐ ะฝะต ะฒัะตะทะถะฐะตั ะธ, ะบะฐะถะตััั, ะฒัั ะฒัะตะผั ะฟะตัะตะธะณััะฒะฐะตั ะฟัะพะธะณัะฐะฝะฝัะต ััะฐะถะตะฝะธั. ะั ะฝะต ะทะฝะฐั, ะผะพะถะตั, ะทะฐัะตะฒะฐะตั ะฝะพะฒัะต.
โ ะะฝ ัะฐะผ ะพะดะธะฝ?
โ ะะตั, ะตะผั ะฟะพะผะพะณะฐะตั ะฑัะฒัะธะน ะฐะดัััะฐะฝั ะธ, ะบะฐะถะตััั, ะตัั ะบัะพ-ัะพ. ะะพ ัะฐะผะพะต ะณะปะฐะฒะฝะพะต, ััะพ ั ะฝะตะณะพ ัะฐะผ ะปะตะถะธั ะพะบะบะฐะผะตััะพะฝ. ะะฐะบ ััะพ ััะพ? ะขั ััะพ, ัะตะปะตะฒะธะทะพั ะฝะต ัะผะพััะธัั? ะ ะฐะทะฒะต ะฝะต ะฟะพะผะฝะธัั ะฟัะพ ะฝะฐัะธััะพะฒ, ะะฝะตะฝะตัะฑะต ะธ ะฒัั ัะฐะบะพะต? ะฏ ัะตะนัะฐั ะดัะผะฐั, ััะพ ะฒ ัะพะผ ัะธะปัะผะต ะฟัะพ ะฐะณะตะฝัะพะฒ ะฒ ัััะฝะพะผ ะฑัะปะฐ ะฝะต ัััะบะฐ, ะฐ ะฟัะฐะฒะดะฐ: ัะฐะผัะต ะฒะฐะถะฝัะต ะฒะตัะธ ะฒัะตะณะดะฐ ะฒ ะพัะบัััะพะผ ะดะพัััะฟะต. ะ ะฒัั ัะฐััะบะฐะทะฐะฝะพ ะฒ ะฟะตัะตะดะฐัะฐั
ะฟัะพ ะฟัะธัะตะปััะตะฒ ะธ ะณัะฐะถะดะฐะฝัะบัั ัะฐะนะฝั. ะ ะพะบะบะฐะผะตััะพะฝ ะพััะตะบะฐะตั ะดะพะฟะพะปะฝะตะฝะฝัั ัะตะฐะปัะฝะพััั. ะฏ ะฒะธะดะตะป ะฟะตัะตะดะฐัั ะฟัะพ ะฝะตะณะพ, ะฒะตัะฝะตะต, ะตะณะพ ะทะฐะฑะพั ะฒ ััะพะน ะฟะตัะตะดะฐัะต. ะัะฐะดะตะด ะถััะฝะฐะปะธััะพะฒ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะฐ ะฟะพัะพะณ ะฝะต ะฟัััะธะป, ะฝะพ ะพะฝะธ ะฑะตะณะฐะปะธ ะฒะดะพะปั ะทะฐะฑะพัะฐ ะธ ะฑะพัะผะพัะฐะปะธ, ััะพ ะทะฐ ััะธะผะธ ะทะตะปัะฝัะผะธ ะดะพัะบะฐะผะธ ั
ัะฐะฝะธััั ัะฐะนะฝะฐ ะฒัะตะณะพ ัััะตะณะพ.
โ ะ ะฝะต ะฒะปะตะทะตั ะปะธ ัะตะฟะตัั ะบัะพ-ะฝะธะฑัะดั ะบ ะฝะตะผั? ะั, ะทะฐ ัะฐะบะพะน ัััะบะพะน?
โ ะขะฐะผ ะพั
ัะฐะฝั ะฟะพะปะฝะพ. ะ ััะพะผ ะฟะพััะปะบะต ะฒะตะดั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฑัะฒัะธะต ะณะตะฝะตัะฐะปั ะถะธะฒัั, ะฝะพ ะธ ะฒะฟะพะปะฝะต ะดะตะนััะฒัััะธะต. ะะพ ััะพ ะฒัั ะฝะตะฒะฐะถะฝะพ, ะณะปะฐะฒะฝะพะต, ััะพ ัะพ ะฑะตะทัะผะธะต, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ะผั ะถะธะฒัะผ, ัะฟัะพััะธััั. ะะต ะทะฝะฐั, ะบะฐะบ ััะพ ัะฐะฑะพัะฐะตั, ั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะต ะพัะตะฝั ะฒะตัั ะฒ ััะธ ะปะตะฟัะพะฝะฝัะต ะฟะพัะพะบะธ, ัะพััะธะพะฝะฝัะต ะฟะพะปัโฆ ะะพ ะทะดะตัั, ะบะฐะบ ั ะณะพะผะตะพะฟะฐัะธะตะน โ ะตัะปะธ ะพััะฐัะปัั, ัะพ ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ, ะบะฐะบ ะพะฝะฐ ะดะตะนััะฒัะตั, ะปะธัั ะฑั ะดะตะนััะฒะพะฒะฐะปะฐ.
ะะฝะดัะตะน ะณะพะฒะพัะธะป ะธ ะณะพะฒะพัะธะป, ะฐ ัะฐะผ ะดัะผะฐะป ะพ ะดััะณะพะผ. ะะฝ ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฝะต ะฑัะป ัะฒะตัะตะฝ ะฒ ัะฒะพัะผ ะฟะปะฐะฝะต. ะะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะท ะพะฝ ะฒะธะดะตะป ะฟัะฐะดะตะดะฐ ะปะตั ะดะตัััั ะฝะฐะทะฐะด.
ะกัะฐััะน ะณะตะฝะตัะฐะป ััะธะป ะฟะพัะพะผะบะพะฒ, ััะพ ะตััั ัะพะปัะบะพ ะดะฒะฐ ะธััะพัะฝะธะบะฐ ะฝะตัะดะฐั: ะฟัะฐะทะดะฝะพััั ะธ ััะตะฒะตัะธะต, ะธ ัะพะปัะบะพ ะดะฒะต ะฟัะธัะธะฝั ััะฟะตั
ะฐ: ัะฐะฑะพัะฐ ะธ ัะผ. ะัะผะฐะปะธ, ััะพ ะพะฝ ะฟะธัะตั ะผะตะผัะฐัั, ะฝะพ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะฒะธะดะตะป ะฝะธ ะพะดะฝะพะน ัััะฐะฝะธัั. ะัะตั ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะป ะะฝะดัะตั, ััะพ ััะฐัะธะบ ะดะพ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะณะพ ัะฐะฑะพัะฐะป ะฒ ัะฐะดั, ะฝะพ ัะตะนัะฐั ะตะณะพ ะฟัะพััะพ ะฒัะฒะพะทะธะปะธ ััะดะฐ ะฝะฐ ะบะพะปััะบะต, ะฟะพะดะฐัะตะฝะฝะพะน ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะฟะพะฑะตะถะดัะฝะฝัะผ ะธะผ ะฒ ะฟัะพัะปะพะผ ะฒะตะบะต ะณะตะฝะตัะฐะปะพะผ. ะกัะฐัะธะบ ัะถะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะทะฝะฐัะธะป ะฒ ะฒัััะธั
ะบััะณะฐั
, ะฝะพ ะผะพะปะพะดัะต ะณะตะฝะตัะฐะปั ะฝะฐะฒะตัะฐะปะธ ะตะณะพ, ะฑัะดัะพ ะฟัะธะฝะพัั ะดะฐัั ะดัะตะฒะฝะตะผั ะฑะพะถะตััะฒั.
ะะธัะพ ะฟัะตะดะบะฐ ะฟัะพัััะฟะฐะปะพ ะฒ ะฟะฐะผััะธ ัะผััะฝะพ, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะฒััะฒะตััะตะน ัะพัะพะณัะฐัะธะธ. ะะฐะปััะธะบะฐ ะฟัะธะฒะตะทะปะธ ะฝะฐ ััั ะดะฐัั ัะพะฒัะตะผ ะบัะพั
ะพัะฝัะผ, ะธ ะพะฝ ะฟะพะผะฝะธะป ัะพะปัะบะพ ะฟัะพั
ะปะฐะดั ะฒะฝัััะธ ะดะพะผะฐ, ะบะฐััั ะฝะฐ ััะตะฝะฐั
ะธ ััะพะปะฐั
, ะฐ ะตัั โ ัะฐะฑะปั ะฝะฐ ััะตะฝะต. ะขะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฟะพััะฝัะปัั ะบ ััะพะน ัะฐะฑะปะต, ัะตะผ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะป ะฟัะฐะดะตะดะฐ. ะะตะดั ะพะฝ ะฟัะพะบะปัะป ัะฒะพั ะดะพัั, ะบะพะณะดะฐ ัะฐ ะฒััะปะฐ ะทะฐะผัะถ ะทะฐ ัะฟะพัััะผะตะฝะฐ, ะธ ะฟัะพะบะปัะป ะฒัะตั
ะพััะฐะปัะฝัั
, ะบะพะณะดะฐ ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะฒะฝัะบ ะฝะต ะฟะพะนะดัั ะฒ ะฒะพะตะฝะฝะพะต ััะธะปะธัะต. ะ ะบะพะณะดะฐ ะฟัะฐะฒะฝัะบ ัั
ะฒะฐัะธะป ัะฐะฑะปั ะทะฐ ััะบะพััั, ะพะฝ, ะบะฐะถะตััั, ะฟัะพััะธะป ะธะผ ะฒัั.
ะะฟัะพัะตะผ, ัะฐัะต ะฒะธะดะตัััั ะพะฝะธ ะฝะต ััะฐะปะธ. ะ ัะตะนัะฐั ะฟะพ ัะตะปะตัะพะฝั ั ะฟัะฐะฒะฝัะบะพะผ ะณะพะฒะพัะธะป ััะฐัะธะบ-ะฐะดัััะฐะฝั. ะขะฐะบ ััะพ, ั
ะพัั ะฟัะฐะดะตะด ะธ ะฝะฐะทะฝะฐัะธะป ะฒัะตะผั ะฒะธะทะธัะฐ, ะะฝะดัะตะน ะฒัะฐะนะฝะต ะพะฟะฐัะฐะปัั, ััะพ ะดะฐัะฝัะต ะฒะพัะพัะฐ ะฟัะพััะพ ะฝะต ะพัะบัะพัััั.
ะะฐ ะธ ะฝะต ะฑัะดั ัะตะปะตะฒะธะทะธะพะฝะฝะพะน ะฟัะพะณัะฐะผะผั ั ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ััะผะฐััะตะดัะธะผ ะฒะตะดััะธะผ, ะพะฝ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฑั ะฝะต ัะตัะธะปัั ะฝะฐะฒะตััะธัั ะฟัะฐะดะตะดะฐ ะฑะตะท ะฒะตะดะพะผะฐ ัะพะดะธัะตะปะตะน. ะ ััะพะน ะฟัะพะณัะฐะผะผะต ัะฐััะบะฐะทะฐะปะธ ะพ ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะผ ะฟัะธะฑะพัะต, ะบะพัะพััะน ะธะทะผะตะฝัะตั ะพะบััะถะฐััะธะน ะผะธั, ััััะฐะฝัั ะธะท ะฝะตะณะพ ะฒัั ะฝะตะฝัะถะฝะพะต. ะ ะะฝะดัะตั ัะถะต ััะฐะปะพ ะบะฐะทะฐัััั, ััะพ ัะพะปัะบะพ ะฟะพััััั ั
ะพัะพัะตะฝัะบะพ ะณะปะฐะทะฐ, ะธ ะฒัะต ัะพะฑััะธั ะฟะพัะปะตะดะฝะธั
ะผะตัััะตะฒ ะฟัะพะฒะฐะปัััั ะฒ ะฝะธะบัะดะฐ, ััะฐะฝัั ะฝะตะปะตะฟัะผะธ, ะบะฐะบ ัะตััะฐะดะบะธ ะทะฐ ะฟัะพัะปัะน ะณะพะด. ะััะตะทะฝัั ะฒัะต ััะธ ะณะปัะฟัะต ะฟะพััะฐะปั ะธ ะฝะตะปะตะฟัะต ะทะปะพะดะตะธ โ ะฒ ะพะฑัะตะผ, ะฒัั ัะฐััะฒะพัะธััั. ะัะพะผะต ะะธะทั, ะบะพะฝะตัะฝะพ.
ะะฝะธ ะฒัะฟััะณะฝัะปะธ ะธะท ะผะฐัััััะบะธ ะฟััะผะพ ั ะดะพัะพะถะฝะพะณะพ ะทะฝะฐะบะฐ. ะะฐ ัะธะฝะตะผ ัะพะฝะต ะทะฝะฐัะธะปะพัั ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะต, ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะฝะพะต ะณััะทะฝะพ-ะฑะตะปัะผะธ, ะฑัะดัะพ ะพะฑะปัะฟะธะฒัะธะผะธัั ะฑัะบะฒะฐะผะธ: ยซะััะพะณะพััะบะพะตยป. ะ ัะดะพะผ ั ะฟะตัะฐะปัะฝัะผ ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝัะผ ะทะฝะฐะบะพะผ ะฑัะป ะดััะณะพะน, ะฐะบะบััะฐัะฝัะน, ะณะดะต ะฝะฐ ะทะตะปัะฝะพะผ ัะพะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะพ ยซะะะ โะััะพะณะพััะตโยป.
โ ะะฐะผ ััะดะฐ, โ ัััะพะฒะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน, ะธ ะพะฝะธ ัะฒะตัะฝัะปะธ ั ััะฐััั ะฝะฐ ะฑะพะบะพะฒัั ะดะพัะพะณั, ะบะฐะทะฐะปะพัั, ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพ ะทะฐะผะฐัะบะธัะพะฒะฐะฝะฝัั ะพั ััะถะธั
ะณะปะฐะท. ะกัะพัะปะพ ะฟัะตะบัะฐัะฝะพะต ัััะพ, ัะฐะบะพะต, ะบะฐะบะธะผ ะพะฝะพ ะผะพะถะตั ะฑััั ะฒ ะดะฐัะฝะพะน ะผะตััะฝะพััะธ, ั ะพัะตะฝะฝะธะผะธ ะทะฐะฟะฐั
ะฐะผะธ โ ะฐัะพะผะฐัะพะผ ะฟะฐะปะพะน ะปะธััะฒั, ั
ะฒะพะธ, ัะฐะทะพะณัะตัะพะน ะฟะพัะปะตะดะฝะธะผ ะถะฐัะบะธะผ ัะพะปะฝัะตะผ
ะะพัะพะณะฐ ััะฐะปะฐ ะพัััะธะผะพ ะธะทะณะธะฑะฐัััั ะฒ ััะพัะพะฝั, ะธ ะฒะดััะณ ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ะพะบะฐะทะฐะปัั ะผะพัะฝัะน ะทะฐะฑะพั, ะฟะพั
ะพะถะธะน ะฝะฐ ัะฐััั ัะฐะฝะบะฐ, ะทะฐะฒัะทัะตะณะพ ะฒ ะบัััะฐั
. ะ ัะดะพะผ ะฑัะปะฐ ะธ ััะพัะพะถะบะฐ, ะฑะพะปััะต ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐััะฐั ะบะพะฝััะพะปัะฝะพ-ะฟัะพะฟััะบะฝะพะน ะฟัะฝะบั ะฒะพะธะฝัะบะพะน ัะฐััะธ.
ะะธะทะต ะทะฐะฑะพั ะฝะต ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปัั, ะฝะพ ะะฝะดัะตะน ะพะฑัััะฝะธะป, ััะพ ัะฐะบะพะฒ ะฝะฐััะพััะธะน ะฐัะผะตะนัะบะธะน ััะธะปั. ะญัะพ ะถะต ัััะตัะธะบะฐ ะฒ ะฟะพะณะพะฝะฐั
, ะดะฐัะธ ััั ะดะฐะฒะฐะปะธ ััะฐะทั ะฟะพัะปะต ะฒะพะนะฝั ะธ ัะตะผ, ะบัะพ ะฒะพะตะฒะฐะป ะฒ ััะธั
ะผะตััะฐั
. ะฃัะฐััะบะธ ะฑัะปะธ ะพะณัะพะผะฝัะต, ะบะฐะบ ัััะฑะพะปัะฝัะต ะฟะพะปั, ะธ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฝะฐัะฐะปัััะฒะพ ะดัะผะฐะปะพ, ััะพ ะณะตะฝะตัะฐะปั ะฑัะดัั ะฝะฐ ััะธั
ะฟะพะปัั
ัะฐะถะฐัั ะพะณัััั, ะธ ะฝะต ะฟัะพัะฒะปััั ะฝะตะฝัะถะฝะพะน ัะฐะผะพััะพััะตะปัะฝะพััะธ.
ะะพ ัะตะฟะตัั ะธะท-ะทะฐ ะทะฐะฑะพัะฐ ะฒัะณะปัะดัะฒะฐะปะธ ะพะณัะพะผะฝัะต ะผัะฐัะฝัะต ะบะพััะตะดะถะธ, ัะฒะฝะพ ะฝะตะดะฐะฒะฝะตะน ะฟะพัััะพะนะบะธ.
ะะธะทะฐ ะธ ะะฝะดัะตะน ะฟะพะบะฐะทะฐะปะธ ะฟะฐัะฟะพััะฐ (ะพั
ัะฐะฝะฝะธะบ ะฝะฐััะป ะธั
ะฒ ัะฟะธัะบะต) ะธ ะฟัะพัะปะธ ัะตัะตะท ัััะฝะธะบะตั ะฝะฐ ัะตััะธัะพัะธั. ะะพััะปะพะบ ะฑัะป ัะฐะบ ะถะต ะผัะฐัะตะฝ ะธ ะฝะตะฟัะธะฒะตัะปะธะฒ, ะบะฐะบ ะธ ะตะณะพ ะพะฑะพัะพะฝะธัะตะปัะฝัะน ะฟะตัะธะผะตัั. ะะฝัััะตะฝะฝะธะต ะทะฐะฑะพัั, ั
ะพัั ะธ ะฑัะปะธ ัะฐะทะผะตัะพะผ ะผะตะฝััะต ะฒะฝะตัะฝะตะณะพ, ะฝะต ะดะฐะฒะฐะปะธ ะฝะธะบะฐะบะพะน ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ ะฟะพะดัะผะพััะตัั ะทะฐ ะถะธะทะฝัั ั
ะพะทัะตะฒ. ะะธะทะฐ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะฐ, ััะพ ะฟัะพะตะทะด, ะฟะพ ะบะพัะพัะพะผั ะพะฝะธ ะดะฒะธะถัััั, ะฝะฐะทัะฒะฐะตััั ัะบัะพะผะฝะพ ยซะะปะฐะฒะฝัะน ะฟัะพัะฟะตะบัยป, ะฝะพ ัะตะผ ะดะฐะปััะต ะพั ะฒั
ะพะดะฐ, ัะตะผ ัะฐัะต ะธะผ ััะฐะปะธ ะฟะพะฟะฐะดะฐัััั ััะฐัะธะฝะฝัะต ะฟะพะบะพัะธะฒัะธะตัั ะดะพะผะฐ ั ะพะณัะพะผะฝัะผ ะบะพะปะธัะตััะฒะพะผ ะฟัะธัััะพะตะบ, ะดะตัะตะฒัะฝะฝะพะน ัะตะทัะฑะพะน ะฟะพะด ะบัััะตะน ะธ ะฟะพัะตััะฒัะธะผะธ ัะฒะตั ะฝะฐะปะธัะฝะธะบะฐะผะธ. ะะฝะธ ััะพัะปะธ ััะตะดะธ ะบะพััะตะดะถะตะน, ะฑัะดัะพ ััะฐัะธะบะธ, ะฝะตะทะฒะฐะฝัะผะธ ะณะพัััะผะธ ะฟัะธะตั
ะฐะฒัะธะต ะฝะฐ ะฟัะฐะทะดะฝะธะบ ัะฐะทะฑะพะณะฐัะตะฒัะธั
ะดะตัะตะน.
ะะฐะบะพะฝะตั ะฟััะตัะตััะฒะตะฝะฝะธะบะธ ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะธัั ะบ ะฐะบะบััะฐัะฝะพะผั ะดะตัะตะฒัะฝะฝะพะผั ะทะฐะฑะพัั, ะทะฐ ะบะพัะพััะผ ะฒะธะดะฝะตะปัั ะบัะตะฟะบะธะน ะดะพะผ, โ ัะฒะฝะพ ะธะท ะฟะตัะฒัั
, ััะพ ะฑัะปะธ ะฟะพััะฐะฒะปะตะฝั ะฒ ััะพะผ ะฟะพััะปะบะต. ะะดะฝะฐะบะพ ััั ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธะบะฐะบะธั
ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะดััั
ะปะพััะธ ะธ ัะฐะทะพัะตะฝะธั.
ะะฝะดัะตะน ะฝะฐะดะฐะฒะธะป ะฝะฐ ะบะฝะพะฟะบั ะทะฒะพะฝะบะฐ, ะธ ะณะดะต-ัะพ ะฒ ะณะปัะฑะธะฝะต ัะฐะดะฐ ะตะผั ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะดัะตะฑะตะทะณ, ะฟะพั
ะพะถะธะน ะฝะฐ ะณะพะปะพั ััะฐัะธะฝะฝะพะณะพ ัะตะปะตัะพะฝะฐ. ะะพ ะบะฐะปะธัะบะฐ ะพัะฒะพัะธะปะฐัั ััั ะถะต, ะฑัะดัะพ ะพัะบััะฒัะธะน ะตั ัะธะดะตะป ะฟััะผะพ ะทะฐ ะบัััะฐะผะธ.
ะะธะทะฐ ะฒัะผะพััะตะปะฐัั ะฒ ะฒัะณะปัะฝัะฒัะตะณะพ ััะฐัะธะบะฐ: ะฒะพั ะพะฝ ะบะฐะบะพะน, ััะพั ััะพะปะตัะฝะธะน ะฟัะตะดะพะบ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะพะดะฝะฐะบะพ ะะฝะดัะตะน ะพะฟะตัะตะดะธะป ะตั:
โ ะะดัะฐะฒััะฒัะนัะต, ะะธะบะธัะฐ ะะฐัะธะปัะตะฒะธั.
ะญัะพ ัะฒะฝะพ ะฑัะป ะฝะต ะณะตะฝะตัะฐะป. ะะฝะธ ะดะพะปะณะพ ัะปะธ ัะตัะตะท ะฟะฐัะฐะด ะบัััะพะฒ ะธ ะฐะบะบััะฐัะฝัั
ัะปะพะบ, ะฒััััะพะธะฒัะธั
ัั ะฒะดะพะปั ะดะพัะพะถะบะธ, ะธ ัััะฟะธะปะธ ะฝะฐ ะฒะตัะฐะฝะดั, ะฟััััั ะธ ะทะฐะปะธััั ัะฒะตัะพะผ.
ะกัะฐัะธะบ-ะฐะดัััะฐะฝั ะฟัะพะฒะตะป ะธั
ะดะฐะปััะต, ะธ ะฝะฐะบะพะฝะตั, ะฒัะต ะพัััะธะปะธัั ะฒ ะฑะพะปััะพะน ะบะพะผะฝะฐัะต, ะฝะฐะฟะพะปะฝะตะฝะฝะพะน ะผะฐััะพะน ะฒะตัะตะน. ะะฐ ะพะณัะพะผะฝะพะผ ััะพะปะต ะปะตะถะฐะปะธ ะบะฝะธะณะธ ะธ ะบะฐััั, ััะพัะป ะบะพะผะฟัััะตั (ะฝะต ัะฐะผะพะน ะดัะตะฒะฝะตะน ะผะพะดะตะปะธ, ะพัะผะตัะธะปะฐ ะฟัะพ ัะตะฑั ะะธะทะฐ) ะธ ะตัั ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะฝะตะฟะพะฝััะฝะฐั ัะตั
ะฝะธะบะฐ ะฒ ะทะตะปัะฝัั
ะบะพัะฟััะฐั
. ะ ะฟะพัะพะปะพะบ ัั
ะพะดะธะปะธ ะฒััะพะบะธะต ััะตะบะปัะฝะฝัะต ัะบะฐัั ะฑะธะฑะปะธะพัะตะบะธ ั ะบะปััะฐะผะธ ะฒ ะดะฒะตััะฐั
. ะ ัะณะปั ัะพััะฐะป ะตัั ะพะดะธะฝ ะฒััะพะบะธะน ััะพะป, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ะปะตะถะฐะปะฐ ะพัะบัััะฐั ัะตััะฐะดั ะฒ ััะฐัะธะฝะฝะพะผ ะบะปะตัะฝัะฐัะพะผ ะฟะตัะตะฟะปััะต.
ะ ััั ะพะฝะฐ, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ัะฒะธะดะตะปะฐ ั
ะพะทัะธะฝะฐ.
ะััะพะบะธะน ะฒััะพั
ัะธะน ััะฐัะธะบ, ะบัะดะฐ ััะฐััะต ัะฒะพะตะณะพ ะฟะพะผะพัะฝะธะบะฐ, ัะธะดะตะป ะฒ ะบะพะปััะบะต ั ััะตะฝั.
โ ะะดัะฐะฒััะฒัะน, ะะฝะดัััะฐ, โ ะณะพะปะพั ััะฐัะพะณะพ ะณะตะฝะตัะฐะปะฐ ะฑัะป ะฝะตะณัะพะผะพะบ, ะฝะพ ัััะพะบ.
โ ะะดัะฐะฒััะฒัะนัะต, ะะธะบะพะปะฐะน ะะฝะดัะตะตะฒะธั, โ ะฒัะต, ะธ ั
ะพะทัะธะฝ, ะธ ะะธะทะฐ, ะธ ะดะฐะถะต ะฐะดัััะฐะฝั, ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะปะธ, ััะพ ะะฝะดัะตั ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะฝะฐะทัะฒะฐัั ะตะณะพ ะฟัะฐะดะตะดะพะผ.
โ ะญัะพ โ ะะธะบะพะปะฐะน ะะฝะดัะตะตะฒะธัโฆ ะญัะพ โ ะะธะทะฐโฆ
โ ะะฐัััะฝั, ะบะฐะบ ะฒะฐั ะฟะพ ะพััะตััะฒั? โ ัะฟัะพัะธะป ััะฐัะธะบ.
โ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ.
ะฅะพะทัะธะฝ ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะะฝะดัะตั.
โ ะะฐะฟะพะผะฝะธ, ะะฝะดัััะฐ, ะฒะฐะถะฝัั ะฒะตัั: ัะตะฑะต ะบะฐะถะตััั, ััะพ ะพััะตััะฒะฐ ะฝะธ ะบ ัะตะผั, ะฝะพ ััะพ ะฒะตัั ะฒะฐะถะฝะฐั, ะพัะฝะตััะฝะฝะฐั ะบ ะฟะฐะผััะธ ะฟัะตะดะบะพะฒ.
ะะดัััะฐะฝั ะฑะตะท ะฒััะบะพะน ััะตัั ะฝะฐะบััะฒะฐะป ะฝะฐ ััะพะป.
โ ะัะต ัะฐะทะณะพะฒะพัั ะฟะพัะพะผ, ัะตะนัะฐั ะฟัะธะฝััะธะต ะฟะธัะธ.
ะะธะทะฐ ะฝะต ัะดะตัะถะฐะปะฐัั ะธ ัััะบะฝัะปะฐ, ััะปััะฐะฒ ััั ัััะฐะฝะฝัั ะบะฐะทัะฝะฝัั ััะฐะทั. ะกัะฐัะธะบ ะฒะดััะณ ะฟะพะดะผะธะณะฝัะป ะตะน, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะบะฐะบ ะผะพะถะตั ะฟะพะดะผะธะณะฝััั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ัะตัะตะฟะฐั
ะฐ.
ะะฝะธ ัะตะปะธ ะทะฐ ััะพะป. ะะดะต-ัะพ ััะดะพะผ ะฒ ัะพัะตะดะฝะตะน ะบะพะผะฝะฐัะต ัะฐะฑะพัะฐะป ัะตะปะตะฒะธะทะพั. ะัะป ะฒะบะปัััะฝ ะพัะตะฝั ัััะฐะฝะฝัะน ะบะฐะฝะฐะป: ัะฐะผ ั
ะพั ะผะฐะปััะธะบะพะฒ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพ ะธัะฟะพะปะฝัะป ะดะปะธะฝะฝัั ะทะฐัะฝัะฒะฝัั ะฟะตัะฝั ะพ ัะพะผ, ััะพ ะ ะพะดะธะฝะฐ ัะปััะธั ะธ ะฒัั ะทะฝะฐะตั.
ะก ัะดะธะฒะปะตะฝะธะตะผ ะะธะทะฐ ัะฒะธะดะตะปะฐ, ััะพ ะณะตะฝะตัะฐะป ะฟะตัะตะด ะตะดะพะน ะฒัะฟะธะป ััะผะบั, ะธ ัะฐะผะฐ ะพัะฟะธะปะฐ ะธะท ะฑะพะบะฐะปะฐ. ะขัั ะถะต ะทะฐะปะพะผะธะปะพ ะทัะฑั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฒ ะฑะพะบะฐะปะต ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะฐัั ัะธััะฐั, ะฝะพ ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะพ ั
ะพะปะพะดะฝะฐั ะฒะพะดะฐ. ะกัะฐัะธะบ ะบะปัะฝัะป ะณะพะปะพะฒะพะน, ะฑัะดัะพ ะฟัะธัะฐ, ะธ ะฒะธะปะบะพะน ะฒ ัะพะฝะบะพะน ััะบะต (ะฒัะต, ััะพ ะฒััะพะฒัะฒะฐะปะพัั ะธะท ััะบะฐะฒะฐ ะผัะฝะดะธัะฐ, ะฑัะปะพ, ะบะฐะบ ะณัะตัะฝะตะฒะพะน ะบะฐัะตะน, ะพะฑััะฟะฐะฝะพ ะฟััะฝััะบะฐะผะธ ัะพะดะธะฝะพะบ) ัะบะฝัะป ะฒะพ ััะพ-ัะพ ะผะฐะปะพััะตะดะพะฑะฝะพะต ะฝะฐ ัะฒะพะตะน ัะฐัะตะปะบะต. ะะตัะตะด ะผะพะปะพะดัะผะธ ะปัะดัะผะธ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะปะตะถะฐะปะฐ ะตะดะฐ ะฒะฟะพะปะฝะต ัะตััะพัะฐะฝะฝะพะณะพ ะบะฐัะตััะฒะฐ.
โ ะฏ ะฟัะธะฒัะท ัะพัะพะณัะฐัะธะธ, โ ะะฝะดัะตะน ะฒัะปะพะถะธะป ะฐะปัะฑะพะผ ะฝะฐ ััะพะป.
โ ะะธะบะธัะฐ ะะฐัะธะปัะตะฒะธั, ะฟัะธะฑะตัะธ, ะฟะพัะพะผ ะฟะพัะผะพััั, โ ะฐะดัััะฐะฝั ะฝะตัะปััะฝะพ ะฟะพะดะพััะป ัะทะฐะดะธ, ะธ ะฐะปัะฑะพะผ ัะฐััะฒะพัะธะปัั ะฒ ะฒะพะทะดัั
ะต.
โ ะะปะธะทะฐะฒะตัะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ, โ ัะธั
ะพ ัะบะฐะทะฐะป ั
ะพะทัะธะฝ. โ ะ ะฟะพะทะฒะพะปััะต ัะฟัะพัะธัั, ัะฐะผะธะปะธั ะฒะฐัะฐ ะธะท ะบะฐะบะธั
ะบัะฐัะฒ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั? ะงัะพ-ัะพ ะผะฝะต ะฒ ะฝะตะน ััะฒััะฒัะตััั ัะบะฐะฝะดะธะฝะฐะฒัะบะพะต.
โ ะขะฐะบ ะธ ะตััั, โ ะฟัะตะดะบะธ ะตัั ะฒ ะดะตะฒััะฝะฐะดัะฐัะพะผ ะฒะตะบะต ะฟัะธะตั
ะฐะปะธ ะฒ ะ ะพััะธั.
ะะฝะฐ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ, ะฝะพ ะฟะพะฝะธะผะฐะปะฐ, ััะพ ะฟะฐัะทะฐ ััะตะฑัะตั ะฟัะพะดะพะปะถะตะฝะธั.
โ ะะฐะบะฐะฝัะฝะต ะฒะพะนะฝั 1812 ะณะพะดะฐ. ะะพะตะณะพ ะฟัะฐะฟัะฐะดะตะดะฐ ะฒัะฟะธัะฐะปะธ ะฒะพะทะดััะฝัะต ัะฐัั ะดะตะปะฐัั.
ะฅะพะทัะธะฝ ะฟะพะดะฝัะป ะณะพะปะพะฒั ัััั ะฑััััะตะต, ัะตะผ ะพะฝะฐ ะพะถะธะดะฐะปะฐ.
โ ะะพะทะฒะพะปััะต, ัะฐะบ ััะพ ะถ ะะพัััะธะด ัะพะฝ ะะฐัะปัะพะฝ, ะตะณะพ ะฒั ะธะผะตะตัะต ะฒ ะฒะธะดั?
โ ะะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบ. ะะฝ ัััะพะธะป ะปะตัะฐัััั ะปะพะดะบั ะฟะพะด ะะพัะบะฒะพะน, ััะพะฑั ะฑะพะผะฑะธัั ะฝะฐัััะฟะฐััะตะณะพ ะะฐะฟะพะปะตะพะฝะฐ, ะฝะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฒััะปะพ.
โ ะ ะบะฐะบ ะฒั ะดัะผะฐะตัะต, ะะปะธะทะฐะฒะตัะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ, ะฟะพะปะตัะตะปะฐ ะฑั ัะฐะบะฐั ะปะพะดะบะฐ? ะะต ะฑัะปะพ ะปะธ ััั ะบะฐะบะพะณะพโฆ
โ ะัะปัะฝะธัะตััะฒะฐ, ะฒั ั
ะพัะตะปะธ ัะบะฐะทะฐัั? โ ะะธะทะฐ ะฒะดััะณ ัะฐะทะพะทะปะธะปะฐัั. โ ะัะผะฐั, ััะพ ะฑัะปะพ. ะะธัะตะณะพ ะฑั ะฝะต ะฟะพะปะตัะตะปะพ ะฝะธะบัะดะฐ. ะะต ัะพั ะฑัะป ััะพะฒะตะฝั ัะตั
ะฝะธะบะธ, ะฝะพ ัะถ ะบะฐะบะพะน ั ะผะตะฝั ะฟัะตะดะพะบ ะตััั, ัะฐะบะพะน ะตััั. ะััะณะพะณะพ ะฒะฐะผ ะฟัะตะดะปะพะถะธัั ะฝะต ะผะพะณั.
ะกัะฐัะธะบ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฟัะธะบััะป ะณะปะฐะทะฐ, ะฐ ะพัะบััะฒ ะธั
ัะตัะตะท ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต, ะบัะธะบะฝัะป:
โ ะกะปััะฐะป, ะะฝะดัััะฐ! ะ? ะะฐะบะพะฒะพ! ะขั ะดะตัะถะธัั ะตั, ะพะฝะฐ ัะฒะพะตะณะพ ะฟัะตะดะบะฐ ะฝะต ัะดะฐะปะฐ, ะฐ ัะธะดะธั ะธ ะดัะตััั ะฝะฐ ะผะตะฝั, ะบะฐะบ ะผััั ะฝะฐ ะบััะฟั. ะญัะพะณะพ ะถัะปะธะบะฐ ัะพะฝ ะะฐัะปัะพะฝะฐ, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ะฟัะพะฑั ะฝะตะณะดะต ััะฐะฒะธัั โ ะธ ะฝะต ัะดะฐะปะฐ. ะั ัะถ ะฝะต ะพะฑะธะถะฐะนัะตัั, ะะปะธะทะฐะฒะตัะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ, ั ะฟะพะผะฝั ััั ะธััะพัะธั. ะะพ ะบัะดะฐ ะฒะฐะถะฝะตะต, ััะพ ะตั ะฟะพะผะฝะธัะต ะฒั. ะ ะพัะบัะดะฐ-ัะพ ะทะฝะฐะตัะต, ััะพ ัะฒะพะธั
ะฝะตะปัะทั ัะดะฐะฒะฐัั ะฝะธ ะฟัะธ ะบะฐะบะธั
ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐั
. ะะฐะถะต ะตัะปะธ ะฒะฐะผ ัะฒะตัั
ั ะฟัะธะบะฐะถัั, ะดะฐะถะต ะตัะปะธ ะดััะทัั ะฑัะดัั ะณะพะฒะพัะธัั, ััะพ ัะฐะบ ะดะปั ะดะตะปะฐ ะฝัะถะฝะพ. ะััะณะฐั ะฑ ะผะฝะต ััั ะฒัะฐัั ะฝะฐัะฐะปะฐโฆ ะ ะฒะฟัะพัะตะผ, ะะพะณ ั ััะธะผ ัะพ ะฒัะตะผ. ะขั, ะะฝะดัััะฐ, ะฟะพะฒะตัะฝะธัั ะฝะฐะฟัะฐ-ะฝะฐะปะตะฒะพ, ะดะฐะฒะฝะพ ัะตะฑั ะฝะต ะฒะธะดะตะป. (ะัะฑะพัะบะธะน-ะผะปะฐะดัะธะน ะทะฐััะทะฐะป ะฝะฐ ัััะปะต). ะขะตะฑะต ะธะดัั ััะฐ ะฟัะธัััะบะฐ, ั
ะพัั ั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ััะพ ะฝะต ะพะดะพะฑััั. ะั ะตัััะต, ะตัััะต. ะฏ ะฒะตะดั ััะพ-ัะพ ัะปััะฐะป ะพ ะฒะฐัะธั
ะดะตะปะฐั
ะบัะฐะตะผ ัั
ะฐ. ะะฝััะบะฐ ั ะบะตะผ-ัะพ ะดะตะปะธะปะฐัั ะฟะพ ัะตะปะตัะพะฝั. ะะฝะฐัะธั, ััะพ ัะพะพัะฒะตัััะฒัะตั?
โ ะกะพะพัะฒะตัััะฒัะตั, โ ะฒัะดะพั
ะฝัะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะฐะฒะตัะฝะพะต.
โ ะั โ ะฒะผะตััะต?
โ ะะฐ, ะฒะผะตััะต.
โ ะั, ัะพะณะดะฐ ะฟะพะทะฒะพะปั ัะฟัะพัะธัั: ะฐ ะฝะต ะบะฐะถะตััั ะปะธ ะฒะฐะผ, ัะตะฑััะฐ, ััะพ ะฟะพัะฐ ะฒะทัะพัะปะตัั? ะะพ-ะผะพะตะผั, ะฟัะพัะตัั ััะพั ั ะฒะฐั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะทะฐััะฝัะปัั. ะะตะปะฐ ะฒะพะบััะณ ััะตะฒะพะถะฝัะต, โ ั ะฒะตะดั ะฝะต ะพะฑ ััะธั
ะฟะตัะตะตะทะดะฐั
, ะฐ ะฒ ะผะธัะพะฒะพะผ ะผะฐัััะฐะฑะต. ะะฟะตัะตะดะธ ะธะฝััะธััั, ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธะต, ะฐ ั ะฒะฐั ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ะฒััะบะฐั ัะตััะพะฒัะธะฝะฐ. ะขั, ะะฝะดัััะฐ, ัะฟะพัะพะฑะฝัะน ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฑัะดะตั ะถะฐะปั… ะััะฐัะธ, ะผะพะถะตัะต ะพััะฐัััั ะทะดะตัั, ะผะตััะฐ ั
ะฒะฐัะธั.
โ ะะตั-ะฝะตั. ะ ะฒะฐะผ ะปะธ ะฝะต ะทะฝะฐัั, ััะพ ะฝะฐัั ะผะพะปะพะดะตะถั ะฝะต ะฟัะณะฐัั ัััะดะฝะพััะธ, โ ะผัะฐัะฝะพ ะพัะฒะตัะธะป ะะฝะดัะตะน.
โ ะะปะธะทะฐะฒะตัะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ, ะฐ ะฒั ัะฐะบ ะถะต ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะตัะต ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ะฟัะตะดะบะฐะผะธ?
โ ะะตั, ะฝะต ัะฐะบ.
โ ะกะบะพะปัะบะพ ะฒะฐะผ ะปะตั?
โ ะะพััะธ ัะตััะฝะฐะดัะฐัั.
โ ะะตะผ ัะพะฑะธัะฐะตัะตัั ััะฐัั ะฒ ะดะฒะฐะดัะฐัั ััะธ?
โ ะะต ะทะฝะฐั. ะะพะถะตั, ะฑัะดั ะฟะธัะฐัั ััะพ-ัะพ.
โ ะั, ะะปะธะทะฐะฒะตัะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ, ะผะฝะต ะฝัะฐะฒะธัะตัั. ะั ัะปััะฐะตัะต ะธ ะฝะต ะพัััะธัะต. ะะฝะดัััะฐ ะปัะฑะธั ะพัััะธัั, ะฐ ั ะฝะต ะฒะตัั ะฒ ัะตั
, ะบัะพ ัะปะธัะบะพะผ ะผะฝะพะณะพ ะพัััะธั ะฒ ัะฝะพััะธ. ะฏ ั ะดะฐะฒะฝะตะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฟะพัะตััะป ั ะดะพัะตััั ะพะฑัะธะน ัะทัะบ ะธ ะฝะต ะฝะฐััะป ะตะณะพ ั ะฒะฝัะบะพะผ.
โ ะัะฒะฐะตั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะั ะดะพะปะถะฝั ะธั
ะฟะพะฝัััโฆ
ะะพ ััะฐัะธะบ, ะฝะต ัะปััะฐั, ัะบะฐะทะฐะป ะฑััััะพ:
โ ะฏ ะฝะฐะดะตััั, ั ะฒะฐั ััะพ ัะตััะตะทะฝะพ?
โ ะะฐ, ั ะฝะฐั ััะพ ัะตััะตะทะฝะพ.
โ ะฏ ั
ะพัะตะป ะฑั ะฒะฐะผ ะฒะตัะธัั. ะะพะธ ะดะตัะธ ะฝะต ะผะพะณะปะธ ะฟะพะฝััั ะพะดะฝะพะน ะฒะตัะธ: ั ะฒะตะดั ั
ะพัะตะป ะธะผ ะดะพะฑัะฐ, ััะฐัััั, ััะพะฑั ะถะธะทะฝั ัะปะพะถะธะปะฐัั ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพ. ะ ั ะฝะธั
ััะพ ะฝะต ะพัะตะฝั ัะบะปะฐะดะฝะพ ะฟะพะปััะฐะปะพัั. ะัะตะฒะธะดะฝะพ, ะฒะฐะผ ััะพ ะธะทะฒะตััะฝะพ. ะะพั ััะพ ั ะฒะฐะผ ัะบะฐะถั, ะธ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ั ะฝะธะบะพะผั ะฑั ััะพะณะพ ะฝะต ะณะพะฒะพัะธะป. ะั, ะบะฐะบ ะฑั ะฒะฐะผ ัะบะฐะทะฐัั, ะฟะตัะตะด ะฑะพะปััะพะน ะดะพะปะณะพะน ะดะพัะพะณะพะน. ะะปั ะบะฐะถะดะพะณะพ ะธะท ะฝะฐั ะฝะฐัััะฟะฐะตั ะดะตะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะฝัะถะฝะพ ะทะฐะดัะผะฐัััั, ััะพ-ัะพ ัะตัะธัั ะฒะฐะถะฝะพะต. ะะฐะบ ะฒ ัะบะฐะทะบะต, ะณะดะต ะปะตะถะธั ะบะฐะผะตะฝั-ัะบะฐะทะฐัะตะปั. ะะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฒะฐะผ ะฟัะธั
ะพะดะธะปะธ ะฒ ะณะพะปะพะฒั ัะฐะบะธะต ะผััะปะธ…
โ ะัะบัะดะฐ ะฒั ะทะฝะฐะตัะต? โ ะะธะทะต ะพััะตะณะพ-ัะพ ััะฐะปะพ ะบะฐะทะฐัััั, ััะพ ะตะน ัะฝะธััั ััะฐััะน ัััะฝะพ-ะฑะตะปัะน ัะธะปัะผ, ะธ ะพะฝะฐ, ะบะฐะบ ะณะตัะพะน ััะพะณะพ ัะธะปัะผะฐ, ะฟะพะฟะฐะปะฐ ะฝะฐ ัะผะพััะธะฝั ะฒ ััะถะพะน ะดะพะผ.
โ ะะพัะตะผั ะฑั ะผะฝะต ะฝะต ะทะฝะฐัั, ะะปะธะทะฐะฒะตัะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะฝะฐ, ะทะฝะฐั. ะะพัะพะผั ััะพ ะฒั ัะพะปัะบะพ ะฝะฐัะธะฝะฐะตัะต ะธะดัะธ, ะฐ ั ัะถะต ะพัะผะฐั
ะฐะป ะฟะพััะดะพัะฝัะน ะบััะพะบ. ะะฝะพะณะดะฐ ะผะฝะต ะฒะตะทะปะพ ะฑะพะปััะต, ะธะฝะพะณะดะฐ ะผะตะฝััะต, ะธะฝะพะณะดะฐ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะฒะตะทะปะพ. ะขะฐะบ ะฒะพั, ัััะธัะต, ะฝะฐะดะตััััั ะฒั ะผะพะถะตัะต ัะพะปัะบะพ ะฝะฐ ัะตะฑั, ะฝะธะบัะพ ะฒะฐะผ ะฝะต ะฟะพะผะพะถะตั, ะฝะธ ะพะดะธะฝ ัะตะปะพะฒะตะบ, ะบัะพะผะต ัะพะณะพ, ั ะบะตะผ ะฒั ะฒะพะทัะผััะตัั ะทะฐ ััะบะธ. ะะฐ ะธ ัะพ โ ะณะฐัะฐะฝัะธะน ะฝะธะบะฐะบะธั
. ะัะดัะผ, ะฒ ะพะฑัะตะผ, ะฝะฐะฟะปะตะฒะฐัั ะดััะณ ะฝะฐ ะดััะณะฐ, ะบะฐะบ ะฝะธ ะฟะตัะฐะปัะฝะพ ะฒ ััะพะผ ะฟัะธะทะฝะฐัััั. ะะทััั ะบะพะต-ะบะพะณะพ, ั ะบะตะผ ั ัะปัะถะธะป, ั ะฝะตะบะพัะพััะผะธ ะผั ะฒะผะตััะต ะปะตะถะฐะปะธ ะฟะพะด ะฟัะปัะผะธ, ะธ ัะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ั
ัะฐะฑัะตะต ะผะตะฝั. ะะพ ะธะท ะฝะธั
ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฒััะปะพ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะพะฝะธ ัะฟัััะธะปะธ ััะพ-ัะพ ะฒะฐะถะฝะพะต, ัะฐััะตััะปะธัั. ะะฟัะพัะตะผ, ะฒัะต ะพะฝะธ ะผะตััะฒั โ ะบัะพ ะฟะพะณะธะฑ ะฒ ะฑะพั, ะบัะพ ัะผะตั ัะฐะบ, ะฒ ะฟะตะฝัะธะพะฝะตััะบะพะผ ั
ะฐะปะฐัะต. ะั
, ัะตะฑััะฐ, ัะตะฑััะฐ, ะบะฐะบ ะฒั ะตัะต ะฝะฐะธะฒะฝั, ะบะฐะบ ะฒั ะตัะต ะผะฐะปะพ ะทะฝะฐะตัะต ะถะธะทะฝั.
ะ ะฒ ะถะธะทะฝะธ ะตััั ะฟัะพัััะต ะธ ะณััะฑัะต ะฒะตัะธ, ัะฐะบะธะต, ัะบะฐะถะตะผ, ะบะฐะบ ัััะฑะฐ, ะธะฝััะธััั, ัะฐะฑะพัะฐ, ะฐ ะฝะต ะผะฐะณะธัะตัะบะธะต ัะพะบััั. ะฏ ะฟะพะฝะธะผะฐั, ะฒั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ัััะดะธัะตัั ะพะฑ ััะพะผ ะณะพะฒะพัะธัั, ััะพ, ัะฐะบ ัะบะฐะทะฐัั, ัะปะธัะบะพะผ ะฟัะพะทะฐะธัะฝะพ. ะะพ ะพั ััะพะณะพ ะฝะธะบัะดะฐ ะฝะต ะดะตะฝะตัััั, ะธ ั ััะธะผ ะฟัะธั
ะพะดะธััั ััะธัะฐัััั, ะฟะพะฒะตัััะต ัะถ ะผะฝะต.
โ ะขะฐะบ ะบะฐะบัั ะถะต ะดะพัะพะณั ะฒั ะฝะฐะผ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะตัะต?
โ ะะฐ ะฝะธัะตะณะพ ั ะฒะฐะผ ะฝะต ะฟัะตะดะปะฐะณะฐั. ะญัะพ ัะถ ะฒั ัะตัะฐะนัะต, ะบะฐะบ ะณะพะฒะพัะธััั, ัะฐะผะธ. ะกะฐะผะธ ัะตัะฐะนัะต.
โ ะญะน, โ ะฝะตัะตัะฟะตะปะธะฒะพ ะบัะธะบะฝัะป ะะฝะดัะตะน, โ ั ะตัั ะทะดะตัั!
โ ะะธะถั, ะะฝะดัััะฐ, ััะพ ัั ะตัั ะทะดะตัั. ะ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐััั, ััะพ ัั ััั ะฟะพัะฒะธะปัั ะฝะต ะธะท-ะทะฐ ัะพะณะพ, ััะพ ะฒ ัะตะฑะต ัะพะดััะฒะตะฝะฝัะต ััะฒััะฒะฐ ะฟัะพัะฝัะปะธัั.
โ ะกะบะฐะถะธัะต, ะฐ ะพะบะบะฐะผะตััะพะฝ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ัััะตััะฒัะตั? โ ะฒะผะตัะฐะปะฐัั ะะธะทะฐ.
โ ะ ะดะฐ, ะธ ะฝะตั. ะฏ ะทะฝะฐั, ััะพ ะฒั ะทะฐ ะฝะธะผ ะธ ะฟัะธะตั
ะฐะปะธ, ัะพะปัะบะพ ะฒะฟะพะปะฝะต ะปะธ ะฒั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต, ััะพ ััะพ ัะฐะบะพะต?
ะะฝะดัะตะน ะฟัะธะฝัะปัั ะฟะตัะตัะธัะปััั ะฟัะพะธะทะพัะตะดัะตะต ะทะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะต ะฒัะตะผั, ะธ ะะธะทะฐ ะฟะพัะฐะทะธะปะฐัั ัะพะผั, ะบะฐะบ ะผะพะถะฝะพ, ะฝะต ัะพะฒัะฐะฒ ะฝะธ ะฒ ะพะดะฝะพะน ะดะตัะฐะปะธ, ัะฐะบ ะพะฑัะดะตะฝะฝะพ ะธ ะฝะตัััะฐัะฝะพ ัะฐััะบะฐะทะฐัั ะพ ัะตั
ััะดะตัะฐั
, ััะพ ะพะฝะธ ะฒะธะดะตะปะธ. ะกัะฐัะธะบ ะฒะดััะณ ะฟะตัะตัะฟัะพัะธะป ััะพ-ัะพ, ะธ ะะธะทะฐ ะฟะพะฝัะปะฐ, ััะพ ะพะฝ ะทะฝะฐะตั ะพะฑ ะธั
ะฟัะธะบะปััะตะฝะธัั
ะณะพัะฐะทะดะพ ะฑะพะปััะต, ัะตะผ ะพะฝะธ ะฟัะตะดะฟะพะปะฐะณะฐะปะธ. ะะฝะดัะตะน, ะบะฐะถะตััั, ะฝะธัะตะณะพ ััะพะณะพ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธะป.
ะะดัััะฐะฝั ะะธะบะธัะฐ ะะฐัะธะปัะตะฒะธั, ะฒัั ัะฐะบ ะถะต ะผัะณะบะพ ัััะฟะฐั, ะทะฐะผะตะฝะธะป ะพะฑะตะดะตะฝะฝัะต ะฟัะธะฑะพัั ะฝะฐ ะบะธัะฐะนัะบะธะต ัะฐัะบะธ ั ะธะตัะพะณะปะธัะฐะผะธ. ะะฐะด ััะพะปะพะผ ะฟะพะฟะปัะป ะฐัะพะผะฐั ะะพััะพะบะฐ. ยซะะฐัะผะธะฝ? ะะตั, ะฝะต ะถะฐัะผะธะฝยป, โ ะฝะพ ัะฟัะฐัะธะฒะฐัั ะฑัะปะพ ะปะตะฝั.
โ ะัะพ ัะฐะบะพะน ะฑัะป ะะบะบะฐะผ, ัั ะฟะพะผะฝะธัั, ะะฝะดัััะฐ?
ะะฝะดัะตะน ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะป ััะพ-ัะพ ะฟัะพ ะฑัะธัะฒั, ะบะพัะพัะพะน ะฝัะถะฝะพ ะพััะตะทะฐัั ะฝะตะฝัะถะฝัะต ะพะฑัััะฝะตะฝะธั.
โ ะะฐะบะฐั ะถะต ั ัะตะฑั ะบะฐัะฐ ะฒ ะณะพะปะพะฒะต. ะฃะธะปััะผ ะะบะบะฐะผ ะฑัะป ะทะฝะฐะผะตะฝะธััะผ ัะธะปะพัะพัะพะผ, ะฐ ะพั ะฝะตะณะพ ะพััะฐะปะฐัั ััะฐะทะฐ ยซะฝะต ัะผะฝะพะถะฐะน ัััะฝะพััะตะน ัะฒะตัั
ะฝะตะพะฑั
ะพะดะธะผะพะณะพยป. ะะฝ ะฟะธัะฐะป ะัะดะฒะธะณั ะะฐะฒะฐััะบะพะผ: ยซะฏ ะฑัะดั ะทะฐัะธัะฐัั ัะตะฑั ะฟะตัะพะผ, ะฐ ัั ะผะตะฝั ะฑัะดะตัั ะทะฐัะธัะฐัั ะผะตัะพะผยป.
ะกะปะพะฒะฐ ะฟัะพ ะผะตั ััะฐัะธะบ ะฟัะพะธะทะฝัั ั ะฒะธะดะธะผัะผ ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะตะผ.
โ ะะบะบะฐะผะตััะพะฝ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฒัะฒะตะทะปะธ ะธะท ะะตัะผะฐะฝะธะธ ะพัะตะฝัั ัะพัะพะบ ะฟััะพะณะพ. ะะพ ะฒั ะฟะพะนะผะธัะต, ััะพ ัะตะนัะฐั ะผะพะดะฝะพ ะฒ ะบะฐะถะดะพะผ ะธะทะพะฑัะตัะตะฝะธะธ ะธัะบะฐัั ะพะบะบัะปััะฝัะน ัะผััะป ะธ ัะฐะนะฝั ะขัะตััะตะณะพ ะ ะตะนั
ะฐ, ะฐ ะฝะธะบะฐะบะธั
ัะฐะนะฝ ะฝะตั ะธ ะฝะต ะฑัะปะพ. ะะธัะพะผ ะฟัะฐะฒัั ะฝะต ัะฐะนะฝัะต ะพะฑัะตััะฒะฐ, ะฐ ัะฒะฝัะต ะพัะณะฐะฝะธะทะฐัะธะธ โ ะบะพะฝัะตัะฝั ะธ ะบะพัะฟะพัะฐัะธะธ, ัะตัะบะฒะธ ะธ ะฟัะฐะฒะธัะตะปัััะฒะฐ. ะงัะดะตั ะฝะตั, ะฐ ะตััั ะฟัะธะฑะฐะฒะพัะฝะฐั ััะพะธะผะพััั, ะฟัะพะผััะปะตะฝะฝัะน ะฟะพัะตะฝัะธะฐะป ะธ ะปัะดัะบะธะต ัะตััััั. ะั ะธ ะธะดะตะธ, ะพะฒะปะฐะดะตะฒัะธะต ะผะฐััะฐะผะธ.
ะะพ ะณะปะฐะฒะฝะฐั ัะฐะนะฝะฐ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะพะบะบะฐะผะตััะพะฝ โ ััะพ ะฒะพะพะฑัะฐะถะฐะตะผัะน ะฟัะธะฑะพั. ะั ัะฐะทะพะฑัะฐะปะธ ะตะณะพ ะธ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะธ ัะพะปัะบะพ ะดะฒะต ะปะฐะผะฟะพัะบะธ, ะดะฒะต ัััะบะธ, ะฐะผะฟะตัะผะตัั ะธ ะณะตะฝะตัะฐัะพั ั ัััะบะพะน, ะบะฐะบ ะฒ ะฟะพะปะตะฒะพะผ ัะตะปะตัะพะฝะต. ะั ะธ ะบัะฐัะธะฒัะน ะดัะฑะพะฒัะน ะบะพัะฟัั, ะบะฐะบ ั ัะบะฐััะปะบะธ ั ะดัะฐะณะพัะตะฝะฝะพัััะผะธ. ะ ะฝัะผ ะฝะตั ะฝะธัะตะณะพ, ะฟะพััะพะผั-ัะพ ะพะฝ ะธ ะพััะฐะปัั ั ะผะตะฝั ะฝะฐ ะดะฐัะต, ะบะฐะบ ััะฒะตะฝะธั. ะะฐะบะธะต-ัะพ ะดััะฐะบะธ ะฟััะฐะปะธัั ะฟัะธะตั
ะฐัั ะธ ัะฝััั ะพ ะฝัะผ ัะธะปัะผ, ะฟัะธัะฒะพัะธะฒัะธัั ะผะพะธะผะธ ะดััะทััะผะธ. ะขะฐะบ ะฝะฐั ะดะพะฑััะน ะะธะบะธัะฐ ะะฐัะธะปัะตะฒะธั ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะธะผ ะธะท-ะทะฐ ะทะฐะฑะพัะฐ ะผะพะน ะฝะฐะณัะฐะดะฝะพะน ะบะฐัะฐะฑะธะฝ. ะะพัะปะต ัะตะณะพ ะพะฝะธ ะธ ะฑะตะถะฐะปะธ ะฝะตัะพะปะพะฝะพ ั
ะปะตะฑะฐะฒัะธ.
ะะฝะดัะตะน ะฑัะป ัะฒะฝะพ ัะฐะทะพัะฐัะพะฒะฐะฝ, ะฐ ััะฐัะธะบ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป:
โ ะะตะผัั ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ ััะพั ะฟัะธะฑะพั ะดะปั ะฟัะธั
ะพะปะพะณะธัะตัะบะพะณะพ ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธั ะฝะฐ ะดะพะฟัะพัะฐั
. ะะฝะฐะตัั ะฟัะธััั ะพ ัะพะผ, ะบะฐะบ ะพะดะธะฝ ะฒะพััะพัะฝัะน ะผัะดัะตั ะธัะบะฐะป ะฒะพัะฐ? ะะฝะต ัะฐััะบะฐะทะฐะปะธ, ะบะพะณะดะฐ ั ะฒะพะตะฒะฐะป ะฒ ะะธัะฐะต: ััะพั ะผัะดัะตั ะฟะพะฒะตัะธะป ะฒ ัะตะผะฝะพะน ัะฐะฝะทะต ะผะตััะฒะพะณะพ ะฟะตััั
ะฐ. ะะฝ ัะบะฐะทะฐะป, ััะพ ะผัััะฒัะน ะฟะตััั
ะทะฐะบัะธัะธั, ะบะพะณะดะฐ ะตะณะพ ะบะพัะฝัััั ะฒะพั. ะัะต ัะธะฝะพะฒะฝะธะบะธ ะดะพะปะถะฝั ะฑัะปะธ ะทะฐะนัะธ ะฒ ัััั ะธ ะบะพัะฝััััั ะผะตััะฒะพะณะพ ะฟะตััั
ะฐ. ะะตััั
, ะบะฐะบ ัั ะผะพะถะตัั ะดะพะณะฐะดะฐัััั, ะะฝะดัััะฐ, ะฒะธัะตะป ะผะพะปัะฐ. ะ ะฝะต ะบัะบะฐัะตะบะฐะป, ะดะฐะถะต ะบะพะณะดะฐ ะธะท ัะฐะฝะทั ะฒััะตะป ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะธะฝะพะฒะฝะธะบ. ะ ะฒะพั ัะพะณะดะฐ ะผัะดัะตั ะฒะตะปะตะป ัะธะฝะพะฒะฝะธะบะฐะผ ะฟะพะดะฝััั ััะบะธ. ะฃ ะฒัะตั
ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะฒ ัะฐะถะต, ะธ ัะพะปัะบะพ ั ะพะดะฝะพะณะพ ะปะฐะดะพะฝั ะฑัะปะฐ ัะธััะฐั โ ะฟะพัะพะผั ััะพ ะพะฝ ะฝะต ััะพะณะฐะป ะธะทะผะฐะทะฐะฝะฝะพะณะพ ัะฐะถะตะน ะฟะตััั
ะฐ. ะขะฐะบ ะธ ัะฐะฑะพัะฐะตั ััะพั ะฟัะธะฑะพั, โ ะบะฐะบ ะผัััะฒัะน ะฟะตััั
, ะะฝะดัััะฐ, ะบะฐะบ ะผัััะฒัะน ะฟะตััั
. ะะตั ะฒ ะฝัะผ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะฒะพะปัะตะฑััะฒะฐ, ะฐ ัะพะปัะบะพ ะดะธะฝะฐะผะพ, ัะฑะพะฝะธั ะธ ะฟะพะปะธัะพะฒะฐะฝะฝะฐั ะดะตัะตะฒััะบะฐ. ะะพ ะฒ ัะตััั ัะฒะพะตะณะพ ะฒะธะทะธัะฐ ะผั ะทะฐะนะผัะผัั ััะธะผ ะผัะฐะบะพะฑะตัะธะตะผ.
ะะดัััะฐะฝั ะฒัะฝะตั ะพัะบัะดะฐ-ัะพ ะธะท ะณะปัะฑะธะฝั ะดะพะผะฐ ะบะพัะพะฑะบั ะฒ ะฑัะตะทะตะฝัะพะฒะพะผ ัะตั
ะปะต. ะะฝัััะธ ะพะบะฐะทะฐะปัั ะดะตัะตะฒัะฝะฝัะน ััะธะบ, ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะพัะตะฝั ะบัะฐัะธะฒัะน.
โ ะกะฐะดะธัะตัั ััะดะฐ. ะขั, ะะฝะดัััะฐ, ะฒะพะทัะผะธ ัััะบัโฆ
ะกัะฐัะธะบ ัะบะฐะทะฐะป ะฝะฐ ะบะฐะบัั-ัะพ ัััะฝัั ะทะฐะณะพะณัะปะธะฝั, ะธ ะะฝะดัะตะน ะฒััะฐะฒะธะป ะตั ะฒ ะพัะฒะตัััะธะต ัะฑะพะบั, ะฑัะดัะพ ัััะบั ััะฐััััะฐ ะฒ ััะฐัะธะฝะฝัะน ะฐะฒัะพะผะพะฑะธะปั. ะะธะทะฐ ะฒะธะดะตะปะฐ ัะฐะบะพะต ะถะต ัััะฐะฝะฝะพะต ะฟัะธัะฟะพัะพะฑะปะตะฝะธะต, ัะพะปัะบะพ ัะฐะท ะฒ ะดะตัััั ะฑะพะปััะต, ะฒ ะฝะตะผะพะผ ะบะธะฝะพ. ะะพัะปะต ะฝะตัะบะพะปัะบะธั
ะพะฑะพัะพัะพะฒ ะฝะฐ ะฟะฐะฝะตะปะธ ะทะฐัะตะฟะปะธะปะธัั ะดะฒะต ะปะฐะผะฟะพัะบะธ. ะะพัะปะต ะดะตัััะธ ะพะฝะธ ะทะฐัะธัะปะธ ััะบะพ.
โ ะ ะฝะต ัััะฐัะฝะพ ัะตะฑะต, ะะฝะดัััะฐ? โ ะฒะดััะณ ัะฟัะพัะธะป ััะฐัะธะบ. โ ะ ัะพ ะฒะตะดั ัะทะฝะฐะตัั ััะพ-ัะพ ัะฐะบะพะต, ััะพ ะฒัั ะฟะพัะตััะตัั? ะะพั ะตั, ะฝะฐะฟัะธะผะตั?
ะะฝะดัะตะน ะฑััััะพ ะฒะทะณะปัะฝัะป ะฝะฐ ะะธะทั, ะธ ะพะฝะฐ ัะฒะธะดะตะปะฐ, ััะพ ะณะปะฐะทะฐ ะตะณะพ ะฝะฐะปะธะปะธัั ะฒะดััะณ ัััะฐั
ะพะผ, ะบะฐะบ ััะพัะฒัะธะต ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ัะฐัะบะธ โ ัะฐะตะผ. ะงะฐะน ะดัะพะถะฐะป ะพั ะฒัะฐัะตะฝะธั ัััะบะธ, ะธ ัััะฐั
ะฟะปะตัะบะฐะปัั ะฒ ัะฐะบั ััะพะผั ะดะฒะธะถะตะฝะธั. ะะธะทะต ะฟะพัะตะผั-ัะพ ััะพ ััะฐะปะพ ะฟัะธััะฝะพ, ะธ ะพะฝะฐ ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะดะปั ัะตะฑั ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ะะฝะดัะตั. ะะฝ ััะผะฝะพ ะฒัะดะพั
ะฝัะป, ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะพัะฒะตัะธะฒ ะฟัะฐะดะตะดั.
ะขะพะณะดะฐ ะณะตะฝะตัะฐะป ะฒะตะปะตะป ะฟัะฐะฒะฝัะบั ะดะตัะถะฐัั ะทะฐ ะปะตะฒัั ัััะบั, ะฐ ะะธะทะต ะฒะทััั ะฟัะฐะฒัั.
ะะฐะด ัััะฝะพะน ัะฑะพะฝะธัะพะฒะพะน ะฟะพะฒะตัั
ะฝะพัััั ะธั
ะฟะฐะปััั ะบะพัะฝัะปะธัั, ะธ ะผะตะถะดั ะฝะธะผะธ ะฟัะพัะบะพัะธะปะฐ ะธัะบัะฐ. ะะฐะถะตััั, ะพั ะฝะตั ะทะฐะถะณะปะฐัั ะดะฐะถะต ะปะฐะผะฟะพัะบะฐ ะฒ ััะฐัะพะผ ะฐะฑะฐะถััะต ะฝะฐะด ััะพะปะพะผ, ะธ ะฒ ััะพั ะผะพะผะตะฝั ะฝะฐัะฐะปะพัั ะฒะพะปัะตะฑััะฒะพ.
ะะฝะธ ะฟะตัะตะฟะปะตะปะธัั ะฟะฐะปััะฐะผะธ, ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะฟะพะฟะปัะปะฐ, ะฑัะดัะพ ัะฐะทะดะฒะธะณะฐััั ะฒ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพััั, ะฝะต ะฑัะปะพ ัะถะต ะฝะธัะตะณะพ, ะบัะพะผะต ะฝะธั
ัะฐะผะธั
. ะะต ะฑัะปะพ ััะฐัะพะณะพ ะดะฐัะฝะพะณะพ ะดะพะผะฐ, ะถะธะฒััะตะณะพ ัะฒะพะตะน ัะบัะธะฟััะตะน ะถะธะทะฝัั, ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธ ััะฐัะธะบะพะฒ, ะฝะฐัะตะปัะฒัะธั
ะตะณะพ, ะฝะธ ะฟัะพัะปัั
ะธ ะฑัะดััะธั
ะฒะพะนะฝ, ะณะดะต ะพะฝะธ, ะฝะต ััะฐะฒัะธะต ะตัั ััะฐัะธะบะฐะผะธ, ะดัะฐะปะธัั ะฝะฐัะผะตััั ั ัะฐะบะธะผะธ ะถะต, ะบะฐะบ ะพะฝะธ, ัะฝะพัะฐะผะธ, ะฝะต ะฑัะปะพ ะพะณัะพะผะฝะพะณะพ ะณะพัะพะดะฐ ััะดะพะผ ะธ ะธััะตะทะปะธ ะผะธะปะปะธะพะฝั ะปัะดะตะน, ะบะพัะพััะต ั
ะพัะตะปะธ ะฒะปะฐััะธ, ะดะตะฝะตะณ, ัะปะฐะฒั, ะฑะตััะผะตััะธั ะธ ะผะฝะพะถะตััะฒะพ ะณะปัะฟัั
ะฒะตัะตะน.
ะัะบัะฐะผะธ ะฒ ะพัะดะฐะปะตะฝะธะธ ะฒะพะทะฝะธะบะปะธ ะธั
ะดััะทัั, ะพะฝะธ ะพะฟัะตะดะตะปัะฝะฝะพ ัััะตััะฒะพะฒะฐะปะธ, ะธ ะฝะฐ ััะธ ัะฒะตัััะธะตัั ะพะณะพะฝัะบะธ ะฑัะปะพ ะฟัะธััะฝะพ ัะผะพััะตัั. ะะพ ะฒัั ะถะต ะะธะทะฐ ะธ ะะฝะดัะตะน ะฒะธัะตะปะธ ะฒ ััะพะผ ะบะพัะผะพัะต ะฒะดะฒะพัะผ, ะฒะพะบััะณ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฒัะฐัะฐะปะธัั ะทะฒัะทะดั-ะปัะดะธ, ะฝะพ ััะบะธั
ะฑัะปะพ ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะผะฝะพะณะพ โ ะฒะพั ัะพะดะธัะตะปะธ, ะฒะพั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ, ะดะฐ ะธ ัะพ ะฝะต ะฒัะต. ะะพั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัััะฝัั
ะดัั, ะธะผะตะฒัะธั
ะธะผะตะฝะฐ, ะบะพัะพััะต ะะธะทะฐ ะฑัะปะฐ ะฝะต ะฒ ัะธะปะฐั
ะฟัะพัะธัะฐัั.
ะะธะทะฐ ะฒ ััะพั ะผะพะผะตะฝั ะฟะพะดัะผะฐะปะฐ, ััะพ, ะผะพะถะตั, ะฒัั ะดะตะปะพ ะฒ ัะดะฐัะต ัะพะบะพะผ ะธ ะฒ ััะธั
ะฒะพััะพัะฝัั
ัะฐัั
, ะบะพัะพััะต ะพะฝะธ ะฟะธะปะธ, ะฝะพ ัะบะพัะพ ะตะน ััะฐะปะพ ะฝะต ะดะพ ัะพะณะพ. ะ ะตะฐะปัะฝะพััั ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะธะทะผะตะฝะธะปะฐัั, ะฒัั ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะพ ะฟะพะบััะปะพัั ะผะฝะพะถะตััะฒะพะผ ัะฐะทะฝะพัะฒะตัะฝัั
ะปะธะฝะธะน, ะธ ะพะดะฝะฐ ะธะท ะฝะธั
, ะณะพะปัะฑะฐั, ัะฒัะทัะฒะฐะปะฐ ะะธะทั ั ะะฝะดัะตะตะผ. ะะฝะฐ ะฑัะปะฐ ัะพ ะพัะตะฝั ัะพะปััะพะน, ัะพ ะธััะพะฝัะฐะปะฐัั ะธ ะตะดะฒะฐ ะฝะต ัะฒะฐะปะฐัั. ะััะณะธะต ะปะธะฝะธะธ ััะฝัะปะธัั ะทะฐ ะณัะฐะฝะธัั ะดะฐัะฝะพะณะพ ััะฐััะบะฐ, ะบะฐะบะธะต-ัะพ ะธะท ะฝะธั
ัั
ะพะดะธะปะธ ะฒะฒะตัั
ะธ ะฒะฝะธะท, ะธ ะฒัะต ะพะฝะธ ะดะฒะธะณะฐะปะธัั, ะฟะตัะตะผะตัะฐะปะธัั, ะฝะพ ัะพะปัะบะพ ัะฐ, ััะพ ัะฒัะทัะฒะฐะปะฐ ะตั ั ะะฝะดัะตะตะผ, ะฝะต ะดะฒะธะณะฐะปะฐัั ะฝะธะบัะดะฐ, ะฟัะปััะธัะพะฒะฐะปะฐ, ะฝะต ะผะตะฝัะปะฐ ัะฒะพะตะณะพ ะณะพะปัะฑะพะณะพ ัะฒะตัะฐ. ะะฝะธ ะฟะปัะปะธ ะผะตะถะดั ะทะฒัะทะด, ะบะฐะบ ะดะฒะฐ ะบะพัะผะพะฝะฐะฒัะฐ, ะฟะพัะตััะฒัะธะต ัะฒะพะน ะบะพัะฐะฑะปั, ะธ ััะพ ะฑัะปะพ ะณะปะฐะฒะฝัะผ ะทะฝะฐะฝะธะตะผ, ะฐ ะฝะต ะผะตััะฐะฒัะธะต ัะฐะทะฝัะผ ัะฒะตัะพะผ ะพะฟะฐัะฝะพััะธ ะธ ัะฐะนะฝั.
โ ะัั, ะพัะฝัะปะธัั. ะงะฐะนะบั ะฟะพะฟะตะนัะต.
โ ะญัะพ ั ะฒะฐั ะฑัะป ััะพ, ัะฐะน ั ะบะพะฝััะบะพะผ? โ ัะฟัะพัะธะป, ะฟะตัะตะฒะพะดั ะดัั
, ะะฝะดัะตะน.
โ ะะพั ะตัั, โ ะฟะพะดะถะฐะป ะณัะฑั ััะฐัะธะบ. โ ะกัะฐะฝั ั ะฝะฐ ัะตะฑั ะฟะตัะตะฒะพะดะธัั ะบะพะฝััะบ. ะขั ะฟะพ ะผะฐะปะพะปะตัััะฒั ะตัั ะฒัะตะผ ัะบะฐะถะตัั, ัะฐะบ ััะฐะผั ะฝะต ะพะฑะตัะตัััั. ะะฝะต ัะฐะผะพะผั ะทะฐะฟัะตัะธะปะธ ะฟะธัั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ัะต ะฒัะฐัะธ, ััะพ ะทะฐะฟัะตัะธะปะธ, ัะถะต ัะฐะผะธ ะดะฐะฒะฝะพ ะฟะตัะตะผััะปะธ.
ะะฝ ะทะฐัะผะตัะปัั, ะธ ัะผะตั
ะฑัะป ะฟะพั
ะพะถ ะฝะฐ ะผะฐะปะตะฝัะบะธะน ัะตััััะฝะพะน ะบะปัะฑะพัะตะบ, ะบะพัะพััะน ะฒัะบะฐัะธะปัั ะฝะฐ ััะพะป, ะฟััะณะฝัะป ะธ ัะฝะพะฒะฐ ะธััะตะท ะฟะพะด ััะพะปะพะผ.
โ ะ ัะบะพะปัะบะพ ะผั?.. ะกะบะพะปัะบะพ ะฝะฐั ััั ะฝะต ะฑัะปะพ?
โ ะะธัะบะพะปัะบะพ. ะัะธะบะพัะฝัะปะธัั, ะดะฐ ััะบะธ ะพัะดััะฝัะปะธ ะพั ะธัะบัั. ะ ััะพ ะฒั ะฒะธะดะตะปะธ?
โ ะะธัะตะณะพ, ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฝะธัะตะณะพ, โ ะฑััััะพ ะฟัะพะธะทะฝะตัะปะฐ ะะธะทะฐ.
โ ะัะฐะฒะธะปัะฝะพ ะพัะฒะตัะฐะตัะต, โ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ัะปัะฑะฝัะปัั ััะฐัะธะบ, ะบะฐะบ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ะฑั ัะตัะตะฟะฐั
ะฐ.
ะะดัััะฐะฝั ะพััะพะตะดะธะฝะธะป ัััะบั, ัะฟะฐะบะพะฒะฐะป ััะธะบ ะพะฑัะฐัะฝะพ ะฒ ะฑัะตะทะตะฝัะพะฒัะน ะผะตัะพะบ ะธ ัััะป ั ะฝะธะผ ะบัะดะฐ-ัะพ. ะฅะพะทัะธะฝ ัะบะฐะทะฐะป ัััะฐะปะพ:
โ ะญัะพ ั
ะพัะพัะพ, ััะพ ะผั ะฟะพะฒะธะดะฐะปะธัั. ะ ั
ะพัะพัะพ, ััะพ ัั ะฟัะธะตั
ะฐะป ะฝะต ะพะดะธะฝ, ััะพ ะพัะตะฝั ัะตะฝะฝะพ. ะะพัะพะผั ััะพ ั ััะฟะตั ัะบะฐะทะฐัั ัะตะฑะต ะฒะฐะถะฝัั ะฒะตัั: ัั ะดะพะปะถะตะฝ ะฝะต ะฟะพะฝััั, ะฐ ัะตะฝะธัั ัะพ ััะฒััะฒะพ, ััะพ ั ัะตะฑั ะตััั. ะะพะนะผััั ะฟะพัะพะผ. ะ ะพะดะธัะตะปะธ ัะตะฑะต ัะฒะตัะดัั, ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ, ะฟัะพ ะพัะตะฝะบะธ ะฒ ัะฐะฑะตะปะต. ะะต ัะฟะพัั ั ะฝะธะผะธ, ะฝะพ ัะต ะดััะทัั, ะบะพัะพััะต ะตััั ั ัะตะฑั ัะตะนัะฐั, ะฒัะตะณะดะฐ ะฑัะดัั ะณะปะฐะฒะฝะตะต. ะกะฐะผัะต ะฒะฐะถะฝะพะต ั ัะตะฑั ะธะผะตะฝะฝะพ ัะตะนัะฐั, ั
ะพัั ะฟะพัะพะผ ะฑัะดะตั ะบะฐะทะฐัััั, ััะพ ะฟะพัะฐ ะฒััะฐััะฐัั ะธะท ะดะตััะบะพะน ะดััะถะฑั ะธ ะฒะปัะฑะปะตะฝะฝะพััะธ. ะั ะฑัะดะตัะต ัะฐัััะฐะฒะฐัััั ะธ, ะผะพะถะตั, ะทะฐะถะธะฒััะต ะฟะพัะพะทะฝั, ะฝะพ ััะพ ะฒัั ะณะปัะฟะพััะธ. ะััะถะฑะฐ, ะบะพัะพัะฐั ัะตะนัะฐั, ะฝะฐะฒัะตะณะดะฐ, ั ัะตะฑะต ะณะพะฒะพัั, ะธ ะฟัะตะดะฐัะตะปัััะฒะพ ัะพะถะต ะฝะฐะฒัะตะณะดะฐ. ะัะตะฝั ะฒะฐะถะฝะพ, ััะพะฑั ั ัะพะฑะพะน ะฑัะปะธ ะปัะดะธ, ะบะพัะพััะต ะฟะพะผะฝัั ัะตะฑั ั ะดะตัััะฒะฐ. ะะฝะธ, ะบะฐะบ ัะฐัะพะฒัะต, โ ะฝะต ะดะฐะดัั ัะตะฑะต ัะดะตะปะฐัั ะฝะตะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพะณะพ ัะฐะณะฐ. ะขั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะตะณะพ ัะดะตะปะฐะตัั, ะฝะพ ะพะฝะธ ััะฟะตัั ะบัะธะบะฝััั ัะตะฑะต: ยซะกัะพะน!ยป, ะธ ัั, ะผะพะถะตั, ััะปััะธัั.
ะะฟัะพัะตะผ, ั ัััะฐะป. ะัะพัะฐัััั ะฝะต ะฝะฐะดะพ, ัะตะนัะฐั ั ัะบะฐัััั ะพั ะฒะฐั ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั, ะฐ ะะธะบะธัะฐ ะะฐัะธะปัะตะฒะธั ะดะพะฒะตะทะตั ะฒะฐั ะดะพ ะณะพัะพะดะฐ. ะะฝ ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ััะดะฐ ัะพะฑะธัะฐะปัั.
ะะฐะถัะถะถะฐะป ะผะพัะพั ะบะพะปััะบะธ, ะธ ะะธะทะฐ ั ะะฝะดัะตะตะผ ัะฒะธะดะตะปะธ, ะบะฐะบ ััะฐััะน ะณะตะฝะตัะฐะป ะธััะตะทะฐะตั ะฒ ะฟัะพัะผะต ะดะฒะตัะธ.
ะะฐะถะตััั, ะฝะฐะฒัะตะณะดะฐ.
ะะปะฐะฒะฐ 21. ะะฒะณะตะฝะธะน ะกัะปะตั. ะััะปั


ะะฝะดัะตะน ะธ ะะธะทะฐ ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปะธัั ะฒ ะะพัะบะฒั ะฝะฐ ัะปะตะบััะธัะบะต. ะะพัะปะต ะฟะตัะตะถะธัะพะณะพ ะฝะฐ ะดะฐัะต ะณะพะฒะพัะธัั ะฝะต ั
ะพัะตะปะพัั. ะกะปะพะฒะฐ ะบะฐะทะฐะปะธัั ะปะธัะฝะธะผะธ ะธ ะฝะตะฝัะถะฝัะผะธ. ะั
ะฐะปะธ ะผะพะปัะฐ, ัะผะพััะตะปะธ ะฒ ะพะบะฝะพ ะฝะฐ ะฟัะพะฑะตะณะฐััะธะน ะผะธะผะพ ัะฑะพะณะธะน ะฟะตะนะทะฐะถ. ะฃะบัะฐะดะบะพะน ะฟะพะณะปัะดัะฒะฐะปะธ ะดััะณ ะฝะฐ ะดััะณะฐ. ะะฐะถะดัะน ะดัะผะฐะป ะพ ัะฒะพัะผ.
ะะฝะดัะตะน ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะป, ะบะฐะบ ะพะฑะฝัะป ะะฝั ะดะพะผะฐ ั ะะตัะธ, ะบะพะณะดะฐ ะฒัะต ะฟัะพัะธะปะธ ะดััะณ ั ะดััะณะฐ ะฟัะพัะตะฝะธั. ะะฝั ะฟัะธะถะฐะปะฐัั ะบ ะฝะตะผั ะธ ะฒัะฟะปะฐะบะฐะปะฐ ะฝะฐ ะตะณะพ ะฟะปะตัะพ ะฒะพะดะพะฟะฐะด ัะปัะท. ะะผั ั
ะพัะตะปะพัั ะดะตัะถะฐัั ะตั ะธ ะฝะต ะพัะฟััะบะฐัั. ะะฝ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณ ััะพะณะพ ะทะฐะฑััั. ะฃัะธะปะธะตะผ ะฒะพะปะธ ะทะฐััะฐะฒะธะป ัะตะฑั ะฝะต ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐัั. ะ ัะตะนัะฐั ัะฝะพะฒะฐ ะฒัะฟะพะผะฝะธะป, ะธ ะฝะฐ ะดััะต ััะฐะปะพ ัะพัะบะปะธะฒะพ, ะฑัะดัะพ ะบัะพ-ัะพ ัะผะตั.
ะ ัะดะพะผ ะตั
ะฐะปะฐ ะะธะทะฐ, ัะฐะบะฐั ะฑะปะธะทะบะฐั, ะดะพัััะฟะฝะฐั, ะฟัะพััะฝะธ ััะบั, ะฟัะธะถะผะธ ะบ ัะตะฑะต ะธ ะฝะต ะพัะฟััะบะฐะน. ะะณะพ ะะธะทะฐ, ะฒะตัะฝะฐั ะะธะทะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะฒัะตั
ัะฟะฐัะปะฐ, ะฒะตัะฝัะปะฐ ะฒ ัะตะฐะปัะฝะพััั, ััััะปะฐ ะดััะฝัั ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพััั ัะฐะฝัะพะผะพะฒ, ะธัะฟัะฐะฒะธะปะฐ ะฑััะธะต, ะฟะพัะธะฝะธะปะฐ, ะฝะฐะฒะตะปะฐ ัะตะทะบะพััั ะผะธัะฐ. ะะพะถะตััะฒะพะฒะฐะฒ ัะฒะพะธะผ ะดะฐัะพะผ. ะะตะดะฝะฐั ะะธะทะฐ. ะะฝะดัะตะน ะทะฝะฐะป, ััะพ ะะธะทะฐ ะตะณะพ ะดััะณ, ะพะฝ ะปัะฑะธะป ะะธะทั, ะฝะพ ะฒะปะตะบะปะพ ะตะณะพ ะบ ะะฝะต.
ะขะตัะทะฐะฝะธั ะะฝะดัะตั ะฟัะตัะฒะฐะปะพ ัะพะพะฑัะตะฝะธะต, ะฟัะธัะตะดัะตะต ะฒ ะพะฑัะธะน ัะฐั. ะะฝะดัะตะน ะธ ะะธะทะฐ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะฒ ัััะฝะพะต ะทะตัะบะฐะปะพ, ะบะฐะถะดัะน ะฒ ัะฒะพั. ะก ะฟะพะฝะตะดะตะปัะฝะธะบะฐ ัะบะพะปั ะทะฐะบััะฒะฐะปะธ ะฝะฐ ะบะฐัะฐะฝัะธะฝ.
— ะ ะดะธะฒะฝัะน ะฝะพะฒัะน ะผะธั! โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ, ะณะปัะดั ะฒ ะพะบะฝะพ ะฝะฐ ะฟะพะปััะฐะทัััะตะฝะฝัั ะถะตะปะตะทะฝะพะดะพัะพะถะฝัั ััะฐะฝัะธั.
ะะพััั ะะฝะดัะตั ัะฝะธะปัั ัะพะฝ. ะัะต ััะฐัะธะบะธ ัะผะตัะปะธ, ะฝะฐ ะฒัะตะน ะฟะปะฐะฝะตัะต ะฝะต ะพััะฐะปะพัั ะฝะธ ะพะดะฝะพะณะพ. ะฃะผะตั ะตะณะพ ะฟัะฐะดะตะด ะธ ะฒะตัะฝัะน ััะฐััะน ะฐะดัััะฐะฝั ะะธะบะธัะฐ. ะะฐะถะต ะฑะตััะผะตััะฝัะน ะะปะฐัะพะฝ ะะปะฐัะพะฝะพะฒะธั ะธ ัะพั ัะผะตั. ะะฐัะตะผ ัะผะตัะปะธ ะปัะดะธ ััะตะดะฝะตะณะพ ะฒะพะทัะฐััะฐ. ะััะฐะปะธัั ะพะดะฝะธ ะดะตัะธ. ะะฟัััะตะฒัะฐั ะฟะปะฐะฝะตัะฐ ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะฐะปะฐ ะธะผ. ะะธะทะต, ะะตัะต, ะดัะดะต ะคัะดะพัั, ัััััะฐะผ ะะฐัะฐะนัะตะฒัะผ, ะตะผั ะธโฆ ะะฝั ะฝะฐะบะปะพะฝะธะปะฐัั ะบ ะฝะตะผั, ััะฐะปะพ ัะตะผะฝะพ ะธ ัะปะฐะดะบะพ.
ะะฝะดัะตะน ะฟัะพัะฝัะปัั ะฒ ะฝะฐัะฐะปะต ัะตััะพะณะพ. ะะพะปะณะพ ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฟัะพัะฒะปัััะธะนัั ะธะท ัะตะผะฝะพัั ะดะตะฝั. ะ ะพะดะฝะพะผ ะธะท ัะปััะฐะนะฝะพ ะฟะพะฟะฐะฒัะธั
ัั ะฟะพััะพะฒ ะฝะฐ ยซะฏะฝะดะตะบั.ะะทะตะฝะตยป ะะฝะดัะตะน ะฟัะพััะป, ััะพ ะฝะตะบะพัะพััะต ั
ะฐัะธะดั ััะธะปะธ: ะฝะพััั ัะฒะพัะตะฝะธะต ัะผะธัะฐะตั, ะฐ ะฝะฐ ัััะพ ะกััะธะน ัะพะทะดะฐัั ะตะณะพ ะฒะฝะพะฒั.
ะะผั ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะต ะฒัะตะผั ัะฐััะพ ะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะบะฐะถะดัั ะฝะพะฒัั ะณะปะฐะฒั ะผะธั ะดััะณะพะน ะธ ะปัะดะธ โ ะดััะณะธะต. ะขะต ะถะต, ะฝะพ ะดััะณะธะต. ะัะบัะดะฐ ั ะฝะตะณะพ ะฟะพัะฒะธะปะพัั ะดะตะปะตะฝะธะต ะถะธะทะฝะธ ะฝะฐ ะณะปะฐะฒั, ะพะฝ ะฝะต ะทะฝะฐะป, ะฝะพ ะพะฟัะตะดะตะปัะป ะณัะฐะฝะธัั ะณะปะฐะฒ ะพัะตะฝั ัััะบะพ. ะะฝะพะณะดะฐ ะฟััะผะพ ัะฐะบ ัะตะฑะต ะธ ะณะพะฒะพัะธะป: ะฝะฐัะฐะปะฐัั ะฝะพะฒะฐั ะณะปะฐะฒะฐ. ะะผั ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะปะฐัั ะบะพะผะฟะฐะฝะธั ะฑะตะทะทะฐะฑะพัะฝัั
ะฑะพะณะพะฒ, ะบะพัะพััะต ะฟะพ ะพัะตัะตะดะธ ะฟะธััั ะบะฝะธะณั ะฑััะธั. ะ ะฒัะต ะฒะพะบััะณ ะฒัะฟะพะปะฝััั ะธั
ะฟัะธััะดะปะธะฒัั ะฒะพะปั, ะดะตะปะฐัั ัะพ, ััะพ ะฑะพะณะธ ะฝะฐะฟะธััั. ะ ะฑะพะณะธ ะฟะธััั, ััะพ ะฝะฐ ะดััั ะปัะถะตั, ะธะณัะฐัั ะธะผะธ, ะบะฐะบ ะบัะฑะธะบะฐะผะธ โ ะฟะตัะตััะฐะฒะปััั, ะผะตะฝััั ะผะตััะฐะผะธ, ัะฑะธัะฐัั โ ะพั ะฝะตัะตะณะพ ะดะตะปะฐัั, ะทะฐะฟะพะปะฝัั ะฟัััะพัั. ะญัะพั ะพะฑัะฐะท ะธ ัะฐะฝััะต ะฟัะธั
ะพะดะธะป ะะฝะดัะตั ะฒ ะณะพะปะพะฒั, ะฝะพ ั ัะพะณะพ ะผะพะผะตะฝัะฐ, ะบะฐะบ ะตะณะพ ะฝะฐัะฐะปะพ ะฝะตะพัะฒัะฐัะธะผะพ ััะฝััั ะบ ะะฝะต, ััะฐะป ะฝะฐะฒัะทัะธะฒะพะน ะผะตัะฐัะพัะพะน ะผะธัะฐ.
ะ ะฒะธัะบะฐั
ััััะฐะปะพ ะตั ะบะพัะพัะบะพะต ะธะผั. ะฅะพัะตะปะพัั ะฒะทััั ะฑะฐะปะปะพะฝัะธะบ ั ะบัะฐัะบะพะน ะธ ะฝะฐะฟะธัะฐัั ะฝะฐ ะฒัั ััะตะฝั: ยซะฏ ั
ะพัั ะฑััั ั ัะพะฑะพะน, ะะฝั!ยป
ะะฝะดัะตะน ะพะดะตะปัั ะธ ะฒััะตะป ะฝะฐ ัะปะธัั. ะ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต ะฑัะปะพ ะฑะตะทะปัะดะฝะพ, ัะพะปัะบะพ ะพะดะธะฝะพะบะธะน ะดะฒะพัะฝะธะบ, ัะณะพัะฑะปะตะฝะฝัะน ััะฐัะธะบ ั ััััะพัะบะฐะผะธ ะณะปะฐะท, ะฝะตัะพัะพะฟะปะธะฒะพ ะผัะป ัะปะธัั. ะฃะฒะธะดะตะฒ ะะฝะดัะตั, ะพะฝ ะฟัะตัะฒะฐะป ัะฐะฑะพัั ะธ ะฟะพะบะปะพะฝะธะปัั, ะฟัะพะธะทะฝะตัั ะฝะฐัะฐัะฟะตะฒ:
— ะฏ ัะถะต ะทะดะตัั!
ะะฝะดัะตะน ะฟะพะบะปะพะฝะธะปัั ะฒ ะพัะฒะตั. ะกัะฐัะธะบ ะดะพะฑะฐะฒะธะป ะตัั ััะพ-ัะพ ะธ ะดะพะปะณะพ ัะผะพััะตะป ะตะผั ะฒัะปะตะด. ะะพะบะฐัะฐะป ะณะพะปะพะฒะพะน ะธ ะพะฟััั ะฟัะธะฝัะปัั ะทะฐ ัะฒะพั.
ะะฝะดัะตะน ะฑััะป ั ะดะตัััะฒะฐ ะทะฝะฐะบะพะผัะผะธ ะฟะตัะตัะปะบะฐะผะธ, ะพะฝ ะฝะต ะทะฐะฑะปัะดะธะปัั ะฑั ะฒ ะฝะธั
ะดะฐะถะต ั ะทะฐะบััััะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ. ะจัะป, ัะฐะผ ะฝะต ะทะฝะฐั, ะบัะดะฐ. ะะพ ะฝะพะณะธ ะธ ัะตัะดัะต ะทะฝะฐะปะธ. ะะฝ ััะป, ะฟะพะบะฐ ะทะฐ ะพัะตัะตะดะฝัะผ ะฟะพะฒะพัะพัะพะผ ะฝะต ะฒัััะตัะธะป ะะฝั.
ะะฝะธ ะฝะต ัะดะธะฒะธะปะธัั, ัะปะพะฒะฝะพ ะดะพะณะพะฒะพัะธะปะธัั ะพ ะฒัััะตัะต. ะะท ะณะปะฐะท ะะฝะธ ะธัั
ะพะดะธะป ะฒะธะดะธะผัะน ัะพะปัะบะพ ะตะผั ะทะตะปัะฝัะน ัะฒะตั. ะขะฐะบ ะฝะฐ ะณัะฐะฝะธัะต ะดะฐัั ะดะพะฑัะพ, ะธ ัะตะปะพะฒะตะบ ะฒัะตะทะถะฐะตั ะฒ ััะถัั ัััะฐะฝั. ะะฝะดัะตะน ะพััะพัะพะถะฝะพ, ะฝะพ ะบัะตะฟะบะพ ะฟัะธะถะฐะป ะะฝั ะบ ัะตะฑะต. ะะฝะธ ััะพัะปะธ, ะพะฑะฝัะฒัะธัั ะฟะพัะตัะตะดะธะฝะต ะฟัััะพะณะพ ะธ ัะธั
ะพะณะพ ะฟะตัะตัะปะบะฐ, ะทะฐัะตััะฝะฝะพะณะพ ะฒ ัะตะฝััะต ะะพัะบะฒั, ะธ ะธะผ ะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะพะฝะธ ะพะดะฝะธ ะฝะฐ ะฒััะผ ะฑะตะปะพะผ ัะฒะตัะต.
ะะฝัะผ ะะฝะดัะตะน ะฒัััะตัะธะปัั ั ะะธะทะพะน ะฒ ะธั
ะปัะฑะธะผะพะผ ะบะฐัะต.
— ะะธะทะฐ, ั ะดะพะปะถะตะฝ ัะตะฑะต ััะพ-ัะพ ัะบะฐะทะฐัั, โ ะฝะฐัะฐะป ะะฝะดัะตะน ะธ ะพััะบัั.
ะัะฐะดะตะด ะฒ ะัััั
ะณะพัะฐั
ัะฟะพะผะธะฝะฐะป ะพ ะฟัะตะดะฐัะตะปัััะฒะต. ะงัะพ ะพะฝ ัะตะนัะฐั ะดะตะปะฐะตั? ะัะตะดะฐัั? ะ ะตัะปะธ ะดะฐ, ัะพ ะบะพะณะพ, ะตั ะธะปะธ ัะตะฑั?
— ะกะบะฐะถะธ, โ ะะธะทะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะตะผั ะฟััะผะพ ะฒ ะณะปะฐะทะฐ.
ะะฝะดัะตะน, ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะฒ ะตั ะฒะทะณะปัะดะฐ, ะพะฟัััะธะป ะณะปะฐะทะฐ ะฒ ัััะฝัะน ะพะบะตะฐะฝ, ะผะธะบัะพะบะพัะผะพั ะฒ ะฑะตะปะพะน ะบะพัะตะนะฝะพะน ัะฐัะบะต ั ะฟะตะฝะพะน ะผะปะตัะฝะพะณะพ ะฟััะธ ะฒ ัะตะฝััะต. ะ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ั
ะพัะตะป ะฟะพะฒะตะดะฐัั ััะพะผั ะฝะตะฟัะพะฝะธัะฐะตะผะพะผั ะพะบะตะฐะฝั ัะฒะพั ัะฐะนะฝั, ัะธั
ะพ ะฟัะพะธะทะฝัั:
— ะะตะถะดั ะผะฝะพะน ะธ ะะฝะตะน ััะพ-ัะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั. ะะฐะบะพะต-ัะพ ัะปะตะบััะธัะตััะฒะพ. ะะพะณะดะฐ ั ั ะฝะตะน, ะฟะพ ะผะฝะต ัะปะพะฒะฝะพ ะฟััะบะฐัั ัะพะบ. ะ ะบะพะณะดะฐ ะตั ะฝะตั โ ะผะตะฝั ะฒัะบะปััะฐัั.
— ะะพะฝััะฝะพ, โ ะะธะทะฐ ัะปัะฑะฝัะปะฐัั. ะะพะฟััะฐะปะฐัั ัะปัะฑะฝััััั, ะฝะพ ะฒััะปะพ ะฝะต ะพัะตะฝั.
ะ ัะฝะพะฒะฐ ะดะพะฑะฐะฒะธะปะฐ:
— ะะพะฝััะฝะพ.
— ะงัะพ ัะตะฑะต ะฟะพะฝััะฝะพ?
— ะัั.
— ะะธะทะฐ, ะฟะพะนะผะธโฆ
— ะะต ะฝะฐะดะพ, ะะฝะดัะตะน. ะขั ัะธะปัะฝัะน, ะฝะพ ัะปะฐะฑัะน. ะ ั ัะปะฐะฑะฐั, ะฝะพ ัะธะปัะฝะฐั. ะฏ ัะฟัะฐะฒะปััั. ะะดะธ.
— ะ ัั?
— ะ ั ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฟะพัะธะถั ะธ ัะพะถะต ะฟะพะนะดั.
— ะัะดะฐ?
— ะะธัั, ะะฝะดัััะฐ, ััะธัััั ะถะธัั ะฑะตะท ัะตะฑั. ะขั ะธ ัะฐะบ ัะปะธัะบะพะผ ะดะพะปะณะพ ะฑัะป ััะดะพะผ. ะะพะณะปะฐ ะฑั ะธ ะดะพะณะฐะดะฐัััั, ััะพ ัะฐะบ ะฑัะดะตั ะฝะต ะฒัะตะณะดะฐ. ะะฑะธะดะฝะพ ัะพะปัะบะพ, ััะพ ััะพ ะจะตัะณะฐ. ะะฟััั ััะฐ ะฟัะพะบะปััะฐั ััะฐัะฐั ะจะตัะณะฐโฆ ะะฝะฐ ัะพะทะดะฐะฝะฐ ะผััะธัั ะผะตะฝั, ะพััะฐะฒะปััั ะผะฝะต ะถะธะทะฝั. ะั, ะฑะพะฑัั, ะฒะตัะตะปั!.. ะัั ั
ะพัะพัะพ, ะธะดะธ!
ะะฝะดัะตะน ะฒััะฐะป ะธ ะฟะพััะป ะฝะฐ ะฒะฐัะฝัั
ะฝะพะณะฐั
ะบ ะฒัั
ะพะดั. ะะพัะพะผ ะฒะตัะฝัะปัั, ัะตะป ััะดะพะผ. ะะพัะธะดะตะป ะธ ัะฝะพะฒะฐ ัััะป.
ะะธะทะฐ ะฟะพะดะพะถะดะฐะปะฐ, ะดะพััะธัะฐะปะฐ ะดะพ ะดะตัััะธ ะธ ะณะพััะบะพ, ะบะฐะบ ะฒ ะดะตัััะฒะต, ะทะฐะฟะปะฐะบะฐะปะฐ.
ะ ััะพ ัะฐะผะพะต ะฒัะตะผั ะฒ ะดััะณะพะผ ะบะฐัะต ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ั ะะฐัะตะน ะกะตะปะตะทะฝัะฒัะผ.
— ะะฝั, ััะพ ะฟัะพััะพ ัะผะตัะฝะพ, โ ัะฑะตะถะดะฐะป ะะฐัั. โ ะขั ะตะณะพ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะทะฝะฐะตัั! ะขะตะฑะต ะฝัะฐะฒะธััั ะฒะฝะตัะฝัั ัะพัะผะฐ. ะะพะณััะตะต ะปัะฑะพัะบะพะต ัะตะปะพ! ะะพั ะธ ะฒัั. ะญัะพ ะฟัะพะนะดัั ะฑััััะตะต, ัะตะผ ัั ะดัะผะฐะตัั. ะะณะปัะฝััััั ะฝะต ััะฟะตะตัั, ะบะฐะบ ัะฐัั ัะฟะฐะดัั!
— ะะฐัั, ัั ัะตะฑั ัะปััะธัั?! ยซะงะฐััยป! ะขั ัะบะฐะทะฐะป: ยซัะฐัั ัะฟะฐะดััยป!
ะกะปะพะฒะฐ ะะฝะธ ะตะณะพ ะพััะตะทะฒะธะปะธ. ะะฝ ัะฒะธะดะตะป ัะตะฑั ัะพ ััะพัะพะฝั. ะัะณะปัะดะตะป ะพะฝ ะธ ะฒะฟัะฐะฒะดั ะถะฐะปะบะพ. ะะฐัั ัะพะฑัะฐะปัั ะธ ะพัััะธะป ะฝะตะฒัะฝะพัะธะผัั ะทะปะพะฑั. ยซะขั ัััะฟ, ะัะฑะพะบ, ัั ัััะฟ!ยป โ ะฟัะพะธะทะฝัั ะะฐัั ะฟัะพ ัะตะฑั ะฝะต ัะฒะพะธะผ ะณะพะปะพัะพะผ. ะัะปัั
ะถะต ััั
ะพ ัะบะฐะทะฐะป:
— ะฅะพัะพัะพ, ะะฝั. ะฏ ัะตะฑั ััะปััะฐะป. ะะพะถะตัั ะธะดัะธ.
ะะฝั ั
ะพัะตะปะฐ ััะพ-ัะพ ะดะพะฑะฐะฒะธัั, ะฝะพ ะฒะธะด ะะฐัะธ ะตั ะพััะฐะฝะพะฒะธะป. ะขะฐะบะธะผ ะพะฝะฐ ะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะตะณะพ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะฐ. ะะฐะถะต ะฝะต ะผะพะณะปะฐ ะฟัะตะดััะฐะฒะธัั, ััะพ ะพะฝ ัะฐะบะธะผ ะผะพะถะตั ะฑััั. ะ ะฝัะผ ะฟะพัะฒะธะปะพัั ััะพ-ัะพ ะถัััะบะพะต ะธ ะฒะปะฐััะฝะพะต, ะณะพะปะพั ะทะฐะทะฒััะฐะป ะฝะธะถะต ะธ ัะธัะต, ะพะฝ ััะฐะป ะพัะตะฝั ะฟะพั
ะพะถ ะฝะฐ ะพััะฐ.
— ะกะฒะพะฑะพะดะฝะฐ! โ ะฟะพะฒัะพัะธะป ะะฐัั ั ะผะตัะฐะปะปะพะผ ะฒ ะณะพะปะพัะต.
ะะฝั ะฟะพะดัะธะฝะธะปะฐัั ะธ ััะปะฐ.
ะะฐัั ะตัั ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฟะพัะธะดะตะป ะฒ ะทะฐะดัะผัะธะฒะพััะธ. ะะฐะบะฐะทะฐะป ะฑะตะทะฐะปะบะพะณะพะปัะฝัะน ะผะพั
ะธัะพ, ะฝะต ัะฟะตัะฐ ะฒัะฟะธะป ะตะณะพ. ะะทัะป ัะตะปะตัะพะฝ ะธ ะฝะฐะฟะธัะฐะป: ยซะะพัะพะณะพะน ะะฝะดัะตะน, ั ะฒัะทัะฒะฐั ัะตะฑั ะฝะฐ ะดััะปั. ะฃัะปะพะฒะธั ะพััะฐะฒะปัั ะทะฐ ัะพะฑะพะนยป. ะฅะพัะตะป ะฟะพััะฐะฒะธัั ะฒ ะบะพะฝัะต ััะพััะฝะพะต ัะผะพะดะทะธ, ะฝะพ ะฟะตัะตะดัะผะฐะป.
ะัะฒะตั ะฟัะธััะป ะฑััััะพ. ยซะะพัะพะณะพะน ะะฐัั, ะฒัะตะณะดะฐ ะบ ัะฒะพะธะผ ััะปัะณะฐะผ. ะัะฐะฒะพ ะฒัะฑัะฐัั ััะปะพะฒะธั ะฟัะตะดะพััะฐะฒะปัั ัะตะฑะตยป. ะะฝะดัะตะน ะฝะฐะฟะธัะฐะป ะตัั: ยซะะฝะต ะถะฐะปั, ััะพ ัะฐะบ ะฒััะปะพยป. ะะพ ัััั ะธ ะฝะต ะพัะฟัะฐะฒะธะป.
ะฃััะพ ะฑัะปะพ ะฟัะพั
ะปะฐะดะฝัะผ. ะะต ั
ะฒะฐัะฐะปะพ ััะผะฐะฝะฐ, ัะบััะฒะฐะฒัะตะณะพ ั
ะพะปะพะดะฝัั ะทะตะผะปั. ะัะปะธ ะฑั ััะพ ะบัะพ-ัะพ ะฟะธัะฐะป, ะฟะพะดัะผะฐะป ะะฝะดัะตะน, ัะพ ััะผะฐะฝ ะฑัะป ะฑั ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ. ะะพ ะฟะพัะบะพะปัะบั ะฒัั ะฟัะพะธัั
ะพะดะธะปะพ ะฒ ัะตะฐะปัะฝะพััะธ, ััะผะฐะฝะฐ ะฝะต ะฑัะปะพ.
ะกะตะบัะฝะดะฐะฝัะพะผ ะะฐัะธ ะฑัะป ะดัะดั ะคัะดะพั. ะกะตะบัะฝะดะฐะฝัะพะผ ะะฝะดัะตั โ ะะตัั ะะตะทะฝะพั.
— ะััะทัั, ั ะฟัะตะดะปะฐะณะฐั ะฒะฐะผ ะฟัะธะผะธัะธัััั, ััะพ ะตัั ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ! โ ั ะดััะพะน ะฒะพัะบะปะธะบะฝัะป ะะตัั. โ ะัะฟะพะผะฝะธัะต, ัะบะพะปัะบะพ ั
ะพัะพัะตะณะพ ะฑัะปะพ ะผะตะถะดั ะฒะฐะผะธ!
— ะฏ ะณะพัะพะฒ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะฝะต ะถะฐะปัโฆ
— ะะต ะฝะฐะดะพ ัะปะพะฒ, ะัะฑะพะบ! โ ะทะปะพ ะฟัะตัะฒะฐะป ะตะณะพ ะะฐัั. โ ะขั ะฒะทัะป ัะฐะผะพะต ะดะพัะพะณะพะต, ััะพ ั ะผะตะฝั ะฑัะปะพ. ะ ะดะพะปะถะตะฝ ะทะฐ ััะพ ะพัะฒะตัะธัั!
— ะะฐะบ ะฑัะดะตั ัะณะพะดะฝะพ! โ ัััะธะฒะพ ะฟะพะบะปะพะฝะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน.
ะกะปะพะฒะพ ะฒะทัะป ะดัะดั ะคัะดะพั:
— ะกัะพัะพะฝั ะฝะต ะฟัะธัะปะธ ะบ ัะพะณะปะฐัะตะฝะธั ะธ ะพัะบะฐะทะฐะปะธัั ะพั ะฟัะธะผะธัะตะฝะธั!
ะคะตะดั ะณะพะฒะพัะธะป ัะฐะบ, ะฑัะดัะพ ะฒะตะปะฐัั ััะฐะฝัะปััะธั ะฟะพะตะดะธะฝะบะฐ, ะฝะพ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะพัะบะปััะธะปะพัั, ะธ ะพะฝ ะฒัะฝัะถะดะตะฝ ะบะพะผะผะตะฝัะธัะพะฒะฐัั ะฟัะพะธัั
ะพะดััะตะต, ะฟะพะบะฐ ะฒะธะดะตะพ ะฝะต ะฟะพัะฒะธััั ะฒะฝะพะฒั.
— ะัะธัััะฟะธะผ! ะั ัะบะฐัะฐะปะธ GTA?
ะััะปัะฝัั ะบะธะฒะฝัะปะธ.
— ะฅะพัะพัะพ. ะะฐะฟะพะผะธะฝะฐั ััะปะพะฒะธั. ะะฐัะฐ ะทะฐะดะฐัะฐ ัะณะฝะฐัั ัะฐะผะพะปัั. ะะพะณะพ ะฟะตัะฒัะผ ัะฑััั, ัะพั ะฟัะพะธะณัะฐะป ะธ ะดะพะปะถะตะฝ ะฑัะดะตั ะฟััะณะฝััั ั ะบัััะธ. ะัะตะผ ะฒัั ััะฝะพ?
— ะ ะตะฑััะฐ, ั ะฒะฐั ะฟัะพััโฆ ะญัะพ ะณะปัะฟะพ, ะฟัะตะบัะฐัะธัะต! โ ะฒะฝะพะฒั ะฟะพะฟััะฐะปัั ะฟัะธะผะธัะธัั ะธั
ะะตัั.
— ะะตะทะฝะพั, ะบะพะฝัะฐะน, ะฒัั ัะตัะตะฝะพ! โ ะฟัะตัะฒะฐะป ะตะณะพ ะะฐัั.
— ะะต ะฝะฐะดะพ, ะะตัั, โ ะะฝะดัะตะน ะผัะณะบะพ ะพััััะฐะฝะธะป ะตะณะพ ะธ ะดะพััะฐะป ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ.
ะะฐัั ะดะพััะฐะป ัะฒะพะน.
— ะะตะทะฝะพั, ะฟัะพะฒะตัั ะทะฐััะดะบั ั ะะฐัะธ, ะฐ ั ะฟัะพะฒะตัั ั ะัะฑะพัะบะพะณะพ!
ะะฐะปััั ะะตัะธ, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฟัะพะฒะตััะป ัะตะปะตัะพะฝ, ะทะฐะผะตัะฝะพ ะฟะพะดัะฐะณะธะฒะฐะปะธ.
— ะขะตะปะตัะพะฝั ะทะฐััะถะตะฝั. ะัะธะณะพัะพะฒะธะปะธัั! โ ัะบะพะผะฐะฝะดะพะฒะฐะป ะดัะดั ะคัะดะพั.
ะะตัั ะฒ ะพััะฐัะฝะธะธ ะทะฐะบััะป ะปะธัะพ ััะบะฐะผะธ.
— ะะพะตั
ะฐะปะธ! โ ััะฒะบะฝัะป ะดัะดั ะคัะดะพั, ะดะฐะฒ ะฒ ะบะพะฝัะต ยซะฟะตััั
ะฐยป.
ะััะปั ะฝะฐัะฐะปะฐัั. ะะฝะดัะตะน ะธ ะะฐัั ะฒะฟะธะปะธัั ะฒ ัะผะฐัััะพะฝั. ะะฐะทะฐะปะพัั, ะพะฝะธ ะฒะพั-ะฒะพั ะฝะฐัะฝัั ะฟะตัะตัะตะบะฐัั ะฟะพ ัั ััะพัะพะฝั ัะบัะฐะฝะฐ, ััะพ ะณะฐะดะถะตัั ะธั
ะทะฐัะพััั, ะบะฐะบ ะฟัะปะตัะพั ะฟัะปั.
ะะพ ะฒะดััะณ โ ะพ, ััะพ ััะดะตัะฝะพะต ยซะฒะดััะณยป, ัะบะพะปัะบะพ ะถะธะทะฝะตะน ะพะฝะพ ัะถะต ัะฟะฐัะปะพ ะธ ัะฟะฐััั ะฒะฟัะตะดั! โ ะฒ ะฝะฐัััะฟะธะฒัะตะน ัะธัะธะฝะต, ะฟัะตััะฒะฐะตะผะพะน ะฝะตัะฒะฝัะผ ัะพะฟะตะฝะธะตะผ ัะตะฑัั, ัะฐะทะดะฐะปัั ััะดะพะฒะธัะฝะพะน ัะธะปั ะณัะพั
ะพั. ะะตะผะปั ัะพะดัะพะณะฝัะปะฐัั ะธ ะทะฐะดัะพะถะฐะปะฐ. ะจัะผ ะดะพะฝัััั ัะพ ััะพัะพะฝั ัะบะพะปั. ะะพัะปััะฐะปะธัั ะบัะธะบะธ. ะะฐะด ะดะพะผะฐะผะธ ะฟะพะดะฝัะปะพัั ะฑะพะปััะพะต ะพะฑะปะฐะบะพ ะฟัะปะธ.
ะ ะตะฑััะฐ ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปะธัั ะธ, ะฝะต ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐััั, ะฟะพะฑะตะถะฐะปะธ ะฝะฐ ััะผ. ะะพ ะดะพัะพะณะต ะบ ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะตยป ะพะฝะธ ะฝะฐัะบะฝัะปะธัั ะฝะฐ ัะตัััั ะะฐัะฐะนัะตะฒัั
. ะกััััั ะฑัะปะธ ะฑะปะตะดะฝั ะธ ะฝะฐะฟัะณะฐะฝั.
— ะงัะพ, ััะพ ัะปััะธะปะพัั?!
— ะจะบะพะปะฐ!.. โ ัะพะปัะบะพ ะธ ัะผะพะณะปะฐ ะฒัะดะฐะฒะธัั ะะฐัะฐัะฐ.
— ะงัะพ ัะบะพะปะฐ? ะะฐัะฐัะฐ, ััะพ ัะฐะผ?
— ะะฝะฐ ััั
ะฝัะปะฐ, โ ะดะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะทะฐ ะฝะตั ะกะพะฝั. โ ะกะปะพะถะธะปะฐัั, ะบะฐะบ ะบะฐััะพัะฝัะน ะดะพะผะธะบโฆ
— ะั ะฒะทะพัะฒะฐะปะธ? ะกะปะพะผะฐะปะธ?
— ะะฝะฐ ะฒัะพะดะต ะบะฐะบ ัะฐะผะฐโฆ ะขะฐะผ ะฝะธะบะพะณะพ ะฝะต ะฑัะปะพ, ะฝะธ ัััะพะธัะตะปะตะน, ะฝะธ ะพะณัะฐะถะดะตะฝะธะนโฆ
ะะฝะธ ัะฝะพะฒะฐ ะฑัะพัะธะปะธัั ะฑะตะถะฐัั. ะ ะฝะธะผ ะฟัะธัะพะตะดะธะฝัะปะธัั ะฒัั ะฝะพะฒัะต ะปัะดะธ. ยซะฃะทะฝะฐะปะฐ, ััะพ ั
ะพััั ัะฝะตััะธ ะธ ัะพะฒะตััะธะปะฐ ัะฐะผะพัะฑะธะนััะฒะพ, ะบะฐะบ ัะพะฝะธะฝ, ะฟะพัะตััะฒัะธะน ั
ะพะทัะธะฝะฐ!ยป โ ััะฟะตะป ะฟะพะดัะผะฐัั ะะตัั.
ะะดะฐะปะตะบะต ะฟะพะบะฐะทะฐะปะธัั ััะธะฝั ัะพะดะฝะพะน ัะบะพะปั ะธะผะตะฝะธ ะพัััะพัะผะฝะพะณะพ ััะฐัะธะบะฐ ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั, ัะพะดะฝะพะต ะฟะตะฟะตะปะธัะต. ะ ัะฐะบ ะฝะตัะทะฝะฐะฒะฐะตะผ, ัะฐะบ ัะฐะฝัะฐััะธัะตะฝ ะฑัะป ะพัะบััะฒะฐััะธะนัั ะฒะทะพัั ะฒะธะด.
ะะฝะดัะตั ะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ะพะฝะธ ะฑะตะณัั ะฝะฐ ะฟะพะปะต ะฑะพั, ะธ ะพะฝ ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะดะตัะถะธั ะฒ ััะบะฐั
ะดัะตะฒะบะพ ะฟะพะปะบะพะฒะพะณะพ ะทะฝะฐะผะตะฝะธ. ะะฝ ะฒะธะดะตะป ัะฐััะตััะฝะฝัะต ะปะธัะฐ ัะตะฑัั. ะะผั ั
ะพัะตะปะพัั ััะพ-ัะพ ะบัะธะบะฝััั, ะฟะพะดะฑะพะดัะธัั ะดััะทะตะน. ะ ะพะฝ ะบัะธะบะฝัะป: ยซะฃัะฐ!ยป. ะะฐัะตะผ, ะฟะพัะตะผั?.. ะะพะณ ะฒะตััั! ะัะพััะพ ะบัะธะบะฝัะป ะฟะตัะฒะพะต ะฒัะฟะปัะฒัะตะต ะพัะบัะดะฐ-ัะพ ะธะท ะณะปัะฑะธะฝ ะฒะฝัััะตะฝะฝะตะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ. ะะฐะบ ะฑัะดัะพ ะบัะพ-ัะพ ะฒะปะพะถะธะป ะตะผั ะฒ ัััะฐ ััะพั ะบัะธะบ.
ะ ะตะฑััะฐ ะฟะพะดั
ะฒะฐัะธะปะธ. ะขะฐะบ ะพะฝะธ ะธ ะฑะตะถะฐะปะธ ะฝะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ะบ ะผะธะปัะผ ัะตัะดัั ัะฐะทะฒะฐะปะธะฝะฐะผ, ะบัะธัะฐ ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพะต ยซััะฐยป ะปะพะผะฐััะธะผะธัั ะฝะตะถะฝัะผะธ ะณะพะปะพัะฐะผะธ.
ะ ััั ะฑัะดัะพ ะฒัะบะปััะธะปะธ ะทะฒัะบ. ะััะทัั ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะธ ะฑะตะถะฐัั, ะฑะตัััะผะฝะพ, ะบะฐะบ ััะฑั, ะพัะบััะฒะฐั ััั. ะะฝะดัะตะน ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะฒ ัะฐะฟะธะดะต, ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐั, ััะพ ะฟัะพะธัั
ะพะดะธั, ะฟะพัะตะผั ัะธะปัะฝะพะต ะธ ัะฟััะณะพะต ัะตะปะพ ะฑะพะปััะต ะฝะต ัะปััะฐะตััั ะตะณะพ, ัััั ะฒะทะปะตัะตะป ะฝะฐะด ะทะตะผะปัะน ะธ ัะฟะฐะป ะฝะฐ ัะฟะธะฝั.
ะ ะฒััะพะบะพะผ ะฝะตะฑะต ะฟะปัะปะธ ะพะฑะปะฐะบะฐ. ะ ะฝะธัะตะณะพ, ะบัะพะผะต ะฝะธั
ะฝะฐ ัะฒะตัะต ะฝะต ะฑัะปะพ. ะขะพะปัะบะพ ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพะต ะฝะตะฑะพ, ัะพะปัะบะพ ะพะฑะปะฐะบะฐ. ะะฝ ะฒัะฟะพะผะฝะธะป ะฟะตัะฝั ยซะกะฐะฝัะฐััยป: ยซะะฑะปะฐะบะฐ ััะธะผ ะปะตัะพะผ, ะฟะพะถะฐะปัะน, ะฑัะดัั ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ั
ะพัะพัะธยปโฆ ะะฝะธ ะฟะปัะปะธ ะฟะพ ะฝะตะฑั ั ะฝะตัะตะฐะปัะฝะพะน ัะบะพัะพัััั. ะกะพะปะฝัะต ะผะฝะพะณะพ ัะฐะท ะฒะทะพัะปะพ ะธ ัะบััะปะพัั, ะฟัะตะถะดะต ัะตะผ ะฝะฐะด ะฝะธะผ ัะบะปะพะฝะธะปะฐัั ะะธะทะฐ ั ะปะธัะพะผ ะะฝะธ.
— ะฏ ะฟะพัะบะพะปัะทะฝัะปัั, ะะธะทะบะฐ, ั ะฟะพัะบะพะปัะทะฝัะปัั, ะฟัะพััะธ!
ะะปะฐะฒะฐ 22. ะะฝัะพะฝะธะฝะฐ ะะฝะธะฟะฟะตั. ะงัะพ ัะบะฐะถะตั ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ?


ะะฒะตัั ั ะณัะพั ะพัะพะผ ะทะฐั ะปะพะฟะฝัะปะฐัั. ะกัะฐะปะพ ัะตะผะฝะพ, ะบะฐะบ ะฒ ะฟะพะณัะตะฑะต: ัะฒะตั ะฒ ะฟะพะดัะตะทะดะต ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะฝะต ะณะพัะตะป. ะะธะทะฐ ะฟะพััะพัะปะฐ ะฟะฐัั ะผะธะฝัั, ััะพะฑั ะณะปะฐะทะฐ ะฟัะธะฒัะบะปะธ, ั ะพัั ะฝะธะบะฐะบะพะน ะฝะตะพะฑั ะพะดะธะผะพััะธ ะฒ ััะพะผ ะฝะต ะฑัะปะพ: ะฟะพ ะดะพะผั, ะณะดะต ะถะธะฒะตัั ั ัะพะถะดะตะฝะธั, ะผะพะถะฝะพ ั ะพะดะธัั ะธ ั ะทะฐะบััััะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ. ะะฐััััั, ะฒัะฒะตัะตะฝะฝัะน ะณะพะดะฐะผะธ. ะกะตะผั ัะฐะณะพะฒ ะดะพ ะฟะตัะฒะพะณะพ ะปะตััะฝะธัะฝะพะณะพ ะฟัะพะปะตัะฐ. ะััั ัััะฟะตะฝะตะบ ะฒะฒะตัั . ะะฐ ััะตััะตะน ัััะฟะตะฝัะบะต ัะฝะธะทั โ ะณะปัะฑะพะบะฐั ะฒัะฑะพะธะฝะฐ ัะปะตะฒะฐ, ั ะฟะตัะธะป.ย ะะฐัะตะผ ะตัะต ะฟััั ัะฐะณะพะฒ ะฒะฟะตัะตะด. ะะธัั. ะะฝะพะฟะบะฐ ัะฟัะฐะฒะฐ. ะััะณะพะน ะฒะพะฟัะพั, ััะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ัะตะนัะฐั ะธะดัะธ ะฝะธะบัะดะฐ ะฝะต ั ะพัะตะปะพัั. ะะปะธ ะฝะต ะผะพะณะปะพัั. ะะฐ ะธ ะตะต ะปะธ ััะพ, ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพ, ะดะพะผ? ะ ะพะฝะฐ ะปะธ ััะพ ะฒะพะพะฑัะต? ะกะตะนัะฐั ะะธะทะฐ ะฝะต ะฒะทัะปะฐัั ะฑั ะฝะธัะตะณะพ ััะฒะตัะถะดะฐัั ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ. ะัะธะฒะฐะปะธะปะฐัั ะบ ััะตะฝะต ะธ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ัะฟะพะปะทะปะฐ ะฒะฝะธะท, ะฟััะผะพ ะฒ ะฝะพัะฑัััะบัั ัะปัะบะพัั, ััะพ ะบะฐัะฐะบะฐัะธัะตะน ะทะฐะฟะพะปะทะปะฐ ะฒ ะฟะพะดัะตะทะด ะธ ัััะพะฑะฝะพ ัะฐะฒะบะฐะปะฐ ะฟะพะด ะฝะพะณะฐะผะธ. ะะฐั ะปะพ ัััะพัััั ะธ ะบะพัะบะฐะผะธ. ะะตะนะฝะตะฝ ะฝะตะฝะฐะฒะธะดะตะปะฐ ะบะพัะตะบ, ั ะฝะตะต ะฝะฐ ะฝะธั ั ะดะตัััะฒะฐ ะฐะปะปะตัะณะธั. ยซะฏ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ. ะฏ ะฝะตะฝะฐะฒะธะถั ะบะพัะตะบยป, โ ะณัะพะผะบะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. ยซะ ะผั ะฝะตะฝะฐะฒะธะดะธะผ ะะตะนะฝะตะฝ, ะผััยป, โ ััั ะถะต ะฟะตัะตะดัะฐะทะฝะธะปะฐ ัะฐะผะฐ ัะตะฑั ะธ ััะดะพัะพะถะฝะพ ะทะฐะถะฐะปะฐ ัะพั ะปะฐะดะพะฝัั, ััะพะฑั ะฝะต ะทะฐะฒััั, ัะฐะทะทัะฒะธะฒัะธัั ะฟะพ-ะฑะฐะฑัะธ.
***
— ะ ัั ะตะผั, ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพ, ะบัะพ? โ ััะฐััั ะฐ-ัะตะณะธัััะฐัะพััะฐ, ะฟะพั ะพะถะฐั ะฝะฐ ะพะฑะปะตะทะปัั ะฑะพะปะพะฝะบั, ะฟัะธะฝัะปะฐ ััะพะนะบั ััะพัะพะถะตะฒะพะน ะพะฒัะฐัะบะธ.
โ ะกะตัััะฐ, โ ะะธะทะฐ ัะผะตะปะฐ ะฒัะฐัั ัะฑะตะดะธัะตะปัะฝะพ, ะบะฐะบ-ัะพ ะดะฐะถะต ะพััะตัะตะฝะฝะพ, ะดะปั ััะพะณะพ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะฒัะตะณะพ ะปะธัั, ะฝะต ะผะธะณะฐั, ัะผะพััะตัั ัะพะฑะตัะตะดะฝะธะบั ะฒ ะฟะตัะตะฝะพัะธัั.
โ ะะฝะพะณะพ ะฒะฐั ััั ัะฐะบะธั ั ะพะดะธั, ัะตััะตั, โ ะฟัะพะปะฐัะปะฐ ะฑะฐะฑะบะฐ, ะผะตะปะบะพ ััััั ะฟะพัะตะดะตะฒัะธะผะธ ะบัะดะตะปัะบะฐะผะธ. โ ะะฝะพะณะพะดะตัะฝัะต, ััะพ ะปะธ?
โ ะกะตะผะตัะพ ะฝะฐั ั ะผะฐะผั, โ ะบะธะฒะฝัะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ะขัะพะต ะฑะตะปัั , ััะพะต ะฝะตะณัะธััั ะธ ะพะดะธะฝ ะบะธัะฐะนัะพะฝะพะบ. ะขะพะปัะบะพ ะผั ะตะณะพ ะพะฑัะฐัะฝะพ ะฒ ะะธัะฐะน ะพัะฟัะฐะฒะธะปะธ, ะฐ ัะพ ะพะฝ ะฒัะตั ะปะตัััะธั ะผััะตะน ะฒ ะพะบััะณะต ะฟะตัะตะปะพะฒะธะป, ัะตะฟะตัั ัะฐะผะธะผ ะตััั ะฝะตัะตะณะพ.
ะะฒัะฐัะบะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะฑะพะปะพะฝะบะฐ, ััะถะตะปะพ ะทะฐะดััะฐะปะฐ. ะะต ะดะฐะฒ ะตะน ะพะฟะพะผะฝะธัััั, ะะธะทะฐ ะพะฑะพะณะฝัะปะฐ ััะพะนะบั ะธะฝัะพัะผะฐัะธะธ ะธ ัะตัะธัะตะปัะฝะพ ะฝะฐะฟัะฐะฒะธะปะฐัั ะบ ะปะธััั โ ะพัะดะตะปะตะฝะธะต ะบะฐัะดะธะพะปะพะณะธะธ ะฝะฐั ะพะดะธะปะพัั ะฝะฐ ะฟััะพะผ ััะฐะถะต.
ะะปะธะฝะฝัะน ะฑะพะปัะฝะธัะฝัะน ะบะพัะธะดะพั ะฑัะป ะฟััั. ะขะพะปัะบะพ ะฒ ัะฐะผะพะผ ะบะพะฝัะต ะตะณะพ ะผะฐััะธะปะธ ะดะฒะฐ ัะธะปัััะฐ. ะจะตัะณะฐ ะธ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ. ะญัะฐ-ัะพ ััะพ ะทะดะตัั ะฟะพัะตััะปะฐ?! ะะตัะฒะพะต ะถะตะปะฐะฝะธะต โ ัะฐะทะฒะตัะฝััััั ะฝะฐ ะฟััะบะฐั ะธ ะฝััะฝััั ะฒ ะฟะฐััั ะทะฐัััะฒัะตะณะพ ะฒ ะพะถะธะดะฐะฝะธะธ ะปะธััะฐ โ ะฟัะธัะปะพัั ะฟะพะดะฐะฒะธัั. ะะธะทะฐ ะฝะฐะฑัะฐะปะฐ ะฟะพะปะฝัั ะณััะดั ะฒะพะทะดัั ะฐ ะธ ััะฐะปะฐ ะฟะพะดะฝะธะผะฐัััั ะฝะฐ ัะฒะพะน ะัะบะพะปััะบะธะน ะผะพัั.
โ ะะดัะฐะฒััะฒัะน, ะะฝะฝะฐ! ะะดัะฐะฒััะฒัะน, ะญะปะตะฝ! โ ะปะตะดัะฝะฐั ะฒะตะถะปะธะฒะพััั ยซััะพะฒะฝั ะะพะณยป ะฑัะปะฐ ัะตะนัะฐั ะฝะตะพะฑั ะพะดะธะผะฐ, ะบะฐะบ ะฝะธะบะพะณะดะฐ. ะะธะทะฐ ะตะปะต ัะดะตัะถะฐะปะฐัั, ััะพะฑั ะฝะต ะพะฟัััะธัััั ะฒ ะณะปัะฑะพะบะพะผ ะบะฝะธะบัะตะฝะต. ะะพ ะฒะพะฒัะตะผั ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะฐ, ััะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝัะต ะถะตััั โ ะพััะถะธะต ะจะตัะณะธ, ัะฐะผะฐ ะถะต ะพะฝะฐ ะฒะปะฐะดะตะปะฐ ะธะผ ะฝะตะฒะฐะถะฝะพ.
โ ะ, ะะพะฑะตั, ะธ ัั ััั, โ ะจะตัะณะฐ ะผะฐะทะฝัะปะฐ ะฟะพ ะฝะตะน ะฒะทะณะปัะดะพะผ ะธ ะฑัะตะทะณะปะธะฒะพ ะฟะพะผะพััะธะปะฐัั.
ะะธะทะฐ ััะถะตะปะพ ัะณะปะพัะฝัะปะฐ. ะ ะฒะธัะบะฐั ะทะฐะฟัะปััะธัะพะฒะฐะปะพ. ะ ะฝะต ะฒ ัะพะผ ะดะตะปะพ, ััะพ ะตะน, ะบะฐะบ ะณััะทะฝัั ัะบะพะผะบะฐะฝะฝัั ัะฐะปัะตัะบั, ะผะตัะฝัะปะธ ะฒ ะปะธัะพ ะพะฑะธะดะฝัั ะดะตััะบัั ะบะปะธัะบั. ะขะพัะฝะตะต, ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฒ ััะพะผ. ะจะตัะณะธะฝะฐ ัะถะต ััะพ ะปะตั ะตะต ัะฐะบ ะฝะต ะฝะฐะทัะฒะฐะปะฐ. ะก ัะตะณะพ ะฑั ะะฝะต, ะฝะตะทัะธะผะพ ะฟะพะฒะทัะพัะปะตะฒัะตะน ะทะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะฝะตะดะตะปะธ ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ะฝะฐ ัะตะปัั ะถะธะทะฝั, ะฒะดััะณ ัะฝะพะฒะฐ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐัั ััะพ ััะฐัะพะต ะดััะฐัะบะพะต ะฟัะพะทะฒะธัะต? ะะธะทะฐ ะฟะตัะตะด ะฝะตะน ะฝะธ ะฒ ัะตะผ ะฝะต ะฟัะพะฒะธะฝะธะปะฐัั.ย ะ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะบัะพ ััั ั ะบะพะณะพ ะฟะฐัะฝั ัะฒะตะปโฆ ะะตั, ะฒัะต ะฝะต ัะพ. ะะดะตัั ััะพ-ัะพ ะตัะต ะฝะต ัั ะพะดะธััั. ะะต ัั ะพะดะธััั, ะฐ ัะฐัั ะพะดะธััั. ะ ะฝะพัั ะพัะฒัะฐัะธัะตะปัะฝะพ ะทะฐะบะพะปะพะปะพ, ัะปะพะฒะฝะพ ะพั ะฝะฐะฟััะถะตะฝะธั ะฒะพั-ะฒะพั ั ะปัะฝะตั ะบัะพะฒั. ะัะพะฒะธ! ะั, ะบะพะฝะตัะฝะพ ะถะต! ะัะพะฒะธ! ะจะตัะณะฐ ะถะต ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะฟัะธ ะฝะตะฒัััะฝะตะฝะฝัั ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐั ัะฑัะธะปะฐ ะธั ะฝะฐัะธััะพ. ะ ะธะท ัะฒะพะตะณะพ ะทะฐะณะฐะดะพัะฝะพะณะพ ะฒะพัะถะฐ, ะฟัะพ ะบะพัะพััะน ัะฐะบ ะฝะธะบะพะผั ะฝะธัะตะณะพ ัะพะปะบะพะผ ะธ ะฝะต ััะฟะตะปะฐ ัะฐััะบะฐะทะฐัั, ะฒะตัะฝัะปะฐัั ัะดะฐะบะพะน ะณะพัะธัะตัะบะพะน ะดะธะฒะพะน ั ะฟะพัััะตัะฐ ะ ะพะณะธัะฐ ะฒะฐะฝ ะดะตั ะะตะนะดะตะฝะฐ โ ะฝะต ั ะฒะฐัะฐะปะพ ัะพะปัะบะพ ะพัััะพะบะพะฝะตัะฝะพะณะพ ะบะพะปะฟะฐะบะฐ. ะขะตะฟะตัั ะถะต ะฑัะพะฒะธ, ัะฒะตัะปัะต ะธ ะฟััะธัััะต, ะบะฐะบ ะฝะธ ะฒ ัะตะผ ะฝะธ ะฑัะฒะฐะปะพ ะฟะพะบะพะธะปะธัั ะฝะฐ ะฟัะตะถะฝะตะผ ะผะตััะต.
โ ะะฝั, โ ะะธะทะฐ ะฟะพััะฐัะฐะปะฐัั, ััะพะฑั ะณะพะปะพั ะฝะต ะดัะพะถะฐะป. โ ะ ะบะฐะบ ัั ัะผะพะณะปะฐ ัะฐะบ ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพโฆ ัะผ-ะผ-ะผโฆ ัะตะฐะฝะธะผะธัะพะฒะฐัั ัะฒะพะธ ะฑัะพะฒะธ?
โ ะะตะนะฝะตะฝ, ั ัะพะฑะพะน ะฒัะต ะฒ ะฟะพััะดะบะต? ะขั ะพ ัะตะผ ะฒะพะพะฑัะต? โ ะจะตัะณะธะฝะฐ ัะดะธะฒะธะปะฐัั ะธ ะฒะฟะพะปะฝะต ะธัะบัะตะฝะฝะต.
โ ะขั ะถะต ะธั ัะฑัะธะปะฐ ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ! ะะฝะธ ะฝะต ะผะพะณะปะธโฆ ัะฐะบ ะฑััััะพโฆ
โ Are you crazy, my poor girl?! โ ะะฝั ั ะฝะตะดะพัะผะตะฝะธะตะผ ะพะฑะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน, ะธัะฐ ั ะฝะตะต ะฟะพะดะดะตัะถะบะธ.ย โ ะขั ััะพ ัะตั ะฝัะปะฐัั, ะฑะตะดะฝัะถะบะฐ? โ ะฟะตัะตะฒะตะปะฐ ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน. โ ะะฐะบะพะต ยซัะฑัะธะปะฐยป, ััะพ ัั ะณะพัะพะดะธัั?
ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะทะฐะบะฐัะธะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ ะธ ะฒััะฐะทะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพะถะฐะปะฐ ะฟะปะตัะฐะผะธ.
ะะตัะตะด ะณะปะฐะทะฐะผะธ ั ะะธะทั ะทะฐะผะตัะฐะปะฐัั ัะตัะฝะฐั ะผะพัะบะฐัะฐ. ะะพะฝัะธะบะธ ะฟะฐะปััะตะฒ ะพะฝะตะผะตะปะธ. ะงัะพ-ัะพ ะฝะตะฒะธะดะธะผะพะต, ะฝะตะพะฑัััะฝะธะผะพ ะพะณัะพะผะฝะพะต ะฝะฐัััะฟะฐะปะพ ะฝะฐ ะฝะตะต ะธะท ะฝะธะพัะบัะดะฐ, ะพะบััะถะฐะปะพ, ัะพ ัะฒะธััะพะผ ะฒััะฐััะฒะฐั ะบะธัะปะพัะพะด ะธะท ะปะตะณะบะธั .
โ ะัะปั, ะฐ ะณะดะต ะะตัั? โ ััะฒััะฒัั, ััะพ ัะปะฐะฑะตะตั, ะะตะนะฝะตะฝ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ะทะฐะนัะธ ั ะดััะณะพะน ััะพัะพะฝั ะธ ะฒัะต ะถะต ะฝะฐััะฟะฐัั ะฒ ััะพะน ะัะธะผะฟะตะฝัะบะพะน ััััะธะฝะต ั ะพัั ะบะฐะบัั-ัะพ ัะพัะบั ะพะฟะพัั.
โ ะะตะทะฝะพ-ะพ-ั? โ ะัะปั ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฒัััะฝัะปะฐ ยซััะพัะบะพะนยป ะธ ะฑะตะท ัะพะณะพ ะฟัั ะปัะต ะณัะฑั, ัะพัะฝะพ ัะพะฑะธัะฐะปะฐัั ัะดะตะปะฐัั ัะตะปัะธ ั ั ะตััะตะณะพะผ #ั_ะฒ_ัะพะบะต. โ ะ ัั ั ะทะฝะฐั?
— ะขะตะฑะต ะฒะตะดั ะพะฝ, ะบะฐะถะตััั, ะฝัะฐะฒะธะปัั.
โ ะะฝะต-ะต-ะต? โ ั ะตััะตะณ #ั_ะฒ_ัะพะบะต ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะฟัะตะฒัะฐัะธะปัั ะฒ #ะฒะพะทะผััะตะฝะธะต365. โ ะญัะพั ะฝะธัะตะฑัะพะด ั ะบะฝะพะฟะพัะฝะพะน ยซะะพะบะธะตะนยป? ะัะฐะฒะธะปัั? ะะฝะต? ะะตะนะฝะตะฝ, ะฒ ะฑะพะปัะฝะธัะบั ัั ะพะดะธ, ะณะพะปะพะฒะบั ะฟัะพะฒะตัั.
โ ะะฐ ะพะฝะฐ ัะถะต ะธ ัะฐะบ ะฒ ะฑะพะปัะฝะธัะบะต, — ะทะฐั ะธั ะธะบะฐะปะฐ ะจะตัะณะฐ.
โ ะะน, ัะพ-ะพ-ัะฝะพ, ะดะตะฒััะปั, ัะฐะบ ัั ะฟะพ ะฐะดัะตัั, — ั ะตััะตะณ #ั_ั_ะผะฐะผั_ะพัััะพัะผะฝะฐั ะฟะตัะตะปะธะฒัะฐัะพ ะทะฐัะธัะป ะฝะฐ ะฑะตะปะพัะฝะตะถะฝะพะผ ะฐะฑัะธะบะพัะพะฒัะบะพะผ ะปะฑั.
***
ะะธะทะฐ ะฑะตะถะฐะปะฐ, ะฝะต ัะฐะทะฑะธัะฐั ะดะพัะพะณะธ. ะะดะพะณะพะฝะบั ะทะฐ ะฝะตะน ะฟัะธะฟัััะธะปัั ะปะตะดัะฝะพะน ะดะพะถะดั. ะกััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะฝะฐะผะพะบัะธะต ะฒะพะปะพัั ะปะตะทะปะธ ะฒ ะณะปะฐะทะฐ, ะฝะฐะฑะธะฒะฐะปะธัั ะฒ ัะพั. ะกะพ ะฒัะตั ััะพัะพะฝ ะฒะพะทะผััะตะฝะฝะพ ัะธะณะฝะฐะปะธะปะธ ะฐะฒัะพะผะพะฑะธะปะธ: ัะนะดะธ ะธะท-ะฟะพะด ะบะพะปะตั, ะธะดะธะพัะบะฐ, ะถะธัั ะฝะฐะดะพะตะปะพ? ะะฝัััะตะฝะฝะธะน ะฝะฐะฒะธะณะฐัะพั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะฒัะฒะตะป ะบ ะะฐััะธะฐััะธะผ. ะะพะดะฐ ะฒ ะฟััะดั ะฟะพัะตัะฝะตะปะฐ, ะฒ ะฐะปะปะตัั ะฟะพะด ะทะพะฝัะฐะผะธ ะฟัะพะณัะปะธะฒะฐะปะธัั ะฒะปัะฑะปะตะฝะฝัะต ะฟะฐัะพัะบะธ ะธ ะฝะตััะพะผะธะผัะต ัะพะฑะฐัะฝะธะบะธ. ะะฝะพัััะฐะฝะฝัะต ะบะพะฝััะปััะฐะฝัั ะฟะพะฟัััะฐะปะธัั ะพั ะฝะตะฟะพะณะพะดั. ะะผะตััะพ ะฝะธั ะฒะดะพะปั ะฝะตัััะตััะฒัััะธั ััะฐะผะฒะฐะนะฝัั ะฟััะตะน ะบะฐัะธะปะธ ะฝะฐ ะฒะตะปะพัะธะฟะตะดะฐั ะถะตะปััะต ะธ ะทะตะปะตะฝัะต ะบะพัะพะฑะตะนะฝะธะบะธ.
ะัะนะดั ั ะัะผะพะปะฐะตะฒัะบะพะณะพ ะฝะฐ ะัะพะฝะฝัั, ะะธะทะฐ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะฟะพะฑัะตะปะฐ ะฒ ััะพัะพะฝั ะขัะธัะผัะฐะปัะฝะพะน ะฟะปะพัะฐะดะธ. ะกะตัะดัะต ะทะฐะผะตะดะปะธะปะพ ั ะพะด, ะดัั ะฐะฝะธะต ะฒััะพะฒะฝัะปะพัั. ะกะฐะผะพะต ะฒัะตะผั ะฒะบะปััะธัั ะณะพะปะพะฒั ะธ ะฟะพะฟััะฐัััั ะฟะพะฝััั, ััะพ ะธะผะตะปะพัั ะฒ ััั ะพะผ ะพััะฐัะบะต. ะจะตัะณะฐ ั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน ัะฐะทะฒะตะปะธ ะตะต โ ััะพ ัะฐะบั. ะะพะฟัะพั โ ะทะฐัะตะผ? ะงัะพ ะทะฝะฐัะธั โ ะทะฐัะตะผ? ะะฐัะตะผ! ะญัะพ ะถะต ะพัะตะฒะธะดะฝะพ, ะดัััะฝะดะฐ, ะบ ะณะฐะดะฐะปะบะต ะฝะต ั ะพะดะธ! ะงะธัะธะบะพะฒ ะฝะฐะดัะผะฐะป ะฒัััะฐะฒะธัั ะตะต ััะผะฐััะตะดัะตะน, ะพะดะฝะธะผ ัะตะปัะบะพะผ ัะฑัะพัะธัั ั ัะฐั ะผะฐัะฝะพะน ะดะพัะบะธ, ะฝะต ะดะฐัั ัะฒะธะดะตัััั ั ะะฝะดัะตะตะผ. ะ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, ัะฐะบ ัะฐ ะธะทะฒะตััะฝะฐั ะฟะพะดะฟะตะฒะฐะปะฐ โ ะฒัะตะณะดะฐ ััะตั, ะบัะดะฐ ะฒะตัะตั ะดัะตั, ั ะบะตะผ ะฒัะณะพะดะฝะตะต. ะ ะฟัะพััะพ ะฟะพะดัะณัะฐะปะฐ ะจะตัะณะต. ะ ะฒัะต ั ะฝะธั ะฟัะพัะปะพ ะบะฐะบ ะฟะพ ะฝะพัะฐะผ. ะะฝะฐ ะฟะพะฒะตะปะฐัั, ะบะฐะบ ะดะตะฒะพัะบะฐ, ัะฑะตะถะฐะปะฐ โ ะฝะตััะฐััะฝะฐั ัะปะฐะฑะพะฝะตัะฒะฝะฐั ััััะธั ะฐ. ะะฐ, ะฝะพ ะฑัะพะฒะธโฆ ะก ะฝะธะผะธ-ัะพ ะบะฐะบ ะฑััั? ะ ััะพ ะฑัะพะฒะธ? ะกะพะฒัะตะผะตะฝะฝะฐั ะบะพัะผะตัะพะปะพะณะธั ะธ ะฝะต ะฝะฐ ัะฐะบะพะต ัะฟะพัะพะฑะฝะฐ.
ะัะพะฝะทะพะฒัะน ะะฐัะบะพะฒัะบะธะน ัะฒััะพะบะฐ ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป ะทะฐ ััะตัะพะน ะฑะพะปััะพะณะพ ะณะพัะพะดะฐ, ัะพะฝััะตะณะพ ะฒ ะฐะปัะฟะพะฒะฐััั ะพะณะฝัั ะฝะตะธัััะตะฑะธะผะพะน ะฟัะฐะทะดะฝะธัะฝะพะน ะธะปะปัะผะธะฝะฐัะธะธ.ย ะะพะดะพะนะดั ะบ ะณัะฐะฝะธัะฝะพะผั ะฟะพััะฐะผะตะฝัั, ะะธะทะฐ ัะฐะทะณะปัะดะตะปะฐ ั ะดะตัััะฒะฐ ะทะฝะฐะบะพะผะพะต:
ะ ั,
ะบะฐะบ ะฒะตัะฝั ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะฐ,
ัะพะถะดะตะฝะฝัั
ะฒ ัััะดะฐั ะธ ะฒ ะฑะพั,
ะฟะพั
ะผะพะต ะพัะตัะตััะฒะพ,
ัะตัะฟัะฑะปะธะบั ะผะพั!
ะัะฟะพะผะฝะธะปะธัั ัะปะพะฒะฐ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ััะพ ะบ ะฝะฐััะพััะตะผั ะะฐัะบั ััะธ ัััะพัะบะธ ะฝะต ะธะผะตัั ะฝะธ ะผะฐะปะตะนัะตะณะพ ะพัะฝะพัะตะฝะธั. ะกะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะต ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ ะณัะฐะฒะธัะพะฒะฐัั. ะงัะพ ะธะผะตะฝะฝะพ โ ะฝะต ััะพัะฝัะป. ะะพ ะะธะทะฐ ะธ ะฑะตะท ัะพะณะพ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐะปะฐัั. ะะฝะฐ ะฟัะพะณะฝะฐะปะฐ ััะธ ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธั. ะก ะฝะตัะผะพะปะธะผะพะน ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพัััั ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ัะฒัะทะฐะฝั. ะ ะพัะปะธัะธะต ะพั ยซะฒะตัะฝั ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะฐยปโฆ
โ ะะธะทะพะฝ, ัั ััะพ ะปะธ? โ ะพัะตะฝะฝะธะน ะฒะพะทะดัั ัะณัััะธะปัั ะธ ะธะท ะฒะตัะตัะฝะตะณะพ ััะผัะฐะบะฐ ะพัะบัะดะฐ ะฝะธ ะฒะพะทัะผะธัั ัะพัะบะฐะปัั ะะพัะพั ะพะฒ โ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะน ะฟะตััะพะฝะพะน.
ะะตะนะฝะตะฝ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะธัะฟัััะฒะฐะปะฐ ะบ ะฝะตะผั ะพัะพะฑัั ััะฒััะฒ, ะฒ ะณะปัะฑะธะฝะต ะดััะธ ะฟะพะดะพะทัะตะฒะฐั, ััะพ ะะพัะพั ะพะฒ ะฒััะด ะปะธ ะพัะปะธัะฐะป ะะพะปะฐะฝะดะฐ ะพั ะะพะปะฐะฝ-ะดะต-ะะพััะฐ. ะะปั ะฝะตะต ะพะฝ ะฑัะป ะฒัะตะณะพ ะปะธัั ะฝะต ะฒ ะผะตัั ัะบััะตะฝััะธัะฝัะผ ะดััะณะพะผ ะะฝะดัะตั โ ะธ ะฝะฐ ััะพะผ ะฒัะต. ะะพ ัะตะนัะฐั ะพะฝะฐ ะพะฑัะฐะดะพะฒะฐะปะฐัั ะตะผั ะบะฐะบ ัะพะดะฝะพะผั.
โ ะัะดั ะคะตะดะพั! — ะธะทะปะธัะฝะต ะฟะพััะฒะธััะพ ะพะฑะฒะธะปะฐ ะตะณะพ ัะตั ััะบะพะน ะธ ัะผะพะบะฝัะปะฐ ะฒ ัะตะบั. ะะพ ััั ะถะต ะพััััะฐะฝะธะปะฐัั ะธ ะฐะบะบััะฐัะฝะพ, ะบะฐะบ ะฑั ะผะตะถะดั ะฟัะพัะธะผ, ะฟะพะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปะฐัั:
โ ะงะตะผ ะฒัะต ะทะฐะบะพะฝัะธะปะพัั-ัะพ?
โ ะขะฐะบ ัั ะฒ ะฑะพะปัะฝะธัะต ะฝะต ะฑัะปะฐ ะตัะต? โ ัะดะธะฒะธะปัั ะัะดั ะคะตะดะพั. โ ะ ั ะฒะพั ัะพะปัะบะพ ะพัััะดะฐ. ะััะฐะฒะธะป ะฑะตะทััะตัะฝัั ะะถัะปัะตััั ััะดะฐัั ะฝะฐะด ะฑะตะทะดัั ะฐะฝะฝัะผ ัะตะปะพะผ ะฝะพะฒะพะฟัะธะพะฑัะตัะตะฝะฝะพะณะพ ะ ะพะผะตะพ, โ ะะพัะพั ะพะฒ ะบะพัะพัะบะพ ะฒะทะปะฐัะป ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะน ัััะบะต, ะฝะพ ััั ะถะต ะพัะตะบัั ะธ ัะผััะตะฝะฝะพ ะทะฐะถะตะฒะฐะป ะณัะฑะฐะผะธ. โ ะั, ัะตะผ-ัะตะผโฆ ะฃ ะัะฑะบะฐ ััะฐ, ะบะฐะบ ะตะณะพ, ะฒะตะณะตัะพัะพััะดะธััะฐั ััะพ-ัะพ ัะฐะผโฆ ะะตะปะตะทะฐ ะฟะตัะตััะณะฐะป, ะบะพัะพัะต.
โ ะ ะฒะฐะผ ั ะะตะทะฝะพัะพะผ ะธ ะกะตะปะตะทะฝะตะฒัะผ ะฝะธัะตะณะพ? โ ะะธะทะฐ ัะดะตะปะฐะปะฐ ะฒะธะด, ััะพ ะฟัะพะฟัััะธะปะฐ ยซะฝะพะฒะพะฟัะธะพะฑัะตัะตะฝะฝะพะณะพ ะ ะพะผะตะพยป ะผะธะผะพ ััะตะน.
โ ะะต ะฟะพะฝัะป, — ะพัะพัะพะฟะตะป ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะ ะผั-ัะพ ััั ะฟัะธ ัะตะผ?! ะั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะต ะฟัะธ ะดะตะปะฐั . ะัะฑะพะบ ะฝะฐ ัะธะทัะต ะบัะพัั ะฑะตะถะฐะป. ะ ะฒะดััะณ ัะฟะฐะป. ะัะดัะพ ััะพั, ะฝั, ะบะฐะบ ะตะณะพ, ััะพะนะบะธะน ะพะปะพะฒัะฝะฝัะน. ะะตะถะฐะป-ะฑะตะถะฐะป ะธ ะฒะพั ัะถะต ะปะตะถะธั. ะะพะฒะพัั ะถะต โ ะถะตะปะตะทะฐ ะฟะตัะตััะณะฐะป, ะฝั ะธ ัะพะณะพ โ ัะตัะดะตัะบะพ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะปะพ.
โ ะ ัะบะพะปะฐ ะพั ัะตะณะพ ะฟะพััะฟะฐะปะฐัั โ ะธะทะฒะตััะฝะพ ัะถะต?
โ ะะธะทะพะฝ? ะัะดะฐ ะฟะพััะฟะฐะปะฐัั? ะะฐะบ ััะพัะปะฐ ัะตะฑะต, ัะฐะบ ะธ ััะพะธั. ะงัะพ ะตะน ัะดะตะปะฐะตััั? โ ะะพัะพั ะพะฒ ะฟัะธัััะธะปัั. โ ะ ัั ัะฐะผะฐ ัะตะณะพ ัะตะณะพะดะฝั ะฟัะพะณัะปัะปะฐ-ัะพ?
โ ะคะตะดั, ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะฒะพะฟัะพั, — ะะธะทะฐ ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฟะตัะตัะปะฐ ะฝะฐ ัะฒะธััััะธะน ัะตะฟะพั. — ะขั ะบะพะณะดะฐ ะฟะตัะตะตะทะถะฐะตัั?
โ ะะฐ ััะพ ั ัะพะฑะพะน, ะะตะนะฝะตะฝ?! ะขั ัะต ัะพัะปะธัั? ะัะดะฐ ะธ ะทะฐัะตะผ ั ะดะพะปะถะตะฝ ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั?!
***
ะกะฒะตั ะฒ ะฟะพะดัะตะทะดะต ะฒัะฟัั ะฝัะป ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ, ะฟะพะปะพัะฝัะฒ ะะธะทั ะฟะพ ะณะปะฐะทะฐะผ. ะะพัะฐ ะฑัะปะพ ะฟะพะดะฝะธะผะฐัััั ะธ ะธะดัะธ. ะกะตะผั ัะฐะณะพะฒ ะดะพ ะฟะตัะฒะพะณะพ ะปะตััะฝะธัะฝะพะณะพ ะฟัะพะปะตัะฐ. ะะพั ะพะฝะธ — ะฟััั ัััะฟะตะฝะตะบ ะฒะฒะตัั . ะะฐ ััะตััะตะน ัะฝะธะทั โ ะณะปัะฑะพะบะฐั ะฒัะฑะพะธะฝะฐ ัะปะตะฒะฐ, ั ะฟะตัะธะป.ย ะะฐัะตะผ ะตัะต ะฟััั ัะฐะณะพะฒ ะฒะฟะตัะตะด. ะะธัั. ะะฝะพะฟะบะฐ ัะฟัะฐะฒะฐ. ะะพ ะะธะทะฐ ะผะตะดะปะธะปะฐ. ะะธะบัะพ ะตะต ะฝะต ัะฐะทัะณััะฒะฐะป. ะญัะพ ะฒัะตะผั ัะพะฒะตััะธะปะพ ัะธัะบะพะฒะพะน ะบัะปัะฑะธั, ัั ะปะพะฟะฝัะปะพัั, ะพะฑะฝัะปะธะปะพัั โ ะฝะฐะทัะฒะฐะนัะต, ะบะฐะบ ั ะพัะธัะต.ย ะะพะปะฝะฐ ัะปะตะณะปะฐัั, ะฒะตัะฝัะฒ ะฒัะต ะบ ะฝะฐัะฐะปัะฝะพะน ัะพัะบะต, ะธะปะธ ะทะฐัะฐะธะปะฐัั, ััะพะฑั ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ะฝะฐะบัััั ะธั ั ะณะพะปะพะฒะพะน? ะ ะผะพะถะตั, ััะพ ะฟัะพะดะตะปะบะธ ะดัะตะฒะฝะธั ัะฝัั ะฑะพะณะพะฒ, ะฟัะธะผัะฐะฒัะธั ัั ะฒ ัะตะปะพะฒะตัะตัะบะธะน ะผะธั ะฝะฐ ะตะต ะะพะฝัะบะต-ะะพัะฑัะฝะบะต? ะัะป ะตัะต ะฒะฐัะธะฐะฝั, ัะฐะผัะน ะพัะตะฒะธะดะฝัะน ะธ ะฒะผะตััะต ั ัะตะผ โ ัะฐะผัะน ะฝะตะฒัะฝะพัะธะผัะน: ะฐ ะฒะดััะณ ะฒัะต ะฟัะพะธัั ะพะดะธั ัะพะปัะบะพ ะฒ ะตะต, ะะธะทะธะฝะพะน, ะณะพะปะพะฒะต? ะจะธะทะพััะตะฝะธั, ะบะฐะบ ะพะฝะฐ ะตััั. ะะพ ัะฐะผะพะต ะฝะตะฒะตัะพััะฝะพะต, ััะพ ะดะฐะถะต ัะตะนัะฐั, ะฝะฐะฑะปัะดะฐั ััะธ ะพัะบะพะปะบะธ ัะฐัััะฟะฐััะตะณะพัั ะฒ ะฟัะปั ะผะธัะพะทะดะฐะฝะธั, ะะธะทะฐ ะฒะพะปะฝะพะฒะฐะปะพัั ะฝะต ััะพะปัะบะพ ะทะฐ ะฑัะดััะตะต ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะฐ, ัะบะพะปัะบะพ ะทะฐ ัะพ, ะฐ ะฑัะป ะปะธ ะพะฝ, ัะพั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะทะณะพะฒะพั ั ะะฝะดัะตะตะผ? ะ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะฐั ะฟะพะตะทะดะบะฐ ะบ ะดะตะดั-ะณะตะฝะตัะฐะปั? ะะตะฝะฐ ยซะะดะฐะผ ะธ ะะฒะฐยป? ะกะปััะธะปะธัั ะพะฝะธ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะธะปะธ ะฒัะตะณะพ ะปะธัั ะฟัะธัะฝะธะปะธัั ะตะน? ะงะตัั ะฟะพะฑะตัะธ, ะพะฝะธ ั ะัะฑะพัะบะธะผ ะฟะพ-ะฟัะตะถะฝะตะผั ะฒะผะตััะต ะธะปะธ ะจะตัะณะฐ ะพัะฝัะปะฐ ะตะณะพ ะฝะฐะฒัะตะณะดะฐ? ะ ะดะฐ, ะบะพัะพััะน ัะตะนัะฐั ะฒะพะพะฑัะต ัะฐั? ะ ัะพะผ, ะบะฐะบะพะน ัะตะฟะตัั ะณะพะด ะะธะทะฐ ัะตัะธะปะฐ ะฝะต ะดัะผะฐััโฆ
โฆ ะะฒะตัะฝะพะน ะทะฒะพะฝะพะบ ะฟัะธะฒััะฝะพ ะฟัะพะฟะตะป ยซะะพะถะต, ัะฐัั ั ัะฐะฝะธยป. ะะฐัั ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะน ััะพัะปะฐ ัะธัะธะฝะฐ. ะะพัะพะผ ัะฐะทะดะฐะปะธัั ะณััะทะฝัะต ัะฐะณะธ ะธ ัะบัะธะฟ ะฟะพะฒะพัะฐัะธะฒะฐััะตะณะพัั ะฒ ะทะฐะผะบะต ะบะปััะฐ — ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ, ัะบะพะปัะบะพ ะฝะธ ะฟััะฐะปะธัั ะพะฑัะฐะทัะผะธัั ะตะต ะฑะดะธัะตะปัะฝัะต ัะพัะตะดะธ, ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปะฐัั, ะบัะพ ััะพะธั ะทะฐ ะดะฒะตััั.
ะะดะฒะฐ ัะฒะธะดะตะฒ ะะธะทั โ ะฒ ะฟะตัะตะฟะฐัะบะฐะฝะฝะพะน ะบัััะบะต, ะฟัะพะผะพะบััั ั ะณะพะปะพะฒั ะดะพ ะฝะพะณ,ย — ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ, ะฝะธ ัะปะพะฒะฐ ะฝะต ะณะพะฒะพัั, ะพััััะฟะธะปะฐ ะฒ ััะพัะพะฝั ะธ ะผะฐั ะฝัะปะฐ ััะบะพะน, ะผะพะป, ะทะฐั ะพะดะธ.
ะะฐะบััะฐะฒัะธัั ะฒ ัะตััััะฝะพะน ะบะปะตััะฐััะน ะฟะปะตะด (ะฑัะปะพ ะฑั ะฟัะตัััะฟะปะตะฝะธะตะผ ัะตั ะฐัั ะธะท ะญะดะธะฝะฑััะณะฐ ะฑะตะท ััะพะน ะดะธะฒะฝะพะน ะฒะตัะธัั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะดะพัะพะณะฐั?), ะะธะทะฐ ะผะฐะปะตะฝัะบะธะผะธ ะณะปะพัะบะฐะผะธ ะฟะธะปะฐ ะพะฑะถะธะณะฐััะธะน ะบัะตะฟะบะธะน ัะฐะน, ัะตะดัะพ ัะดะพะฑัะตะฝะฝัะน ะปะธะผะพะฝะพะผ. ะ ะธะทััะฝะพะน ะบะพะฝัะตัะฝะธัะต, ะฟะพ ะฑะพะบะฐะผ ะบะพัะพัะพะน ัะตะทะฒะธะปะธัั ัะพะทะพะฒะพัะตะบะธะต ะฟะฐััััะบะธ ะะฐััะพ, ัะพะผะธะปะธัั ัะพะบะพะปะฐะดะฝัะต ััััะตะปะธ. ะขัั ะถะต ะฟัะธะทัะฒะฝะพ ะบะปัะฑะธะปะพัั ะฝะตะถะฝะพะน ะฟะตะฝะบะพะน ะฒะธัะฝะตะฒะพะต ะฒะฐัะตะฝัะต.ย ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะฐัะฟะพะปะพะถะธะปะฐัั ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ะฟะปะตัะฝัะปะฐ ะฒ ะฑะพะบะฐะป ะบัะฐัะฝะพะณะพ ะฒะธะฝะฐ ะธ ะฟัะธะฝัะปะฐัั ัะพััะตะดะพัะพัะตะฝะฝะพ ะพะผัะฒะฐัั ะธะผ ัะพะฝะบะธะต ั ััััะฐะปัะฝัะต ััะตะฝะบะธ. ะขะธัะธะฝั ะฝะฐัััะฐะป ะปะธัั ะดะฐะปะตะบะธะน ะณัะป ะผะฐัะธะฝั, ะณะดะต ััะธัะฐะปะธัั ะะธะทะธะฝั ะฒะตัะธ, ะดะฐ ะผะตัะฝัะน ัััะบ ะผะฐััะฝะธะบะฐ ััะฐัะธะฝะฝัั ะฝะฐะฟะพะปัะฝัั ัะฐัะพะฒ.
ะ ััะพะน ะบะฒะฐััะธัะต ะะธะทะฐ ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ะฟัะพะฒะตะปะฐ ะดะฐะถะต ะฝะต ะดะฝะธ โ ะณะพะดั. ะฃั ะพะดั ะฝะฐ ัะฐะฑะพัั, ะผะฐะผะฐ ัะฐััะตะฝัะบะพ ะฟะพะดะบะธะดัะฒะฐะปะฐ ะดะพัั ัะพัะตะดะบะต, ะฐ ััะฐะฒ ะฟะพััะฐััะต, ะะธะทะฐ ัั ะพะดะธะปะฐ ััะดะฐ ัะถะต ัะฐะผะฐ. ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ะฅะพะฒะฐะฝัะบะฐั ะฑัะปะฐ ะปัััะธะผ, ััะพ ัะพะปัะบะพ ะผะพะณะปะพ ัะปััะธัััั ะฒ ะถะธะทะฝะธ ะผะฐะปะตะฝัะบะพะน ะปัะฑะพะทะฝะฐัะตะปัะฝะพะน ะดะตะฒะพัะบะธ. ะะฐ ััะพ ัะถ ัะฐะผ: ะฟะพััะธ ะฒัะตะผ, ััะพ ะะธะทะฐ ะทะฝะฐะปะฐ ะธ ัะผะตะปะฐ, ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะพะฑัะทะฐะฝะฐ ััะพะน ะพะดะธะฝะพะบะพะน ะฟะพะถะธะปะพะน ะดะฐะผะต. ะะดะธะฝะพะบะพะน ะธ ะฟะพะถะธะปะพะน, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะฝะต ะฒัะตะณะดะฐ. ะะพะณะดะฐ-ัะพ ะดะฐะฒะฝัะผ-ะดะฐะฒะฝะพ, ะตัะต ัะพะฒัะตะผ ัะฝะพะน ะฑะฐัััะฝะตะน, ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะฟัะพัะฒะฐัะฐะฝะฐ ะทะฐ ััะฐัะพะณะพ ะณะตะฝะตัะฐะปะฐ. ะขะพั ะพะบะฐะทะฐะปัั ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ ะฟะพััะดะพัะฝัะผ ะธ ะฝะต ััะฐะป ะดะพะปะณะพ ะพะฑัะตะผะตะฝััั ะผะพะปะพะดัั ััะฟััะณั, ะดะพะฒะพะปัะฝะพ ะฑััััะพ ะพัะฟัะฐะฒะธะฒัะธัั ะบ ะฟัะฐะพััะฐะผ. ะั ะผัะถะฐ ะะฐััะต ะะปะตะบัะตะฒะฝะต ะพััะฐะปะฐัั ะฝะตะดััะฝะฐั ะฟะตะฝัะธั, ะพะณัะพะผะฝะฐั ะบะฒะฐััะธัะฐ ะฒ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต, ะพะฑััะฐะฒะปะตะฝะฝะฐั ะฒัะฒะตะทะตะฝะฝะพะน ะธะท ะะตัะผะฐะฝะธะธ ัะพัะบะพัะฝะพะน ััะพัะตะนะฝะพะน ะผะตะฑะตะปัั ะบัะฐัะฝะพะณะพ ะดะตัะตะฒะฐ, ะธ ะฑะตััะตะฝะฝะฐั ะฑะธะฑะปะธะพัะตะบะฐ. ะััะณะฐั ะฑั ะฝะฐ ะผะตััะต ะะฐััะธ ะะปะตะบัะตะฒะฝั ัะตัะธะปะฐ, ััะพ ะฒััะฐัะธะปะฐ ััะฐััะปะธะฒัะน ะฑะธะปะตั ะธ ะพะฟะพัะธะปะฐ ะฝะฐ ะปะฐะฒัะฐั ะฒ ะบะพะผะฟะฐะฝะธะธ ะดะพะผัะฐะฑะพัะฝะธัั. ะะพ ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะตัะธะปะฐ ะธะฝะฐัะต. ะฃัััะพะธะฒัะธัั ะฒ ะผัะทะตะน ะััะบะธะฝะฐ, ะพะฝะฐ ัะดะตะปะฐะปะฐ ัััะตะผะธัะตะปัะฝัั ะฝะฐััะฝัั ะบะฐััะตัั ะธ ะบ ะผะพะผะตะฝัั ะฟะพัะฒะปะตะฝะธั ะฒ ะตะต ะถะธะทะฝะธ ะะธะทั ัะถะต ะพะฑัะตั ะฐะปะฐ ะฟะพะปะผะธัะฐ, ะฒัััะฝัั, ะบะฐะบ ัะพะฑะธัะฐัั ะธ ะฟะตััััั ัะฒะพะธ ะบะพะปะปะตะบัะธะธ ะบะพะปะปะตะณะธ ะธะท ะัะฒัะฐ, ะัะฐะดะพ ะธ ะฃััะธัะธ.ย ะงะฐััะพ ะพะฝะฐ ะฑัะฐะปะฐ ะะธะทั ั ัะพะฑะพะน ะฝะฐ ะัะตัะธััะตะฝะบั ะธ, ะฒะตะปะตะฒ ะฝะต ะดััะฐัั, ะฟะพะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ัะฟัั ะฒ ะฟะพะปัััะผะต ั ัะฐะฝะธะปะธั ััะฐัะธะฝะฝัะต ะบะฐััะธะฝั ะธ ัะบัะปัะฟัััั. ะะฐะดะผะตะฝะฝัะต ะณะพัะฟะพะดะฐ ะฒ ะฟัะดัะตะฝัั ะฟะฐัะธะบะฐั , ััะตัะณะพะปะบะฐั ะธ ัะธะปะธะฝะดัะฐั ะธ ะดะฐะผั ั ะณะปัะฑะพะบะธะผะธ ะดะตะบะพะปััะต ะธ ะฒ ัะตะฟัะฐั ะฑััััะพ ััะฐะฝะพะฒะธะปะธัั ะดะพะฑััะผะธ ะะธะทะธะฝัะผะธ ะฟัะธััะตะปัะผะธ. ะ ะฐะทะฑัะดะธ ะตะต ะฝะพััั, ะธ ะพะฝะฐ ะฑั ะฑะตะท ะทะฐะฟะธะฝะบะธ ะพัะฒะตัะธะปะฐ, ะบะพะณะพ ะบะฐะบ ะทะพะฒัั, ะบัะพ ะบะพะณะพ ะปัะฑะธะป ะธ ะฝะตะฝะฐะฒะธะดะตะป ะธ ะบะฐะบะพะต ะพัะฝะพัะตะฝะธะต ะธะผะตะป ะบ ะกะพะปะฝัั ะฝะฐัะตะน ะฟะพัะทะธะธ. ะ ัะฐััะพ ะฒะธะดะตะปะฐ ะธั ะฒะพ ัะฝะต. ะะพะผ ะะฐััะธ ะะปะตะบัะตะฒะฝั ะผะฐะปะพ ัะตะผ ะพัะปะธัะฐะปัั ะพั ะผัะทะตั. ะกัะพะปะพะฒะพะต ัะตัะตะฑัะพ (ะฒะธะปะบะฐ ัะปะตะฒะฐ, ะฝะพะถ ัะฟัะฐะฒะฐ; ะณััะทัั ัะฑะปะพะบะธ โ mauvais ton, ะธั ะฝะฐะดะพ ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ัะธััะธัั ะธ ัะตะทะฐัั ะฝะฐ ะบััะพัะบะธ ัะฟะตัะธะฐะปัะฝัะผ ัััะบัะพะฒัะผ ะฝะพะถะพะผ). ะะตะฒะตัะพะผัะน ัะฐััะพั ะฑะตะท ะฒะพะทัะฐััะฐ (ะธะท ะผะตะนัะตะฝัะบะธั ัะฐัะตะบ ั ะฟัั ะบะพัะต, ะบะพะณะดะฐ ั ะพัั ัะพััะตะดะพัะพัะธััั, ะฐ ะธะท ะบัะทะฝะตัะพะฒัะบะธั , ะบะพะณะดะฐ ั ะพัะตััั ะฟัะฐะทะดะฝะธะบะฐ). ะฅััััััะธะต ะบัะฐั ะผะฐะปัะฝัะต ัะฐะปัะตัะบะธ ั ะทะฐัะตะนะปะธะฒัะผะธ ะผะพะฝะพะณัะฐะผะผะฐะผะธ. ะะพัะตะผะฝะตะฒัะฐั ะผะฐัะปัะฝะฐั ะถะธะฒะพะฟะธัั ะธ ะถะธะทะฝะตัะฐะดะพััะฝัะต ะฐะบะฒะฐัะตะปะธ ะฟะพ ััะตะฝะฐะผ. ะ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะบะฝะธะณะธ. ะกะพัะฝะธ, ะฝะตั, ัััััะธ ะบะฝะธะณ, ะฑะตะทะผะพะปะฒััะฒัััะธั ะฒ ะณะธะณะฐะฝััะบะธั ัะบะฐัะฐั ัะพะฒะฝะพ ะดะพ ัะพะณะพ ะผะพะผะตะฝัะฐ, ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะฒะพะทัะผะตัั ะธั ะฒ ััะบะธ. ะะพ ะฝะธะผ, ั ยซะตัะฐะผะธยป ะธ ยซะตััะผะธยป, ะะธะทะฐ ััะธะปะฐัั ัะธัะฐัั. ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ะพั ะพัะฝะพ ะพะฑัััะฝัะปะฐ ะทะฝะฐัะตะฝะธะต ะฝะตะฟะพะฝััะฝัั ัะปะพะฒ, ะฟะพะฟััะฝะพ ะธ ะบะฐะบ ะฑั ะผะตะถะดั ะฟัะพัะธะผ, ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐั, ะบะฐะบ ัะฐััะธััะพะฒัะฒะฐัั ัะฐััะตะตัั ะผะตะถะดั ัััะพะบ. ะกะฐะผัะผะธ ะฑะปะฐะถะตะฝะฝัะผะธ ะฑัะปะธ ัะต ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธั, ะบะพะณะดะฐ ั ะพะทัะนะบะฐ ัะฐะดะธะปะฐัั ะทะฐ ะฟะธััะผะตะฝะฝัะน ััะพะป ะธ ั ะณะพะปะพะฒะพะน ัั ะพะดะธะปะฐ ะฒ ะพัะตัะตะดะฝัั ััะบะพะฟะธัั, ะฐ ะะธะทะฐ, ะทะฐะฑัะฐะฒัะธัั ั ะฝะพะณะฐะผะธ ะฒ ะฝะตะพะฑัััะฝะพะต ะฟะปััะตะฒะพะต ะบัะตัะปะพ, ัะธัะฐะปะฐ, ะฒัะตะผั ะพั ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฟะพะดะฝะธะผะฐั ะณะพะปะพะฒั ะธ ัะบัะฐะดะบะพะน ะปัะฑัััั ะฟัะธััะดะปะธะฒัะผะธ ัะตะฝัะผะธ, ะฑะปัะถะดะฐััะธะผะธ ะฟะพ ัะพััะตะดะพัะพัะตะฝะฝะพะผั, ะฐ ะฟะพัะพะผั ะบะฐะถััะตะผััั ัััะพะฒัะผ, ะปะธัั ะะฐััะธ ะะปะตะบัะตะฒะฝั, ะฟะพ ะตะต ะฒััะพะบะพะน ะฑะตะปะพัะฝะตะถะฝะพะน ะฟัะธัะตัะบะต, ะฟะพ ะบััะฟะฝัะผ ััะบะฐะผ ั ะดะปะธะฝะฝัะผะธ ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฒ ะผะฐััะธะฒะฝัั ะบะพะปััะฐั . ะขะตะฝะธ ะดัะพะถะฐะปะธ, ัะปะพะฒะฝะพ ะฑัะปะธ ัะพะถะดะตะฝั ะฝะต ัะฒะตัะพะผ ะฝะฐััะพะปัะฝะพะน ะปะฐะผะฟั, ะฐ ะพัะฑะปะตัะบะพะผ ัะฒะตัะตะน, ะธ ะปะธัะพ ะะฐััะธ ะะปะตะบัะตะฒะฝั ััะฐะฝะพะฒะธะปะพัั ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัะผ, ัััะพัะบั ะบะพะปะดะพะฒัะบะธะผ. ะะดะฝะฐะถะดั ะะธะทะฐ ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะปะฐ ะธ ัะบะฐะทะฐะปะฐ, ััะพ ัะฐ ะฟะพั ะพะถะฐ ะฝะฐ ะฟััะบะธะฝัะบัั ะกัะฐััั ะณัะฐัะธะฝั.
โ ะะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะผะพะปะพะดะฐั, ะบะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, โ ะดะพะฑะฐะฒะธะปะฐ ะฟะพัะฟะตัะฝะพ, ััะพะฑั ั ะพัั ะบะฐะบ-ัะพ ะธัะฟัะฐะฒะธัั ะฒะพะฟะธัััั ะฑะตััะฐะบัะฝะพััั.
ะะพ ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ะฝะต ะพะฑะธะดะตะปะฐัั. ะ ัะตัะตะท ะฟะฐัั ะดะฝะตะน ะฟะพะทะฒะฐะปะฐ ะะธะทั ะฒ ะะพะปััะพะน ัะตะฐัั ะฝะฐ ยซะะธะบะพะฒัั ะดะฐะผัยป. ะะธะทะฐ ะฟะพัะปะต ััะพะณะพ ะดะพะปะณะพ ะฝะฐะฟะตะฒะฐะปะฐ ะฟะพะด ะฝะพั ะฟัะพ ยซVenice ะผะพัะบะพะฒะธัยป, ะฟัะพะธะณัะฐะฒััััั ะดะพัะปะฐโฆ
ะ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะต ะฒัะตะผั ะะธะทะฐ ัะตะดะบะพ ะทะฐะณะปัะดัะฒะฐะปะฐ ะบ ะะฐััะต ะะปะตะบัะตะฒะฝะต: ััะพะปัะบะพ ะดะตะป-ััะพะปัะบะพ ะดะตะป. ะ ัะตะนัะฐั, ะณะปัะดั ะฝะฐ ััะฑะธะฝะพะฒัะต ัะฟะพะปะพั ะธ ะฒ ะตะต ะฑะพะบะฐะปะต, ะฟะพะฝะธะผะฐะปะฐ, ััะพ ะฒัะต ะผะพะณะปะพ ะฑั ะฟะพะนัะธ ะธะฝะฐัะต, ะฟัะธะดะธ ะพะฝะฐ ััะดะฐ ัััั ัะฐะฝััะต. ะะตััััะฐััะฝัะน ะฝะตะผะตั Hermle ะพัะฑะธะป ัะถะต ััะตัะธะน ะฟะพะปะฝัะน ัะฐั, ะฐ ะะธะทะฐ ะฒัะต ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะธ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ. ะัะพ ะะพะปะฝั ะธ ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพะต ะะตัะธะฝะพ ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ, ะฟัะพ ะฒะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ ะธ ะจะตัะณั, ะฟัะพ ัะฝะพั ะดะพะผะพะฒ ะธ ะฟัะพโฆ ะะฝะดัะตั. ะะพะนะดั ะดะพ ัะฟะธะทะพะดะฐ ัะฒะพะตะณะพ ะฟะพัััะดะฝะพะณะพ ะฑะตะณััะฒะฐ ะธะท ะฑะพะปัะฝะธัั, ะฝะต ะฒัะดะตัะถะฐะปะฐ ะธ ัะผัะณะฝัะปะฐ ะฝะพัะพะผ. ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ, ะผะพะปัะฐะฒัะฐั ะฒัะต ััะพ ะฒัะตะผั, ะฟัะพััะฝัะปะฐ ะตะน ะฑะตะปะพัะฝะตะถะฝัะน ะฝะพัะพะฒะพะน ะฟะปะฐัะพะบ:
โ ะะพัะพะณะฐั, ะผะพะถะฝะพ ะฟะพัะตัััั ะณะพะปะพะฒั, ะฝะพ ะผะฐะฝะตัั ะดะพะปะถะฝั ะฒัะตะณะดะฐ ะพััะฐะฒะฐัััั ะฟัะธ ัะตะฑะต!
โ ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ, ะผะธะปะตะฝัะบะฐั, ะดะพ ะผะฐะฝะตั ะปะธ ััั? โ ะฟัะพะณะฝััะฐะฒะธะปะฐ ะะธะทะฐ.
โ ะะฐะฟะพะผะฝะธ, ma Cherie [1], ะผะฐะฝะตัั โ ััะพ ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะน ะบะฐะฟะธัะฐะป, ะบะพัะพัะพะผั ะฝะต ะณัะพะทะธั ะธะฝัะปััะธั, โ ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ะฝะฐะทะธะดะฐัะตะปัะฝะพ ะฟะพะดะฝัะปะฐ ะฟะฐะปะตั, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะผ ะผะฐัะพะฒะพ ะฟะตัะตะปะธะฒะฐะปัั ะพะฟัะฐะฒะปะตะฝะฝัะน ะฒ ะฑะตะปะพะต ะทะพะปะพัะพ ะธะทัะผััะด. โ ะะฐะฝะตัั ะธ ะตัะต, ะฟะพะถะฐะปัะน, ัะฐะปะฐะฝั!
โ ะขะฐะปะฐะฝั ัะฒะพะน ั ัััะฐัะธะปะฐ. ะะพะถะตั, ะผะฐะฝะตัั ะผะฝะต ัะตะฟะตัั ัะพะถะต ัะถะต ะฝะธ ะบ ัะตะผั?
โ Ne me fais pas rire! [2] โ ะฟะพะดะถะฐะปะฐ ะณัะฑั ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ. โ ะงัะพ ะทะฝะฐัะธั ยซัััะฐัะธะปะฐยป?!
โ ยซะฃััะฐัะธะปะฐยป ะธะปะธ ยซะฟะพะถะตััะฒะพะฒะฐะปะฐยปโฆ ะะพ ะธะผัโฆ ะะพ ะธะผั, ัะฐะผะฐ ะฝะต ะทะฝะฐั ัะตะณะพ! ะ ะตัะต ั ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฒัะฑัะพัะธะปะฐ ัะฒะพะน ะฒะพะปัะตะฑะฝัะน ะฑะปะพะบะฝะพัโฆ
โ ะ ััะพะณะพ ัะตะฑะตะฝะบะฐ ั ะฒะพัะฟะธัะฐะปะฐ! โ ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะถะต ะฝะต ัะตัะดะธะปะฐัั, ะฝะพ ัะผะตัะปะฐัั ะทะฐะปะธะฒะธััะพ, ะผะพะปะพะดะพ. โ ะะฐ ั ัะตะฑะต ะดััะณะพะน ะฟะพะดะฐัั. ะก ะััะบะธะฝัะผ, ั ะพัะตัั? โ ะฒัะบะพัะธะปะฐ, ั ะฟะพััะฒะธััะพัััั, ะฝะต ัะฒะพะนััะฒะตะฝะฝะพะน ะตะต ะบะพะผะฟะปะตะบัะธะธ ะธ ััะตะฝะพะผั ะทะฒะฐะฝะธั, ะธ ะธััะตะทะปะฐ ะฒ ัะตะผะฝะพัะต ะบะพัะธะดะพัะฐ. ะัะบะพัะต ะฒะตัะฝัะปะฐัั ะธ ะฒะพะดััะทะธะปะฐ ะฟะตัะตะด ะะธะทะพะน ะฝะพะฒะตะฝัะบัั, ะทะฐะฟะฐัะฝะฝัั ะฒ ัะตะปะปะพัะฐะฝ ะทะฐะฟะธัะฝัั ะบะฝะธะถะบั. โ ะะพั, ะดะตัะถะธ. ะะพัััะตั ะััะบะธะฝะฐ ะบะธััะธ ะะตััะพะฒะฐ-ะะพะดะบะธะฝะฐ, ะผะฐะปะพะธะทะฒะตััะฝัะน ัะธัะพะบะพะน ะฟัะฑะปะธะบะต. ะกะพัะธะฝัะน ะฝะฐ ะทะดะพัะพะฒัะต.
โ ะงัะพ ัะพัะธะฝััั?
โ ะะฐ ััะพ ั ะพัะตัั, ัะพ ะธ ัะพัะธะฝัะน, — ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ะฑัะปะฐ ัะฐะผะฐ ะฑะตัะฟะตัะฝะพััั. โ ะะต ะผะฝะต ัะตะฑั ััะธัั. ะัะต, ัะตะผั ะผะพะณะปะฐ, ั ัะตะฑั ัะถะต ะธ ัะฐะบ ะฝะฐััะธะปะฐ.
ะะธะทะฐ ะบัััะธะปะฐ ะฒ ััะบะฐั ะฑะปะพะบะฝะพั ั ะฟะตัะฐะปัะฝัะผ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะตะผ ยซะฝะฐัะตะณะพ ะฒัะตะณะพยป ะฝะฐ ะพะฑะปะพะถะบะต. ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะฐััะตัะฝะฝะพ ะฒะตััะตะปะฐ ะฒ ะฟะฐะปััะฐั ะฝะพะถะบั ะฑะพะบะฐะปะฐ.
โ ะะพัะพะณะฐั, ัั ะฟัะฐะฒะฐ ะฒ ะพะดะฝะพะผ. ะัะต ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ัะพะปัะบะพ ะฒ ัะฒะพะตะน ะณะพะปะพะฒะต. ะฅะพัะตัั ัััะฐะดะฐัั โ ัััะฐะดะฐะน. ะฅะพัะตัั ะธัะบะฐัั ะฒัั ะพะด โ ะธัะธ. ะ ะพะฝ ะตััั ะฒัะตะณะดะฐ. ะะฐะถะต ะบะพะณะดะฐ ัะตะฑะต ะบะฐะถะตััั, ััะพ ะพั ัะตะฑั ัะถะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะทะฐะฒะธัะธั. ะ ะฝะฐ ะดะตะปะต, ะบะฐะบ ัะตัะธัั, ัะฐะบ ะธ ะฑัะดะตั. ะัะพััะธ, ััะพ ะณะพะฒะพัั ะฑะฐะฝะฐะปัะฝัะต ะฒะตัะธ, ะฝะพ ััะพ ะตััั ะธััะธะฝะฐ, ะตัะปะธ ะฝะต ะฑะฐะฝะฐะปัะฝะพััั?
โ ะฃ ะฒะฐั ัะพะถะต ะตััั ัะฒะพะน ะฑะปะพะบะฝะพั?
โ Bien sรปr [3], ะฐ ะบะฐะบ ะธะฝะฐัะต? ะัั ะถะธะทะฝั ะทะฐะฟะพะปะฝัั ะตะณะพ โ ัััะพัะบะฐ ะทะฐ ัััะพัะบะพะน. ะ ัะตะณะพ ั ะพัั โ ะฒัะต ะฒ ะธัะพะณะต ะฟะพะปััะฐั.
โ ะขะพ ะตััั ะฒั-ัะฐะบะธ ะบะพะปะดัะฝัั? ะัะตะณะดะฐ ะฟะพะดะพะทัะตะฒะฐะปะฐโฆ
โ ะะต ะผะพั ัะตัะผะธะฝะพะปะพะณะธัโฆ ะะพะต ะบะพะปะดะพะฒััะฒะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฒะฟััะบะฐะปะฐ ะฒ ัะฒะพั ะถะธะทะฝั ัะพ, ััะพ ะผะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะต ะฝัะถะฝะพ: ะปัะดะตะน, ัะผะพัะธะธ, ะดะฐะถะต ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐ. ะัะปะธ ะถะต ะพะฝะธ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะฒััะฒะฐะปะธัั ะฑะตะท ะฟัะธะณะปะฐัะตะฝะธั, ััั ะถะต ัะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะธะผ ะฝะฐ ะดะฒะตัั. ะะพ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ, ะฒะตะถะปะธะฒะพ, ะฝะพ ะฝะตะดะฒััะผััะปะตะฝะฝะพ.ย ะะฐะดะพ ะฑะตัะตัั ัะฒะพะน ะผะธั, ะทะฐ ัะตะฑั ััะพ ะฝะธะบัะพ ะดััะณะพะน ะฝะต ัะดะตะปะฐะตั.
โย ะ ะตัะปะธ ะพะฝะธ, ััะธ ะฝะตะฝัะถะฝัะต, ะพัะบะฐะทัะฒะฐัััั ัั ะพะดะธัั?
โ ะขะพะณะดะฐ ะดะตะปะฐะน ะฒะธะด, ััะพ ะฟัะพััะพ ะฝะต ะทะฐะผะตัะฐะตัั ะธั . ะัะพะดะพะปะถะฐะน ะฒะพะทะดะตะปัะฒะฐัั ัะฒะพะน ัะฐะด ะธ ะถะธัั ะฟะพ ัะตะผ ะทะฐะบะพะฝะฐะผ, ััะพ ัะฐะผะฐ ะฝะฐะด ัะพะฑะพะน ะฟัะธะทะฝะฐะตัั.
โ ะกะผะตััะธ ะฝะฐ ะดะฒะตัั ะฝะต ัะบะฐะถะตััโฆ
โ ะกะผะตััะธ ะฝะตั, ma cherie, ะพะดะฝะฐะถะดั ัั ััะพ ะฟะพะนะผะตัั, ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ ะดะฐะถะต ะฑััััะตะต, ัะตะผ ะดัะผะฐะตััโฆ
ะัะธ ััะธั ัะปะพะฒะฐั ั ะะธะทั ะฟะพ ัะฟะธะฝะต ะฟัะพะฑะตะถะฐะป ะณะฝััะฝัะน ะปะธะฟะบะธะน ั ะพะปะพะดะพะบ. ะะฝะฐ ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ัะฐัะฟัะฐะฒะธะปะฐ ะฟะปะตัะธ โ ัะตะณะพ ะผะพะถะฝะพ ะฑะพััััั ะฒ ััะธั ัะพะดะฝัั ััะตะฝะฐั ? ะะฐะดะพ ะฑัะปะพ ััะพัะฝะพ ัะผะตะฝะธัั ัะตะผั, ะฝะพ ะฒัะต ััะตะฒะพะถะฐัะธะต ะตะต ะฒะพะฟัะพัั ะฝะฐ ะฟะพะฒะตัะบั ะพะบะฐะทัะฒะฐะปะธัั ะพะดะธะฝ ัััะฐัะฝะตะต ะดััะณะพะณะพ. ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฒัะถะธะดะฐัะตะปัะฝะพ ะธ ะฝะต ัะฟะตัะธะปะฐ ะฝะฐ ะฟะพะผะพัั. ะะพะปัะฐะฝะธะต ะทะฐััะณะธะฒะฐะปะพัั.
โ ะะฐะถะตััั, ะผะฐัะธะฝะฐ ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ, ััะพะฑั ั ะพัั ััะพ-ัะพ ัะบะฐะทะฐัั. โ ะะฝะต ะฟะพัะฐ, ะผะฐะผะฐ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะฒะพะปะฝัะตััั.
โ ะกะฟะฐัะธะฑะพ, ััะพ ะทะฐะณะปัะฝัะปะฐ, ะะธะทะฐะฒะตัะฐ. ะะต ะทะฐะฑัะฒะฐะน ััะฐััั ั, โ ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะฝะพะฒะฐ ะธััะตะทะปะฐ ะฒ ัะตะผะฝะพะผ ะทะตะฒะต ะบะพัะธะดะพัะฐ. โ ะะดะตะถะดะฐ ะฝะฐ ะบัะตัะปะต, — ะบัะธะบะฝัะปะฐ ะพัะบัะดะฐ-ัะพ ะธะทะดะฐะปะตะบะฐ.
ะะพะณะดะฐ ะะธะทะฐ ัะถะต ััะพัะปะฐ ะฝะฐ ะฟะพัะพะณะต, ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ, ะบะฐะบ ะธ ะฒัะตะณะดะฐ, ะฝะตะถะฝะพ ะบะปัะฝัะปะฐ ะตะต ะณัะฑะฐะผะธ ะฒ ะปะพะฑ:
โ ะะตัะตะณะธ ัะตะฑั, ะผะพั ะดะตะฒะพัะบะฐ, ะธ ะฝะต ะฟะตัะตะถะธะฒะฐะน ะฟะพ ะฟััััะบะฐะผ. ะัะต ะฒะตัะฝะตััั ะฝะฐ ะบััะณะธ ัะฒะพั, ะดะฐั ัะปะพะฒะพ. ะงัะพ ะดะพ ัะฒะพะตะณะพ ะะฝะดัะตั, ัะพ ะธ ะพะฝ ะฝะธะบัะดะฐ ะฝะต ะดะตะฝะตััั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฝะธะบัะดะฐ ะฝะต ัั ะพะดะธะป. ะััะณะพะต ะดะตะปะพ, ะฝัะถะฝะพ ะปะธ ัะตะฑะต ััะพ. ะั, ะฟัะพัะฐะน, ัััะฟะฐะน ั ะะพะณะพะผ.
ะะฒะตัั ะทะฐั ะปะพะฟะฝัะปะฐัั. ะะปัั ะฒ ะทะฐะผะบะต ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั. ะจะฐะณะธ ััะธั ะปะธ. ะะธะทะฐ ะฒััะฒะพะฑะพะดะธะปะฐ ะฑะปะพะบะฝะพั ะธะท ัะตะปะปะพัะฐะฝะพะฒะพะน ะฟะปะตะฝะบะธ. ะะตะปะพะฒะบะพ ะทะฐะถะฐะฒ ะตะณะพ ะฟะพะด ะผััะบะพะน, ะฟะพััะปะฐัั ะฒ ััะบะทะฐะบะต, ะฝะฐัะปะฐ ัััะบั. ะกะตะปะฐ ะฝะฐ ะบะพััะพัะบะธ ะธ ะฒะฒะตัั ั ะฟะตัะฒะพะน ัััะฐะฝะธัั ะฒัะฒะตะปะฐ: ยซะัััั ะฒัะต ะฒะตัะฝะตััั ะฝะฐ ะบััะณะธ ัะฒะพัยป. ะะฐัะตะผ ะฟะพะดัะผะฐะปะฐ ั ะผะธะฝััั ะธ ะดะพะฑะฐะฒะธะปะฐ: ยซะะธะฝะพ ะตะต ะฟัะตะปะตััะธ ัะดะฐัะธะปะพ ะตะผั ะฒ ะณะพะปะพะฒัโฆ ะะฝะดัะตะน ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป ัะตะฑั ะพะถะธะฒัะธะผยป. ะฃะดะพะฒะปะตัะฒะพัะตะฝะฝะพ ะฟะพัะพะบะฐะปะฐ ัะทัะบะพะผ, ะฟะพะดะฝัะปะฐัั ะธ, ะฝะฐััะฟะฐะฒ ะฒ ะบะฐัะผะฐะฝะต ะบะปัั, ะฟัะธะฝัะปะฐัั ะพัะบััะฒะฐัั ะดะฒะตัั ัะฒะพะตะน ะบะฒะฐััะธัั.
โ ะะธะทะบะฐ, ั ัะตะฑั ัะตะนัะฐั ัะฑัั!ย โ ะผะฐะผะฐ, ััะพ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ั ะฝะตะน ัะฐััะพ ะฑัะฒะฐะปะพ, ะผะตัะฐะปะฐ ะณัะพะผ ะธ ะผะพะปะฝะธะธ. โ ะขะตะฑะต ัะตะปะตัะพะฝ ะทะฐัะตะผ ะฝัะถะตะฝ, ััะพะฑั ะธะผ ะพัะตั ะธ ะบะพะปะพัั? ะขั ะฟะพัะตะผั ะฝะฐ ะทะฒะพะฝะบะธ ะฝะต ะพัะฒะตัะฐะตัั? ะฏ ััั ั ัะผะฐ ัั ะพะถั!
— ะะฐ ะฒัะต ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพ, ะผะฐะผ, ะฝะต ะบะธะฟััะธัั, โ ะะธะทะฐ ัะฑัะพัะธะปะฐ ะฑะพัะธะฝะบะธ ะธ ะฟะพะฒะตัะธะปะฐ ัะธััะตะฝัะบัั ััั ัั ะบัััะบั ะฝะฐ ะฒะตัะฐะปะบั. ะะพััะฐะปะฐ ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ โ ะฟะพ ะบัะฐั ัะพะทะฝะฐะฝะธั ัะบะพะปัะทะฝัะปะพ, ััะพ ัะตะปะตัะพะฝ, ะฒ ะพะฑััะฝะพะต ะฒัะตะผั ะฑะตะทะพััะฐะฝะพะฒะพัะฝะพ ะฟะธะปะธะบะฐััะธะน ะฝะฐ ัะฐะทะฝัะต ะณะพะปะพัะฐ, ัะตะณะพะดะฝั ะฑัะป ะฝะตะผ, ะบะฐะบ ะผะพะณะธะปะฐ. ะะฐะถะตะณัั ัะบัะฐะฝ.ย ะ ะปะตะฒะพะผ ะฒะตัั ะฝะตะผ ัะณะปั ะบัััะธะปะพัั ัะบะพัะฑะฝะพะต: ยซะะพะธัะบ ัะตัะธยป. โ ะะพะฝ, ัะฐะผะฐ ะฟะพัะผะพััะธ, ะฝะตั ะพั ัะตะฑั ะฝะธะบะฐะบะธั ะฟัะพะฟััะตะฝะฝัั โ ะณะปััะธั ัะตะปะตัะพะฝ.
โ ะขั ะณะดะต ัะปัะปะฐัั ะฒะพะพะฑัะต? ะะฐ ัะฐัั ะฟะพัะผะพััะธ! ะะพัั ะฝะฐ ะดะฒะพัะต! โ ะตัะปะธ ะผะฐะผะฐ ะทะฐะฒะพะดะธะปะฐัั, ะพััะฐะฝะพะฒะธัั ะตะต ะฑัะปะพ ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ.
โ ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ั ะะฝะดัะตั ะฒ ะฑะพะปัะฝะธัะต ะฑัะปะฐ โ ั ะฝะตะณะพ ัะฐะผ ััะพ-ัะพ ะฒะตะณะตัะพัะพััะดะธััะพะต, ะทะฐัะตะผ ะบ ะะฐััะต ะะปะตะบัะตะฒะฝะต ะฝะฐ ัะฐะน ะทะฐะณะปัะฝัะปะฐ.
ะัะธ ััะธั ะตะต ัะปะพะฒะฐั , ะฟัะพัััะฟะธะฒัะธะต ะฝะฐ ัะตะต ั ะผะฐัะตัะธ ะฟัะฝัะพะฒัะต ะฟััะฝะฐ, ะฝะฐัะฐะปะธ ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะทะฐะปะธะฒะฐัั ัะตะบะธ:
— ะัะดะฐ ะทะฐะณะปัะฝัะปะฐ?!
— ะะฐะผ, ะฝั ัั ัะตะณะพ, ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะถะต โ ะบ ะะฐััะต ะะปะตะบัะตะฒะฝะต โ ะฝะฐ ัะฐะน ั ะปะธะผะพะฝะพะผ.
— ะั ัั ะดััะฝั ัะธะฝะธัะฝะฐั! โ ะผะฐะผะฐ ัะฐะทะผะฐั ะฝัะปะฐัั ะธ ั ะพัััะถะบะพะน ะฒะปะตะฟะธะปะฐ ะะธะทะต ะทะฒะพะฝะบัั ะฟะพัะตัะธะฝั. โ ะัะตััะฐ ะฝะฐ ัะตะฑะต ะฝะตั! ะะฐััั ะะปะตะบัะตะฒะฝะฐ ัะผะตัะปะฐ ะณะพะด ะฝะฐะทะฐะด!
[1] ะะพั ะผะธะปะฐั (ัั.)
[2] ะะต ัะผะตัะธ ะผะตะฝั (ัั.)
[3] ะะพะฝะตัะฝะพ (ัั.)
ะะปะฐะฒะฐ 23. ะะธะบะพะปะฐะน ะะฐัะฐะตะฒ. ะะฐ ะผะธะปะปะธะฐัะด ะฒะพะปั ะดะพ ะบะพะฝัะฐ ัะฒะตัะฐ


โ Prince Andrew! Wake up! Wake up, Neo![1]
ะะบะตะฐะฝัะบะพะต ะดะฝะพ ัะพัััั ะฟะพะดะทะตะผะฝัะน ัะพะปัะพะบ, ะฒัะตะผั ััะบะพัะธะปะพัั, ะธ ะะฝะดัะตั ะฒัะฝะตัะปะพ ะธะท ะฑะตะทะดะฝั ัะฝะพะฒ ะฝะฐ ะฟะพะฒะตัั ะฝะพััั ัะฒะธ. ะะตั ะพัั ัะฐะทะปะตะฟะธะปะธัั ะณะปะฐะทะฐ. ะะพัั, ะฑะพะปัะฝะธัะฐ, ัะธัะธะฝะฐ. ะกะพะฟะตะฝะธะต ัะพัะตะดะตะน ะฟะพ ะฟะฐะปะฐัะต. ะะฐ ะพะบะฝะพะผ ะฟัะธะฒััะฝะพ ะณัััะตะปะฐ ััะผะฐ.
ะกะฟัะฐะฒะฐ ะธ ัะปะตะฒะฐ ะพั ะบะพะนะบะธ ััะพัะปะธ ะดะฒะพะต. ะะฝะดัะตะน ะผะพัะณะฝัะป. ะะตัะบะฐะปัะฝะฐั ะฟะฐัะฐ ััะฐัะธะบะพะฒ, ะฝะตัะปะพะฒะธะผะพ ะทะฝะฐะบะพะผัะต ะปะธัะฐ. ะะปัะดัั ะพะดะธะฝ ะฝะฐ ะดััะณะพะณะพ. ะะธะฝััั ะธะปะธ ะดะฒะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะพะธัั ะพะดะธะปะพ, ะธ ะะฝะดัะตะน ััะฟะตะป ัะฑะตะดะธัั ัะตะฑั, ััะพ ะตะผั ััะดะธััั; ััั ััะฐัะธะบะธ ัะธะฝั ัะพะฝะฝะพ ะฒัััะฝัะปะธ ะฟัะฐะฒัะต ััะบะธ ะธ ัั ะฒะฐัะธะปะธ ะดััะณ ะดััะณะฐ ะทะฐ ะฑะพัะพะดั. ยซะญัะพ ะบะพัะผะฐั, โ ัะตัะธะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะตัะตะฒะตัะฝััััั ะฝะฐ ะฑะพะบ. ะะดะตัะปะพ ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒั, ััะฝััั ะธ…ยป ะะพัะตะฒะตะปะธัััั ะฑัะปะพ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ.
ะกัะฐัะธะบะธ ะผะตะถะดั ัะตะผ ัะฐัะฟะปัะปะธัั ัะธะทัะผ ะดัะผะพะผ, ัะพะถะต ั ะทะฐะฒะธะดะฝะพะน ัะธะฝั ัะพะฝะฝะพัััั, ะฝะพ ะฑะพัะพะด ะธะท ะบัะปะฐัะธั ะฝะต ะฒัะฟัััะธะปะธ. ะะฝะธ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะปะธ ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ะบะพะปััะพ, ะบะพัะพัะพะต ะบััะถะธะปะพัั: ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะฑััััะตะต, ะตัะต ะฑััััะตะต โ ะธ ะฝะฐ ะะฝะดัะตั ััะฐะปะฐ ะฝะฐะฟะพะปะทะฐัั ะฒะธั ัััะฐััั ะฒะพัะพะฝะบะฐ. ะะดัะตะฝะฐะปะธะฝ ัะถะตะณ ะฟัะตะดะพั ัะฐะฝะธัะตะปะธ. ะะฝะดัะตะน, ัะตะนัะฐั, ะฟะพะถะฐะปัะน, ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ัะฒะตัั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฒัะฟััะณะฝัะป ะธะท ะบะพะนะบะธ, ะฝััะฝัะป ะฟะพะด ะฒะพัะพะฝะบั, ะฟะพะผัะฐะปัั ะบ ะดะฒะตัะธ. ะะพะปััะพ ัะฒะฐะฝัะปะพ ัะปะตะดะพะผ. ะะพัะธะดะพั ะดัะพะถะฐะป, ะธะทะณะธะฑะฐะปัั, ะฑัะดัะพ ะบะธัะบะฐ ะณะธะณะฐะฝััะบะพะณะพ ะณะฐะดะฐ, ัััััั, ะปัะณะฐะปัั, ะธัะบัะธะป…
ะะฝะดัะตะน ะฟะพะผะพัะฐะป ะณะพะปะพะฒะพะน. ะัะฝััะธะฒะฐั ะธะท ะบะพัะผะฐัะฐ, ะทะฐะถะผััะธะปัั ะธ ัะตะทะบะพ ะพัะบััะป ะณะปะฐะทะฐ. ะะพัั, ัะธัะธะฝะฐ. ะะต ะฑะพะปัะฝะธัะฐ. ะะฝ ะฝะต ะฒ ะบะพะนะบะต ะธะท-ะทะฐ ะฒะตะณะตัะพัะพััะดะธััะพะน ััะพะน, ะบะฐะบ ะตะต. ะะฝ ััะพะธั ะฑะพัะธะบะพะผ ะฝะฐ ะฐััะฐะปััะต. ะะฟะตัะตะดะธ ะณะพัะธัะตัะบะธะผ ะทะฐะผะบะพะผ ะฒััะธััั ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะฐยป ะธะผะตะฝะธ ะธัะปะฐะฝะดัะฐ, ะธะผั ะบะพัะพัะพะณะพ ะธั ััะธะปะธ ะฟัะพะธะทะฝะพัะธัั ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ: ะฝะต ะจะพั, ะฐ ะจะพ. ะกะฐะผะพ ัะพะฑะพะน ะฒััะฒะฐะปะพัั:
โ ะจะพ ะทะฐ ะฝะฐัะธะณ?
โ ะกะพะผะฝะฐะผะฑัะปะธะทะผ, ะผััะต ะัะฑะพัะบะธ, โ ัะธั ะพ ัะบะฐะทะฐะปะธ ััะดะพะผ, ะบะพะฒะตัะบะฐั ัะฐะผะธะปะธั ะฝะฐ ััะฐะฝััะทัะบะธะน ะผะฐะฝะตั. โ ะะพ ะฒั ะฒะพะฒัะตะผั. Give me a second, Iโll call your dear comrade.[2]
ะกะฐะดะฝะธะปะธ ัััะฟะฝะธ. ะัะพ-ัะพ ะฒะฝัััะธ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป: ยซะฏ ะพะดะฝะพ ะฟะพะฝะธะผะฐั, ััะพ ะฒัั ะผะตัะทะบะพ, ะผะตัะทะบะพ ะธ ะผะตัะทะบะพยป. ะะฑะพัะฐัะธะฒะฐัััั ะฝะต ั ะพัะตะปะพัั.
***
ะ ัะฐะบะธะต ะฒะตัะตัะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะพัะตั ัะปะฐะถะธะฒะฐะป ะดะตะปะฐ ั ะผะตะณะฐะฟัะพะตะบัะธัะตะผ โ ะฝะตะฑะพัั ะธ ะทะฐะฝะพััะตั ะฒ ัะฒะพะตะผ ะะพัะบะฒะฐ-ะกะธัะธ, โ ะฐ ะผะฐะผะฐ ััะฒะธัััะฒะฐะปะฐ ะฝะฐ ะผะฐะฝะธะบัั, ัะธัะฝะตั ะธะปะธ ะผะฐััะฐะถ, ะะฝะต ะดะตะปะฐะปะพัั ัะบััะฝะพ. ะะฐะฟะตะฒะฐั ะบะฐะบัั-ัะพ ัััั โ ยซCaper the caper, sing me the song, death will come soon to hush us alongยป[3], ะพัะบัะดะฐ ััะพ? โ ะพะฝะฐ ัะฐัะธะปะฐัั ะฝะฐ ะบัั ะฝั, ะฑัะฐะปะฐ ะฟะฐะบะตั ั ัะธะฟัะฐะผะธ, ั ััััะตะปะฐ ะธะผะธ ะฟะพะด ัะธะบะฐะฝัะต ะฝะฐะฟะพะปัะฝัั ัะฐัะพะฒ. ะกะตัะธะฐะป, ััะพ ะปะธ, ะฟะพัะผะพััะตัั? ะะต ะฒ ัะตะปะตัะพะฝ ะถะต ััะฟะธัั. ะะฝะฝะฐ, ัั ะฝะต ะพะฒัะฐ. ะ ัะตะฑะต ัะถะต ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ะปะต-ะตั…
โ ะั-ั-ััะฐ, โ ะฟัะพััะฝัะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะะพัะธัะฐะน ะบะฝะธะถะบั, ัะฟะฐัะธ ะฑะพะฑัะฐ! (ะัะฟะพะผะฝะธะปะฐัั ะะธะทะฐ ะฒ ะฑะพะปัะฝะธัะบะต, ั ัะฐะบะธะผ ะปะธัะพะผ, ััะพ ะฒะพั-ะฒะพั ัะฐะทัะตะฒะตััั. ะะทะฒะธะฝะธ, ะะพะฑะตั, ะะฝะดัะตะน โ ะผะพะน. ะัะดัั ะฐะน, ะะพะฑะตั!)
ะัะพะฑะตะถะธะผ ะถะต ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะฟะพ ะบะพัะตัะบะฐะผ. ะจะตะบัะฟะธั, ะฟัะพััะธ, ะฝะตั, ั ะฒะฐัะธั ั ะผะตะฝั ัะตะฐััะฐะปัะฝะพะณะพ ะฟะพะทะพัะฐ. ะ ัะพะผั ะถะต, ัะฟะฐัะธะฑะพ ะงั ะพะฝะธะธ, ัะตะบัะฟะธัะพะฒัะบะธะต ะณะตัะพะธ ะฒัะต ะทะฐะณะพะฒะพัะธะปะธ ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ะะฝะธ ั ะณััะทะธะฝัะบะธะผ ะฐะบัะตะฝัะพะผ: ยซะะธั ัะปั ะฝั ะฑะธั?ยป ะัั! ะ ััะพ ััะพ ะทะฐ ัะธะฝะธะน ะธ ะบัะฐัะฝัะน ะฟะตัะตะฟะปะตัั ะฑะตะท ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะน ะฟัะธัะพัะตะดะธะปะธัั ะบ ะะฐะฑะพะบะพะฒั? ะงัะพ ะทะฐ ะบะฝะธะถะบะธ, ะฟะพัะตะผั ะฝะต ะทะฝะฐั?..
ะัะฐัะฝัะน ะพะบะฐะทะฐะปัั ัะพัะพะฐะปัะฑะพะผะพะผ. ะะฝัััะธ ัะฐััะพะฒะฐะฝั ะบะพะต-ะบะฐะบ ัะตัะฝะพ-ะฑะตะปัะต, ะถะตะปัะตััะธะต ัะฝะธะผะบะธ ัะพะฒะตััะบะพ-ัััะบะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ. ะัะตัะฐะบะธ, ะปะฐะณะตัั… ะณะตะพะปะพะณะธ, ััะพ ะปะธ? ะะพะปัะณะพะปัะต ัะปัะฑัะธะฒัะต ะฟะฐัะฝะธ ั ะปะพะฟะฐัะฐะผะธ… ะ ะฝะตั, ะฝะฐ ะบะฐะผะฝัั ัะธะณััะฝะพ ะธ ะปัะฑะพะฒะฝะพ ัะฐะทะปะพะถะตะฝั ัะตัะตะฟะบะธ. ะัั ะตะพะปะพะณะธ. ะญัะพั ะฝะฐ ะพััะฐ ะฟะพั ะพะถ. ะ ััะพั ะฝะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒัั , ะฝะฐ ะพะฑะตะธั … ะั-ัะตะฝั ะธะฝัะตัะตัะฝะพ. ะัะบัะดะฐ ะพะฝะพ ั ะฝะฐั?
ะัะบััะฒ ัะธะฝัั ะบะฝะธะถะบั, ะะฝั ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะฐ ะธ ะฒะพะฒัะต ะดะธะบะพะฒะธะฝะฝะพะต ะดะธะฒะพ โ ะฐะปัะฑะพะผ ั ะผะฐัะบะฐะผะธ. ะ ะพะดะธัะตะปะตะน ัะธะปะฐัะตะปะธั ะฝะต ะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปะฐ ะฝะธะบะพะณะดะฐ. ะงัะพ-ัะพ ะทะฐะฑัะตะทะถะธะปะพ ะฒ ะฟะฐะผััะธ. ะะตัะตัะธะฝะบะฐ ั ะะตะทะฝะพัะฐ, ะบัะดะฐ ะตะต ะฝะต ะทะฒะฐะปะธ, ะฐ ะพะฝะฐ ะฟัะธะฟะตัะปะฐัั, ัะฐะบะพะน ะถะต ะฐะปัะฑะพะผ ะฝะฐ ััะพะปะต… ะ ะผะฐัะบะธ ัััะฐะฝะฝัะต. ะะพะฑะตัะผะฐะฝ, ะทะตะปะตะฝะฐั ะผะพะปั, ะฝะฐััะพะปัะฝะฐั ะปะฐะผะฟะฐ, ะบัะฐัะฝัะน ะบัะตัั…
ะะฐัะธัะธะบะฐะป ะดะพะผะพัะพะฝ. ะะฝั ะฑัะพัะธะปะฐ ะฐะปัะฑะพะผ, ะฟะพะดัะบะพัะธะปะฐ, ะฝะฐะถะฐะปะฐ ะฝะฐ ะบะฝะพะฟะบั:
โ ะัะพ?
โ ะะธััะผะพ ะณะพัะฟะพะถะต ะฟะธัััะตะน ะผะฐัะธะฝะบะต, โ ะฟัะพะบััั ัะตะปะธ ะฒ ะพัะฒะตั.
โ ะงัะพ? ะะฐะบะพะน ะผะฐัะธะฝะบะต? โ ะฒ ัััะฑะบะต ะทะฐัะบัะตะถะตัะฐะปะพ, ััั ะถะต ััะตะฝัะบะฝัะป ะดะฒะตัะฝะพะน ะทะฒะพะฝะพะบ. ะะฝั ะฟะตัะตะดะตัะฝัะปะพ ะพั ะธัะฟัะณะฐ. ะะฐ ััะฟะพัะบะฐั ะฟะพะดะพะนะดั ะบ ะดะฒะตัะธ, ะพะฝะฐ ะฟัะธะปะพะถะธะปะฐัั ะบ ะณะปะฐะทะบั. ะ ะปะตััะฝะธัะต ัะตะผะตะฝะธะปะฐ ััะฐัััะบะฐ ะฒ ะบัะพััะพะฒะบะฐั โ ะฐ ะฝะฐ ะบะพะฒัะธะบะต ะฑะตะปะตะปะพ ะฝะตััะพ.
ะัะถะดะฐะฒ ะฟะพะปะผะธะฝััั, ะะฝั ัะตะปะบะฝัะปะฐ ะทะฐะผะบะพะผ ะธ ัั ะฒะฐัะธะปะฐ ัะฒะตัะฝัััะน ะปะธัั ะฑัะผะฐะณะธ. ยซะญะ ะะะยป. ะะฝัััะธ โ ะทะฐะฟะธัะบะฐ: ยซะกะะะะะะฏ ะ ะะะะะะงะฌ ะฃ ะจะะะะซ. BE ON TIME. AND TAKE THE STAMPS WITH YOU[4]ยป.
***
ะะธะทะต ะะตะนะฝะตะฝ ะฝะต ัะฟะฐะปะพัั. ะะพัะตะปะฐ ัะตะบะฐ, ะฟะพ ะบะพัะพัะพะน ั ะปะตััะฝัะปะฐ ัะณะพัััะฐ ะผะฐะผะฐ. ะะตัะตะด ะณะปะฐะทะฐะผะธ ััะฑะธะปะพ, ะบะฐะบ ะฒ ัะตะปะตะฒะธะทะพัะต, ะฝะฐัััะพะตะฝะฝะพะผ ะฝะฐ ะผะตััะฒัะน ะบะฐะฝะฐะป. ะะพัะต ะพั ัะผะฐ, ะฟะพะดัะผะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. ะะพ ะผะฝะพะณะพั ััะตะฝะธั ะผะฝะพะณะธั ะฟะตัะฐะปะธ. ะ ะตะฐะบัะธะฒะฝะฐั ะฟัะธั ะธะบะฐ. ะะพััะฐัะพัะฝะพ ะฑัะปะพ ะฒัะฝััั ะบะฐััั ะธะท ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธั, ััะพะฑั ะดะพะผะธะบ-ัะพ ะธ ะฟะพััะฟะฐะปัั. ะ ัะตะปะตะฒะธะทะพัะต ะผะตะถ ัะตะผ ะฟัะพัััะฟะธะป ะบะฐะดั ั ะะฐััะตะน ะะปะตะบัะตะฒะฝะพะน. ยซะะตัะบะฐะปะพยป ะขะฐัะบะพะฒัะบะพะณะพ, ะดะฐ-ะดะฐ. ะััะตะทะฐััะธะน ัะปะตะด ะพั ัะฐัะบะธ ัะฐั. ะัะธะทัะฐะบะธ. ะัะพะฟะฐะถะธ. ะะผะฝะตะทะธั. ะะปะปะพะฟัะธั ะธัะตัะบะฐั ะดะตะฟะตััะพะฝะฐะปะธะทะฐัะธั. ะัะปะธ ะฑั ั ะฟะธะปะฐ, ั ะฑั ัะบะฐะทะฐะปะฐ, ััะพ ะดะพะฟะธะปะฐัั. ะะฝะดัะตะน…
ะะธ-ะฑะธะฟ. ะะธะทะฐ, ะฝะต ะฟะพะบะธะดะฐั ะฟะพะปัะดัะตะผั, ะฝะฐััะฟะฐะปะฐ ัะผะฐัััะพะฝ, ะฒะธะฑัะธัะพะฒะฐะฒัะธะน ะฝะฐ ััะผะฑะต… ะฝะตั, ะฝะต ะฝะฐ ััะผะฑะต โ ะฝะฐ ะฑะปะพะบะฝะพัะต. ะก ะััะบะธะฝัะผ ะบะธััะธ ะะตััะพะฒะฐ-ะะพะดะบะธะฝะฐ. ะะตัั ััะพั ะฑัะตะด. ะั ะบัะพ ะตัะต?
SMS ั ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะพะณะพ ะฝะพะผะตัะฐ. ยซะะธะทะฐ, ะดะพะฑัะพะณะพ ั ัะพะฝะพัะฐ. ะกะธะผ ัะดะพััะพะฒะตััะตััั, ััะพ ะั ะธะทะฑัะฐะฝั ะดะปั ะบะพะฝัะฐะบัะฐ ั ะัััะธะผ ะ ะฐะทัะผะพะผ (ะดะฐะปะตะต ะัะ ะฐะท)…ยป (What the hell?[5]) ยซ…ั ัะตะปัั ะดะฐัะธ ะฟะพะบะฐะทะฐะฝะธะน ะฝะฐ ััะดะตะฑะฝะพะผ ะฟัะพัะตััะต ะฟะพ ะดะตะปั «ะัะพะบัะธะผะฐ ะฆะตะฝัะฐะฒัะฐ vs ะงะตะปะพะฒะตัะตััะฒะพ» ะฒ ัะฐะผะบะฐั ััะตะดะฝะตะณะฐะปะฐะบัะธัะตัะบะพะณะพ ััะดะพะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒะฐ ััะธะฝะฐะดัะฐัะพะน ะธะฝััะฐะฝัะธะธ. ะกะตัะดะตัะฝะพ ะะฐั, ะััะฐะทยป.
โ ะะฐัั ะะฐัั, โ ััะณะฝัะปะฐัั ะะธะทะฐ. โ ะจะพ ะทะฐ ะฝะฐัะธะณ? (ะขะฐะบ ัะบะฐะทะฐะป ะฑั ะะฝะดัะตะน. ะะพั ัะพัะฝะพ ัะฐะบ ะธ ัะบะฐะทะฐะป ะฑั).
ะะธ-ะฑะธะฟ. ยซะะพะฒะตััะบะฐ: ะณัะฐะถะดะฐะฝะบะต ะะตะนะฝะตะฝ ะะปะธะทะฐะฒะตัะต ะกะตัะณะตะตะฒะฝะต ะฝะฐะดะปะตะถะธั ัะฒะธัััั ัะตะณะพะดะฝั ะฒ 00.00 ะบ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ โ 0012 ะธะผ. ะ. ะจะพั ะดะปั ะบะพะฝัะฐะบัะฐ ั ัะตัะผะธะฝะฐะปะพะผ ะกัะตะดะฝะตะณะฐะปะฐะบัะธัะตัะบะพะณะพ ะกัะดะฐยป.
ะะธ-ะฑะธะฟ. ะก ะดััะณะพะณะพ ะฝะพะผะตัะฐ. ยซะขะตะฝัะฐะบะปะตะน ะฝะตั, ะฝะพ ะฒั ะดะตัะถะธัะตัั. ะะฑะธะดัะธะบะธ ะฑัะดัั ะพะฑะธะถะตะฝั. ะก ะฟัะธะฒะตัะพะผ, ะณัะผะฐะฝะพะธะดัยป.
ะะธ-ะฑะธะฟ. ะัะต ะพะดะธะฝ ะฝะพะผะตั. ยซะะพะฝะตะบ ะะฐั, ะะพัะฑัะฝะพะบ ะฝะฐั. ะะฐะถะต ะฝะต ะดัะผะฐะนัะต. ะัะพัะธะฒะฝะฐั ััะพัะพะฝะฐยป.
ะะธ-ะฑะธะฟ. ะกะฝะพะฒะฐ ั ะฟะตัะฒะพะณะพ: ยซะะฐะผะฑะฐัะฑะธั. ะะฐะฒะปะตะฝะธะต ะฝะฐ ัะฒะธะดะตัะตะปั ะพะฑะฒะธะฝะตะฝะธั ะฟัะตะบัะฐัะตะฝะพ. ะะธัะณัะดัยป.
ะะธะทะฐ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ัะฐัั, ะพัะฑัะพัะธะปะฐ ะพะดะตัะปะพ ะธ ััะฐะปะฐ ะปะธั ะพัะฐะดะพัะฝะพ ะพะดะตะฒะฐัััั. ะงัะพ-ัะพ ั ะดะพะปะถะฝะฐ ะฝะต ะทะฐะฑััั, ะดัะผะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. ะั , ะดะฐ, ะฑะปะพะบะฝะพั. ะะพั ะพะฝ. ะก ะั… ะฉะฐะท. ะก ะะพะฝัะบะพะผ-ะะพัะฑัะฝะบะพะผ.
***
ะงัะพ ะดะพ ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ, ั ะฝะตะณะพ ะฒัะตะณะพ ะปะธัั ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ะบะฝะพะฟะพัะฝัะน ะฑะฐะฑััะบะพัะพะฝ. ะงะตัะฝัะผ ะฝะฐ ัะตัะพะผ ะฒัะฟัั ะฝัะปะพ ะธะผั: ยซะะฐะฒะตะป ะจ.ยป ะัะตั ะจะตัะณะธ ะฟะตัะตะทะฒะฐะฝะธะฒะฐะตั? ะะพััั? ะะตัั ะณะปัะดะตะป ะฝะฐ ัะบัะฐะฝ, ะฟะพะบะฐ ะฝะต ัะผะพะปะบ ะฟัััะน ะทะฒะพะฝะพะบ, ะฝะฐะถะฐะป ะฝะฐ ะบะฝะพะฟะบั, ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะฟะพะดะฝะตั ะดะพะฟะพัะพะฟะฝัะน ะฐะฟะฟะฐัะฐั ะบ ัั ั:
โ ะญ… ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั?
โ ะะฐะป ะะธะบะพะปะฐะธั, ะผััะต ะะตะทะฝะพัะพัั, โ ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัะน ะณะพะปะพั ัะดะตะปะฐะป ัะดะฐัะตะฝะธะต ะฝะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะต ยซะพยป, โ ะฝะต ะฟะตัะตะทะฒะพะฝัั-ั. ะะพ ะตะถะปะธ ะฒั, ะฑะฐัะธะฝ, ัะดัะผะฐะตัะต ัะตะณะพ ะฟัะพะทะฝะฐัั ะพ ะฟะพะบะพะนะฝะพะผ ะฑะฐัััะบะต ะธ ะตะณะพ liaisons dangereuses[6], ะฒะพัะฟะพะปัะทัะนัะตัั ัะตัะตะฟัะพะผ ะธะท ยซะัะฐะบัะปัยป: ะฝะฐะดะพัั ัะพะฒะฝะพ ะฒ ะฟะพะปะฝะพัั ะฟะตัะตะปะตะทัั ัะตัะตะท ะฝะธะทะบัั ะพะณัะฐะดั ะบะปะฐะดะฑะธัะฐ.
โ ะะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะฝัะป, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.
โ ะะพะปะพะดะตะถั, โ ัะดัััะธะปัั ะณะพะปะพั, โ ัััะพะบ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐะตะผ. ะัะบะฐะทัะฒะฐะตะผัั ัะทะฝะฐะฒะฐัั ะฐะปะปัะทะธะธ ะฑะตะท ะฟะฐะปััะพ! ะะพัะพัะต, ะะตัั, ะถะดะตะผ ะฒะฐั ะฒ ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะฝัะปั-ะฝัะปั ะฟะตัะตะด ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะพะนยป. ะัะดัั ะฒะฐัะธ ะดััะทัั-ะพะดะฝะพะฟะพะปัะฐะฝะต ะธ ั, ะบะพัะพััะน, ั ะฐ-ั ะฐ, ะฒัั ะฒะฐะผ ะพะฑัััะฝะธั.
ะัะบะฐัะปัะฒัะธัั, ะณะพะปะพั ะฟัะธะฑะฐะฒะธะป:
โ ะะฐะผ ะฟัะธะฒะตั ะพั ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ. ะะฝ ะธ ะฝะต ัะฐะด, ััะพ ะฒะฟััะฐะป ะฒะฐั ะฒ ััั ะธััะพัะธั. ะะพ ั ะทะฐ ะฒะฐั ะฟะพัััะธะปัั. ะะพ ัะฒัะทะธ. ะ ัะบะฐะน!..[7]
***
ะขะตะฟะตัั ะธั ััะฐะปะพ ะฟััะตัะพ. ะะฝะดัะตะน, ะฟะตัะตัััะฟะฐั ั ะฝะพะณะธ ะฝะฐ ะฝะพะณั (ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผะตั ะฒัััะธะป ะตะผั ะผะตั ะพะฒัะต ัะฐะฟะพัะบะธ ะฑะตะท ะทะฐะดะฝะธะบะพะฒ, ะฒ ะฝะธั ะฑัะปะพ ัะตะฟะปะตะต, ะฝะพ ะฝะต ัะปะธัะบะพะผ), ััะผัะฐัะฝะพ ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป ะทะฐ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผะธ. ะกะฝะฐัะฐะปะฐ, ัะฒะฝะพ ะฝะต ัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐััั, ั ะดะฒัั ััะพัะพะฝ ะฟะพะดะพัะปะธ ะะธะทะฐ ะธ ะะฝัะบะฐ, ัะฐัััะตะฟะฐะฝะฝัะต ะบัะฐัะฐะฒะธัั; ะพะดะฐัะธะปะธ ะดััะณ ะดััะณะฐ ัััะฐัะฝัะผะธ ะฒะทะณะปัะดะฐะผะธ, ัะธั ะพ ะฑััะบะฝัะปะธ: ยซะจะตัะณะฐ, ะฟัะธะฒะตัยป, ยซHello, ะะพะฑะตัยป โ ะธ ะทะฐัััะปะธ ะฝะฐ ะฝะตะฟะพััะธัะตะปัะฝะพะผ ัะฐัััะพัะฝะธะธ. ะะพัะพะผ ัะฒะธะปัั ะะตะทะฝะพั ัะพ ะทะฝะฐะผะตะฝะธััะผ ะบะฝะพะฟะพัะฝัะผ ัะตะปะตัะพะฝะพะผ ะฒ ััะบะต.
ะะตะทะฝะฐะบะพะผะตั, ะผัะถะธะบ ััะตะดะฝะตะณะพ ัะพััะฐ ะฒ ะดะปะธะฝะฝะพะผ ะฟะปะฐัะต, ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป ะทะฐ ัะฑะพัะพะผ ะพััััะฐะฝะตะฝะฝะพ, ะธะฝะพะณะดะฐ ัะฐะทะผะธะฝะฐั ะทะฐัะตะบััั ัะตั ะธ ะฟัะตะฒัะฐัะฐััั ะฒ ัะฐะบะธะต ัะตะบัะฝะดั ะฒ ะบะธัะฐะนัะบะพะณะพ ะฑะพะปะฒะฐะฝัะธะบะฐ. ะะท-ะทะฐ ัะพะปะฝะตัะฝัั ะพัะบะพะฒ ะผัะถะธะบ ะฟะพั ะพะดะธะป ะฝะฐ ะฝะฐัะตะบะพะผะพะต. ะะฐ ัะตัะฝะพะน ััะฟะตััะบะพะน ัะฐะฟะพัะบะต ะฑัะปะฐ ะฒััะธัะฐ ะฑะตะปัะผ ะฑัะบะฒะฐ; ัะฟะตัะฒะฐ ะะฝะดัะตั ะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ััะพ ะ, ะฟะพัะพะผ โ ััะพ W, ะทะฐัะตะผ ะพะฝ ะฟะพะฝัะป, ััะพ ะ ะธ W ะฒะพะทะฝะธะบะฐัั ะฟะพะฟะตัะตะผะตะฝะฝะพ, ะบะฐะบ ะบะฐััะธะฝะบะธ ะฝะฐ ััะตัะตะพัะบัััะบะต, ะผะตะฝัััะตะน ัะณะพะป ะฝะฐะบะปะพะฝะฐ ะธ ะพัะฒะตัะตะฝะธั.
โ ะญะบะธะฟะฐะถ ะฟะพะดะปะพะดะบะธ ยซะะพะผัะพะผะพะปะตั ะะพัะดะพัะฐยป ะฟัะธะฑัะป! โ ะพะฟะพะฒะตััะธะป ะผัะถะธะบ ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ. โ ะั-ัะต-ั, ะฒะฟะตัะตะด, ะฟัะพัั…
โ ะัะดะฐ ะฒะฟะตัะตะด? โ ะทะฐะณะพะปะพัะธะปะฐ ะะฝัะบะฐ. โ ะั ะบัะพ? ะงะพ ะทะฐ ัะพะบััั? ะะพะถะตั, ะฒั ะผะฐะฝััะบ! ะขะตะด ะะฐะฝะดะธ ะบะฐะบะพะน-ะฝะธะฑัะดั…
โ ะงัะพ ะทะฐ ะณะฐะปะฐะบัะธัะตัะบะธะน ััะด? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ ัะธั ะพ, ััะฐัะฐััั ะฝะต ะณะปัะดะตัั ะฝะฐ ะะฝะดัะตั.
โ ะงัะพ ะทะฝะฐัะธั ยซะฟัะธะฒะตั ะพั ะพััะฐยป? โ ะบัะธะบะฝัะป ะะตัั. ะััะฐะปัะฝัะต ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ะพัะตะฝั ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ.
ะัะถะธะบ ัะฐะทะฒะตะป ััะบะฐะผะธ.
โ ะะพะธัะตัั? ะะพะณะพ? ะงะตัััะต ะบัะตะฟะบะธั ัะธะฝะตะนะดะถะตัะฐ ะฝะต ะดะฐะดัั ะพัะฟะพั ััะฐัะตััะตะผั ะผะฝะต? ะะฐ ะพะดะธะฝ ะัะฑะพัะบะธะน ััะพะธั ะดะตัััะตััั . ะฅะพัั ัะบะฐะถัั, ััะพ ะฒะฐั ะฑัะปะพ ัะตัะฒะตัะพ. ะ ะฒั, ะณะพัะฟะพะถะฐ ะฟะธัััะฐั ะผะฐัะธะฝะบะฐ, ะฝะต ะทะปะธัะตัั, ะบัะดะฐัะฐะน[8]. โ ะะฝั ะทะปะพ ัะบัะธะฒะธะปะฐัั. โ ะะฐัะบะธ ะฟัะธะฝะตัะปะธ? ะกะตะนัะฐั ะฒัั ะฑัะดะตั โ ะธ ััะด, ะธ ะพัะตั, ะธ ะฑะตะปะบะฐ, ะธ ัะฒะธััะพะบ. ะัะพัั ะฒ ะบะฐะฑะธะฝะตั ะปะธัะตัะฐัััั, ัะฐะผ ะฟะพะณะพะฒะพัะธะผ. ะฃ ะผะตะฝั ะดะปั ะฒะฐั ะฟัะตะทะฐะฑะฐะฒะฝะตะนัะตะต ะธะทะฒะตััะธะต. ะะฒะตัั ะพัะบัััะฐ, ััะพัะพะถ ัะฟะธั, ะทะฐั ะพะดะธัะต. ะะพะปะพะดัะผ ะฒะตะทะดะต ั ะฝะฐั ะดะพัะพะณะฐ. ะะฐะบ ัะบะฐะทะฐะฝะพ ั ะบะปะฐััะธะบะฐ: ะฒะฐะผ โ ะฒะตะทะดะต!..
ะะพะบะฐ ัะตัะฒะตัะบะฐ, ะพะทะธัะฐััั ะธ ะบััะบัััั, ัะฐะณะฐะปะฐ ะฟะพ ัะตะผะฝัะผ ัะบะพะปัะฝัะผ ะบะพัะธะดะพัะฐะผ, ะผัะถะธะบ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ััะฟะฐัั ัะฒะฝัะผะธ ัะธัะฐัะฐะผะธ, ะฟะพ ะฑะพะปััะตะน ัะฐััะธ ะฝะตะฒะตััั ะพัะบัะดะฐ. ะ ะบะฐะฑะธะฝะตัะต ะปะธััั ะธั ะถะดะฐะป ัััะฟัะธะท: ะฝะฐ ะพะดะฝะพะน ะธะท ะฟะฐัั ัะถะต ะทะฐะปะธะฒะฐะปะฐัั ััะตะฐัะธะฝะพะฒัะผะธ ัะปะตะทะฐะผะธ ัะพะปััะฐั ัะฒะตัะฐ. ะกััะพะฒะพ ะฒะทะธัะฐะปะธ ัะพ ััะตะฝ ะฟะพัััะตัั ะบะปะฐััะธะบะพะฒ. ะะพะบััะณ ะฟะฐััั ะฑัะปะธ ัะฐัััะฐะฒะปะตะฝั ัััะปัั.
ะ ะฐััะตะปะธัั. ะะตัะฒะพะน ะฑัั ะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ัััะป ะะฝัะบะฐ, ะฟะพะดะปะต ะฟัะธัะตะป ะะตัั. ะะฐ ะะตัะตะน โ ะะธะทะฐ. ะะฝะดัะตะน ัะฐะณะฝัะป ะฑัะปะพ ะบ ะฝะตะน, ะฝะพ, ะฟะพะนะผะฐะฒ ะฒะทะณะปัะด ะจะตัะณะธ, ะพะฟัััะธะปัั ััะดะพะผ ั ะฝะตะน. ะะตะถะดั ะฝะธะผ ะธ ะะธะทะพะน ะทะฐะฝัะป ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัััะป ะผัะถะธะบ, ะฝะต ัะฝัะฒัะธ ะฝะธ ัะฐะฟะพัะบะธ, ะฝะธ ะพัะบะพะฒ; ะฒะฟัะพัะตะผ, ะฟะพ ะฟััะธ ะผัะถะธะบ ัะฐัััะตะณะฝัะป ะฟะปะฐั, ะฟะพะด ะบะพัะพััะผ ะฑัะณัะธะปะฐัั ัะตัะฐั ัะพะปััะพะฒะบะฐ.
โ ะั, ะณะพัะฟะพะดะฐ ัะฝะบะตัะฐ? ะะพะฟัะพัั ะตััั?
โ ะั ะบัะพ? โ ะฟะพะฒัะพัะธะปะฐ ะะฝัะบะฐ.
โ ะะณะตะฝั ะัะฟะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะผัะถะธะบ. ะะทัะปัั ะทะฐ ะปะฐัะบะฐะฝ ะฟะปะฐัะฐ ะธ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป: โ ะะฐะนะฐะฝะฐ, ะะฐะนะฐะฝะฐ! ะฏ ะฒะตะดั ะฟััะผะพะน ัะตะฟะพััะฐะถ ะธะท ะัะฐัะฝะพะณะพ ะะธะณะฒะฐะผะฐ, ะฒะธะถั ัะฐะฝััััะตะณะพ ะบะฐัะปะธะบะฐ!.. ะ-ะดะฐ. ะะฐะดะฝะพ, ัััะบะธ ะฒ ััะพัะพะฝั ะธ, ะบะฐะบ ะณัะธััั, ะบ ะฑะฐััะตัั. ะะพะฒะธัะต ะผะตะฝั ะะธะปะธะฑะธะฝ.
โ ะะฐะบ ั ัะดะพะถะฝะธะบะฐ? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั. โ ะะพัะพััะน… โ ะบะพัะพะน ะฒะทะณะปัะด ะฝะฐ ะะฝะดัะตั โ …ะฝั, ะปัะฑะบะธ ะบ ะฑัะปะธะฝะฐะผ ัะธัะพะฒะฐะป?
โ ะัะปะธะฑะธะฝ! โ ะฟัััะฝัะปะฐ ะะฝั.
โ ะัะต-ัะฐะบะธ ะฒั, ะฑะฐัะธะฝ, ะฑะตััะพะปะพัั, โ ะธะทัะตะบ ะผัะถะธะบ. โ ะะธะปะธะฑะธะฝ ะตััั ะฟะตััะพะฝะฐะถ ะบะฝะธะณะธ, ะบะพัะพััั ะฒั ะดะพะปะถะฝั ะฑัะปะธ ัะถะต ะธ ะพะดะพะปะตัั ัะพะณะปะฐัะฝะพ, ะบะฐะบ ััั ะณะพะฒะพััั, ัะบะพะปัะฝะพะน ะฟัะพะณัะฐะผะผะต. ะะธ-ะปะธ-ะฑะธะฝ. ะะต ะฑะธะปะธััะฑะธะฝ ะธ ะฝะต ะฑะฐัะฝ ยซะ ัะฑะธะฝยป. ะัะพัั ะฝะต ะฟััะฐัั.
โ ะะฐ, ะฝะพ ะบัะพ ะฒั ัะฐะบะพะน, ะธ ะพัะบัะดะฐ ะฒัะตั ะฝะฐั ะทะฝะฐะตัะต? โ ััะพ ะบ ะะธะทะต ะฒะตัะฝัะปัั ะฑะพะตะฒะพะน ะฝะฐัััะพะน.
โ ะะฐ ะบัะพ ะถ ะฒะฐั ะฝะต ะทะฝะฐะตั! ะขะพะถะต ะผะฝะต, ะฟะฐัะฐะดะพะบั ะะฐะฝะฐั ะฐ-ะขะฐััะบะพะณะพ. ะัะพััะพ ั ัะฟะตัะธะฐะปะธัั ะฟะพ ัะฐะณะฐะผ ะฒ ััะพัะพะฝั. ะะพัะพะผั ะบะฐะบ, ััะพะฑั ะฟะพะฝััั, ััะพ ะฟัะพะธัั ะพะดะธั, ะฝะฐะดะพ ัะดะตะปะฐัั ัะฐะณ ะฒ ััะพัะพะฝั. ะั ะฒะพั ะฟะตัะฝั ะฟัะพ ะผะตะฝั ะตััั. ะฃ-ั-ั!.. โ ะฒะดััะณ ะฝะตะผัะทัะบะฐะปัะฝะพ ะทะฐะฒัะป ะพะฝ, ะธ ััะพ ะฑัะปะพ ะฑั ัะผะตัะฝะพ, ะตัะปะธ ะฑ ะฝะต ะฑัะปะพ ัะฐะบ ััััะตะฐะปะธััะธัะฝะพ. โ ะฏ ัะตะดะบะพะทะตะผะตะปะตะฝ, ะบะฐะบ ะปะธ-ะธัะธะน! ะฃ-ั-ั! ะฏ ะฝะต ัะพะฟัะพัะธะฒะปัััั ั ะพะดั ัะพะฑั-ััะธะน!.. ะ ะตัะต, โ ัะพะพะฑัะธะป ะพะฝ, ะฟะพะฟัะฐะฒะปัั ะพัะบะธ, โ ั ัะฐะนะฝัะน ัะทะฑะตะบ. ะ ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพ ะดะตะปะฐัั ะฒะธะด, ััะพ ัั ะบัะพ-ัะพ ะดััะณะพ-ะพ-ะพะน… ะงัะพ, ะะ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ัะปััะฐะตั? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ ัะตะทะบะพ, ะฒัะผะฐััะธะฒะฐััั ะฒ ะฝะตะดะพัะผะตะฝะฝัะต ะปะธัะฐ. โ ะ-ะผะพะปะพะดะตะถั… ะะบะตััะบะธ. ะะฐะฒะฐะนัะต ัะฐะบ. ะั ะฒัะต ะฟัะธัะปะธ ััะดะฐ, ะถะตะปะฐั ััะพ-ัะพ ัะทะฝะฐัั. ะกะปะธัะบะพะผ ะผะฝะพะณะพ ะทะฐะณะฐะดะพะบ. ะั ะทะฐัะปะธ ะฒ ััะฟะธะบ, ะบะฐะถะดัะน ะฒ ัะฒะพะน. ะะธะทะฐ ะฒะพะฝ ะฝะฐะดะตะตััั ัะพะปัะบะพ ะฝะฐ ะฒะพะปัะตะฑะฝัะน ะฑะปะพะบะฝะพั, ะพะฑะฝัะปัััะธะน ะผะธัั… ะธ ะฒะพะทะปัะฑะปะตะฝะฝัั . ะะต ะบัะฐัะฝะตะนัะต, ะะธะทะฐ, ััะพ ะฒะฐะผ ะฝะต ะณะพะปััะพะผ ะฒ ะฟะตะฝะต ยซะะดะฐะผ ะธ ะะฒะฐยป ะฟะพ ััะถะธะผ ะบะฒะฐััะธัะฐะผ ัะบะฐะบะฐัั… ะะตัั ะฝะฐะดะตะตััั ะฝะฐ ัะฐะนะฝัะต ะทะฝะฐะบะธ ะฟะพะบะพะนะฝะพะณะพ ะพััะฐ. ะะฐ, ะฝะฐะผ ะฒะตัะฝะพ ััะดะธััั, ััะพ ะขะฐะผ ะทะฝะฐัั ะฑะพะปััะต, ัะตะผ ะะดะตัั. ะะตััะฝะพ ัะพะปัะบะพ, ะบะฐะบ ะฒั ัะผัะดัะธะปะธัั ะทะฐะฑััั ะพ ัะพะผ ะฐะปัะฑะพะผะต ั ะผะฐัะบะฐะผะธ… ะะฝะดัะตะน, ั ะฒะฐั, ะดะทะฐะฝะฝัะฝ-ะฝะธ[9], ะดัะฐะผะฐ ะปะธัะฝะพะณะพ ัะฒะพะนััะฒะฐ. ะ ะฒั ะฒ ะฝะตะน ัะฐะบ ัะฒัะทะปะธ, ััะพ ะธ ะฟัะพ ะพะบะบะฐะผะตััะพะฝ, ะฝะตะฑะพัั, ะทะฐะฟะฐะผััะพะฒะฐะปะธ? ะะฝะฝะฐ, ะฒั ัะฐะบ ะฑะพะธัะตัั, ััะพ ั ะฒะฐั ัะฐะทะดะฒะพะตะฝะธะต ะปะธัะฝะพััะธ, ััะพ ะฒััะตัะฝะธะปะธ ะญัะธะบั ะฒ ะฟะพะดัะพะทะฝะฐะฝะธะต. ะัะต ั ะฒะฐั ัะตะผะตะนะฝัะต ััะฐะฑะปั, ะผะฐัั-ะพัะตั, ะฟัััะธ-ัะฒะธัะธ, ะัะตะปะธั, ะพ ะฝะธะผัะฐ, ะบััะฐะณะฐ-ะผะฐะผะฐะปัะณะฐ… ะะปะฐะด ะฟะพะด ะดัะฑะพะผ. ะะพะดะทะตะผะฝัะต ััััะพะฒัั. ะะพะปะธัะธั โ ะบะฐััะพัะตะปัะฝะพะต ะฟััะต. ะะทััะฒ ะฒะพะดะพะบะฐัะบะธ. ะะตััั ัะตะบัะฐะฝัะพะฒ ะทะฐ ะขัะพัะธะผะฐ, ะฟัะพััะธ ะณะพัะฟะพะดะธ, ะัะฐะบะปะธะพะฝัะบะพะณะพ. ะ ะตะฑััะฐ, ะฒั ะฒะพั ะฟัะฐะฒะดะฐ ะดัะผะฐะตัะต, ััะพ ั ะฒะฐะผ ัะตะนัะฐั ะฒะพะทัะผั ะธ ะฒัั ััะพ ะฟะพะฟัะปััะฝะพ ะพะฑัััะฝั?
ะัะต ะผะพะปัะฐะปะธ, ะฟะพัะพะผั ััะพ ัะฐะบ ะธ ะดัะผะฐะปะธ. ะะตัะฒะพะน ะฒัััะตะฟะตะฝัะปะฐัั ะะธะทะฐ:
โ ะ ะฑัะตะด ะฟัะพ ะณัะผะฐะฝะพะธะดะพะฒ… ะญัะพ ะฒั ัะฐะบ ัััะธัะต? ะฏะบะพะฑั ะผะตะฝั ะฒัะทะฒะฐะปะธ ะฒ ะบะพัะผะธัะตัะบะธะน ััะด ะพะฑะฒะธะฝััั ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะพ…
โ ะะพะผั ะฝะต ั ะพัะตััั ะพะฑะฒะธะฝะธัั ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒะพ? โ ะฟะพะผะพััะธะปัั ะะธะปะธะฑะธะฝ. โ ะัะพ ะดะฐัั ะณะฐัะฐะฝัะธั, ััะพ ะฟัะฐะฒะดั ะฝะตั ะธ ะฒััะต?
โ ะ ะฝะฐััะตั ะพััะฐ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. ะะธะปะธะฑะธะฝ ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ. โ ะะพัะฟะพะดะธะฝ ะะธะปะธะฑะธะฝ, ะฒั… ะดััะฐะบ. ะ ัััะบะธ ั ะฒะฐั ะดััะฐัะบะธะต.
โ ะะฐัะบะธ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั. โ ะะฐัะตะผ ะฒะฐะผ ะผะฐัะบะธ? โ ะะฝะฐ ัะฒััะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะฟะฐััั ะฝะตััะฐััะฝัะน ะฐะปัะฑะพะผ.
โ ะขะฐะผ ะทะฐัะธััะพะฒะฐะฝะฝะพะต ะฟะพัะปะฐะฝะธะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะธะปะธะฑะธะฝ. โ ะะฐัะฐ ะผะฐะผะฐะฝ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะฐัะปะฐ ััะพ ะบัะฐััั… ะั, ะะตัั, ัะธัะบะฝะตัะต? ะ ัะพ ั ั ะฒะฐั ัะถะต ะธ ะดััะฐะบ…
ะะตัั ะพัะบััะป ะฐะปัะฑะพะผ. ะะพะฑะตัะผะฐะฝ ะธ ะฑะฐะฑะพัะบะฐ Earias clorana ะฝะฐ ะผะตััะต, ะฟะตัะฒัะต ะฑัะบะฒั ัะปะพะฒ ะธัะฟัะฐะฒะฝะพ ัะบะปะฐะดัะฒะฐัััั ะฒ DEAR FRIEND. ะ ัะปะตะดัััะตะผ ััะดั: ะบัะฐัะฝะฐั ะผะฐัะบะฐ ยซFederation of South Arabiaยป, ะณะฐัะตะฝะฝะฐั ัะพะฒะตััะบะฐั ยซะัะดะฐััะธะนัั ััััะบะธะน ะฟะธัะฐัะตะปั ะ.ะ. ะฃะกะะะะกะะะยป, ะฐะผะตัะธะบะฐะฝัะบะธะน ััะธะฝะฐะดัะฐัะธัะตะฝัะพะฒะธะบ ยซCOLORADOยป, ะณะพะปัะฑะพะน ะบะพัะฐะฑะปะธะบ ะฟะตัะตะด ะผะฐัะบะพะผ ะฟะพะด ัะปะพะฒะพะผ ยซKuwaitยป, ะผะตะบัะธะบะฐะฝัะบะฐั ะผะฐัะบะฐ ั ะฝะตะฟัะธััะฝัะผ ะผัะถัะธะฝะพะน ะฟะพ ะธะผะตะฝะธ ะะบะฐะผะฟะพ, ัะพะฒะตััะบะฐั ั ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะคััะธะบะพะผ…
โ ะญั… ะฃ, ัะพ ะตััั ั… ะกะธ… ะะตะน… โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั ะธ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ะทะฐะผะพะปัะฐะป. ะัะดัะพ ะฝะฐะดะตััั ะฝะฐ ััะพ-ัะพ, ะฟัะพะดะพะปะถะธะป: โ ะั… ะญั… ะญั…
ะัะต ะฒะทะดะพั ะฝัะปะธ.
โ And ะฝะฐัะธะฝะฐะฝัั of great pitch and moment, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะธะปะธะฑะธะฝ ัะพัะถะตััะฒะตะฝะพ, โ with this regard ัะฒะพัะฐัะธะฒะฐัั ั ะพะด and lose the name of action…[10] ะกะพััะฒััะฒัั.
โ ะะพ ะทะฐัะตะผ ะพััั…
โ ะงะตะณะพ ััะฐะทั ยซะพัััยป? ะะต ะฒะพะทะฒะพะดะธัะต ะฝะฐ ะฟะพะบะพะนะฝะพะณะพ ะฝะฐะฟัะฐัะปะธะฝั.
โ ะะพ ัะพะณะดะฐ ะบัะพ?.. โ ะะตัั ะฑัะป ะฒ ะพััะฐัะฝะธะธ. ะะธะปะธะฑะธะฝ ัะฐะทะฒะตะป ััะบะฐะผะธ:
โ ะะฒะธะฝัะนัะต, ะฑะฐัะธะฝ. ะงะตะณะพ ะฝะต ะฒะตะผ, ัะพะณะพ ะฝะต ะฒะตะผ. ะฏ ะฒะตะดั ะฝะต ัะฐะผ, ั ัะพะบะผะพ ะฟะพ ะฝะฐััะตะฝะธั…
โ ะฅะฒะฐัะธั!
ะญัะพ ะฑัะป ะะฝะดัะตะน. ะะตะฒะทะธัะฐั ะฝะฐ ัะผะตัะฝะพะน ะฑะพะปัะฝะธัะฝัะน ะฒะธะด, ะพะฝ ะฑัะป ะฝะต ัะผะตัะพะฝ: ัะฐัะฟัะฐะฒะปะตะฝะฝัะต ะฟะปะตัะธ, ะฟะฐั ะธะท ะฝะพะทะดัะตะน, ะณะธะฟะตัะฑะพะปะพะธะด ะฒะทะณะปัะดะฐ ัะฒะตัะปะธั ะฝะตะฟัะธัััะฟะฝัะต ะบัะตะฟะพััะธ ะะธะปะธะฑะธะฝัะบะธั ะพัะบะพะฒ…
โ ะฅะฒะฐัะธั โ ัะฐะบ ั ะฒะฐัะธั, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะะธะปะธะฑะธะฝ. โ ะกะปััะฐะนัะต, ะดะตัะธ, ะธ ะทะฐะฟะพะผะธะฝะฐะนัะต. ะั ะฟัะธัะปะธ ััะดะฐ ะฒ ะฝะฐะดะตะถะดะต ะฝะฐ ะพัะฒะตัั. ะ ะฐะทะดะตะปัั ัะฐัะฝะธั, ะฒัะฝัะถะดะตะฝ ะพะณะพััะธัั. ะะต ัะพ ััะพะฑั ั ะฝะต ะทะฝะฐะป ะพัะฒะตัะพะฒ. ะะตะบะพัะพััั , โ ะฟะพะดัะตัะบะฝัะป ะพะฝ, โ ะพัะฒะตัะพะฒ. ะะพ ะฒะฐะผ ะพะฝะธ ะฝะธ ะบ ัะตะผั. ะฅัะถะต ัะพะณะพ: timeo Danaos et dona ferentes[11]. ะะฐะผ ะดะพะฒะตะปะพัั ะฝะฐะฑัะตััะธ ะฝะฐ ะดััะบั ะฒ ะดะตะบะพัะฐัะธะธ, ะฒั ะฒ ะฝะตะต ะทะฐะณะปัะฝัะปะธ, ัะฒะธะดะตะปะธ ะทะฐ ะบัะปะธัะฐะผะธ ะฝะตััะพ. ะขะพะปัะบะพ ะฟะพ ััั ััะพัะพะฝั ะฝะธะบัะพ ะฝะต ััะธัะฐะตั ัะตะฑั ะฐะบัะตัะพะผ, ะฒัะต ัะฒะตัะตะฝั, ััะพ ะถะธะฒัั ะฒะทะฐะฟัะฐะฒะดั โ ะถะธะฒัั, ะฝะต ะธะณัะฐัั. ะะฐะบะพะฒะฐ ัะตะฝะฐ ะธั ะพะฑัััะฝะตะฝะธัะผ? ะ ะตัะปะธ ะบัะพ-ัะพ ัะบะฐะถะตั: ยซะฏ ะฒัั ะพะฑัััะฝัยป, โ ะทะฐัะธัะฐะนัะตัั ะพั ัะธัะตะฝ ะฑะตัััะฐะผะธ…
โ ะ ะพัะบะฐะผะธ โ ะพั ะผะธะณะฐะปะพะบ, — ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ, ะฟะพัะปะต ยซั ะฒะฐัะธัยป ะะฝะดัะตั ะพัะผะตะปะตะฒัะฐั ะฒะบะพะฝะตั.
โ ะกะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฒะตัะฝะพ, โ ะะธะปะธะฑะธะฝ ะบะธะฒะฝัะป. โ ะะฝะฐัะต ัะธัะบัะตัะต ะทะฐะฟะปััะฐัั ะฒ ะปะฐะฑะธัะธะฝัะฐั ะปะพะถะฝัั ะฑะธะฝะฐัะฝะพััะตะน. ะะพะฑัะพ ะธ ะะปะพ ะบะฐะบ ะฐะฑัะพะปััะฝัะต, ััะดั ะธั ะฒ ะบะฐัะตะปั, ะบะฐัะตะณะพัะธะธ. ะะพัะฝะพะน-ะะฝะตะฒะฝะพะน ะะพะทะพั. ะกะตะบัะฐะฝัั ะฟัะพัะธะฒ ัะตัะฝัั ะฐัั ะตะพะปะพะณะพะฒ. ะะพะฝัะบะธ ะธ ะะพัะฑัะฝะบะธ. ะัััะธ ะธ ัะฒะธัะธ. ะัะพัะธะฒะพะฟะพะปะพะถะฝะพััั ะตะดะธะฝััะฒ, ะตะดะธะฝััะฒะพ ะฟัะพัะธะฒะพะฟะพะปะพะถะฝะพััะตะน! ะะฐ, ะผะธั โ ัะปะพะถะฝะฐั ัััะบะฐ, ะฒ ะฝะตะผ ะฟะพะปะฝะพ ะฒัะตะณะพ, ะธ ััะพ ะฒัั ะบะฐะบ-ัะพ ัะพะพัะฝะพัะธััั. ะกะบะฐะถะตะผ, ะัะธะฟ ะะปะตะบัะตะตะฒะธั ะะฐะทะดะตะตะฒ ัะฒะตัะตะฝ, ััะพ ะดะตะปะพ ะฒ ัะพะทะฝะฐัะตะปัะฝัั ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธัั . ะัะปะธ ะทะฐะดัะผะฐัััั, ััะพ ะตััะฝะดะฐ: ัะฐะบะธะต ัะตะธะฝะบะฐัะฝะฐัะธะธ โ ัะดะตะป ะธัะบะปััะธัะตะปัะฝะพ ะฒัััะธั ะฑะพะดั ะธัะฐััะฒ. ะะพ ั ะพะด ะผััะปะธ-ัะพ ะฒะตัะฝัะน! ะัะต ะพะดะฝะพะณะพ ะฟะตััะพะฝะฐะถะฐ ัะฑะตะดะธะปะธ: ะฒะพ ะฒัะตะผ-ะดะต ะฒะธะฝะพะฒะฐัะฐ ะะพะปะฝะฐ. ะ ััั ะตััั ะดะพะปั ะธััะธะฝั, ะฝะพ ะดััะณะพะน. ะ ะฒะฐัะตะผ, ะะฝะดัะตะน, ะพะบะบะฐะผะตััะพะฝะต ัะพะฝ ะะฐัะปัะพะฝะฐ ะธ ะฝะต ะณะพะฒะพัั. ะ ัะถ ะผะฝะพะณะพะณะปะฐะทัะน ัะปะตะน ะถะธะทะฝะธ, ะะพะดะทะธะปะปะฐ, ะดัะฐะบะพะฝ ะฝะฐ ััะตะฝะบะต, ะบะฐะถััะธะตัั ะผะตััะฒะตัั, ะดััะฝัะต ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพััะธ…
โ ะกัะฐัััะบะธ ะฒ ะบัะพััะพะฒะบะฐั , โ ะฟะพะดัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั.
โ ะญัะพ ะบะพะต-ะบัะพ ัะฒะปะตะบัั ัะตัะธะฐะปะพะผ ยซFalling Waterยป, โ ัััะฐะฝะฝะพ ะพะฑัััะฝะธะป ะะธะปะธะฑะธะฝ. โ ะฅะพัะพัะพ, ััะพ ะฝะต ยซะฃัะพะฟะธะตะนยป. ะะฐะบ ะฒ ะฐะฝะตะบะดะพัะต: ัะบะฐะถะธ ัะฟะฐัะธะฑะพ, ััะฝะพะบ, ััะพ ัั ะฝะต ะฟะพั ะพะถ ะฝะฐ ะะธะบะบะธ ะะฐััะฐ! ะััะฐัะธ ะพ ัะตัะธะฐะปะฐั : ะบัะพ ัะผะพััะตะป ยซะะฒะฐะฝะณะตะปะธะพะฝยป?
ะะฝะดัะตะน ะธ ะะธะทะฐ ะฟะพะดะฝัะปะธ ััะบะธ ะธ ะพะฑะผะตะฝัะปะธัั ัะพะฑะบะธะผะธ ะฒะทะณะปัะดะฐะผะธ. ยซะะฒะฐะฝะณะตะปะธะพะฝยป ะพะฝะธ ัะผะพััะตะปะธ, ะฟะพะฝััะฝะพ, ะฒะผะตััะต. ะะธะทะต ัััะฐัะฝะพ ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ะะฝะดัะตั โ ะฝะฐะพะฑะพัะพั.
โ ะญัะพ ัะฐะบะพะต ะฐะฝะธะผะต, โ ะฟะพััะฝะธะป ะะธะปะธะฑะธะฝ ะดะปั ะะตัะธ ะธ ะะฝะธ. โ ะ ะฝะตะผ ะผะฝะพะณะพ ัะตะณะพ ะฟัะพะธัั ะพะดะธั, ะฝะพ ะฒััะบะธะน ัะฐะท ะพะดะธะฝ ัะฐะนะฝัะน ััะพะฒะตะฝั ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั ะฟัะธะดะฐัะบะพะผ ัะปะตะดัััะตะณะพ. ะ ะฝะฐ ะฒะตัั ััะบะต ะฟะธัะฐะผะธะดั ัะธะดะธั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะดะปั ะบะพัะพัะพะณะพ ะฟะตัะตัะพะถะดะตะฝะธะต ะฒัะตะปะตะฝะฝะพะน โ ะปะธัั ะฟะพะฑะพัะฝัะน ัััะตะบั ะพั ะฒะพัะบัะตัะตะฝะธั ะถะตะฝั. ะ ัะฐะบะพะผ ะฒะพั ะฐะบัะตะฟัะต. ะฏ ััะพ ั ะพัั ัะบะฐะทะฐัั. ะะฐ ะฒะฐัะธ ะฒะพะฟัะพัั ะฝะตั ะพะดะฝะพะณะพ ะพัะฒะตัะฐ โ ะผั ะฝะต ะฒ ยซะงะะยป ะธะณัะฐะตะผ. ะัะฒะตัะพะฒ ะผะฝะพะณะพ. ะกะผะพััั ะบะฐะบะพะน ะฟะปะฐัั ัะตะฐะปัะฝะพััะธ ะฑัะฐัั, ะฐ ะพะฝะธ ะฒ ะดะธะฝะฐะผะธะบะต. ะ ะฒะทะฐะธะผะพะดะตะนััะฒััั… ะัะฐั ะฑัะป ะฟัะฐะฒ, ั ะพัั ะธ ะะตะฒ. ะฃะฑะตะถะดะฐััั ะฒ ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพะน ะฝะตะดะพัััะฟะฝะพััะธ ะฟัะธัะธะฝ, ะผั ะฒะผะตััะพ ะฝะธั ะธัะตะผ ะทะฐะบะพะฝั. ะะพะฝะธะผะฐะตัะต? ะัะธัะธะฝั ะฝะตะฟะพััะธะถะธะผั. ะะปั ะธั ะฟะพััะธะณะฝะพะฒะตะฝะธั ะฝะฐะดะพ ะฑััั ะะพะณะพะผ. ะั โ ะฝะต ะพะฝ. ะะต ััะพะธั ะธ ะปัะฑะพะฟััััะฒะพะฒะฐัั…
โ ะงัะพ ััะพ ะทะฐ ะทะฐะบะพะฝั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน ั ะธะฝัะพะฝะฐัะธะตะน ะทะปะพะณะพ ัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปั.
โ ะะฝะธ ะฟัะพััั. ะกะบะพะปัะบะพ ะฑั ััะพะฒะฝะตะน ะธ ะทะฐะณะพะฒะพัะพะฒ ะผั ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน ะฝะธ ะฒะธะดะตะปะธ, ะฒ ะผะธัะต ะตััั ะดะฒะต ัะธะปั. ะกะธะปะฐ ะั ะธ ัะธะปะฐ ะขั. ะ ั ะฝะต ะฟัะพ ะธะฝั-ัะฝั-ั ัะตะฝั โ ะทะฐะฑัะดััะต ะปะพะถะฝัะต ะดะธั ะพัะพะผะธะธ. ะกะธะปั ะฒัะตะณะพ ะดะฒะต. ะะดะฝะฐ โ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะตั ััะฐัั ัะฒะตัั ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ. ะััะณะฐั, ะฝะฐะพะฑะพัะพั, ััะตะฑัะตั ะพััะฐัััั ะปัะดัะผะธ. ะ ะปัะฑะพะน ะฝะฐั ะฒัะฑะพั ะฒัะตะณะดะฐ ัะฒะพะดะธััั ะบ ะฒัะฑะพัั ะผะตะถะดั ัะธะปะพะน ะขั ะธ ัะธะปะพะน ะั…
โ ะั โ ะบะฐะบ ะะฐะพ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั.
โ ะัะธััะฝะพ ะธะผะตัั ะดะตะปะพ ั ัะผะฝัะผะธ ะปัะดัะผะธ! ะ ะขั ะบะฐะบ ะขะฐะพ, โ ะะธะปะธะฑะธะฝ ัั ะผัะปัะฝัะปัั. โ ะะต ะทะฐัะธะบะปะธะฒะฐะนัะตัั ะฝะฐ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธัั . ะงะตะปะพะฒะตะบะธ ะธ ัะฒะตัั ัะตะปะพะฒะตะบะธ โ ะฒะพั ะณะปะฐะฒะฝะพะต! ะะดะฝะฐ ัะธะปะฐ ะดะตะปะฐะตั ัะตะฑั ะดะตะผะธััะณะพะผ. ะัะพัะฐั โ ัะฒะตัะดะธั: ัั ะฝะต ะปัััะต ะดััะณะธั . ะกัะฐัั ะธะปะธ ะพััะฐัััั, that is the question![12]
โ ะั ัะฐะผะธ-ัะพ ะฒัะฑัะฐะปะธ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ ัะฐัะบะฐััะธัะตัะบะธ, ะฒ ัะพะฝ ะะธะปะธะฑะธะฝั. ะขะพั ััะตะฟะธะป ะฟะฐะปััั ะธ ะฟะพะปะพะถะธะป ะฝะฐ ะฝะธั ะฟะพะดะฑะพัะพะดะพะบ.
โ ะฏ ัะฐะผ-ัะพ ะฒัะฑัะฐะป. ะะพ ััะพ ะธะผะตะฝะฝะพ โ ะฝะต ัะบะฐะถั, ั ะพัั ะดะพะณะฐะดะฐัััั ะปะตะณะบะพ. ะะตะดะฐ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะผะพะน ะฒัะฑะพั ะฝะต ะดะฐะตั ะผะฝะต ะฟัะฐะฒะฐ ัะฐะทะณะปะฐัะฐัั… ะผะพะน ะฒัะฑะพั. ะะฐะถะต ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝั ะฝะฐะบะปะฐะดัะฒะฐะตั ะพะณัะฐะฝะธัะตะฝะธั ะฝะฐ ะฝะฐะฑะปัะดะฐัะตะปั…
โ ะขะฐะบ ะผั ะฒัะต ั ะฒะฐั ะผะพััะบะธะต ัะฒะธะฝะบะธ, โ ะตะดะบะพ ะทะฐะผะตัะธะปะฐ ะะฝั. ะ ะะฝะดัะตะน ัะฟัะพัะธะป:
โ ะงัะพ ะทะฐ ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝั?
โ ะ ัะพะผ ะธ ะดะตะปะพ, โ ะพัะฒะตัะธะป ะะธะปะธะฑะธะฝ ะบะฐะบ-ัะพ ะดะฐะถะต ะณััััะฝะพ, โ ััะพ ััะพ ะฒัั ะฝะต ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝั. ะ ะฝะธะบัะพ ะฝะต ะฝะฐะฑะปัะดะฐัะตะปั. ะ ัะตะผ ะฝะต ะผะตะฝะตะต…
โ ะั ัะฐะผะธ ัะตะฑะต ะฟัะพัะธะฒะพัะตัะธัะต, โ ะฑัะพัะธะปะฐ ะะธะทะฐ.
โ ะฏ, ะบะฐะบ ะะปะฐัะพะฝ ะะฐัะฐัะฐะตะฒ, ะดะฐ. ะะตะฟัะพัะธะฒะพัะตัะธะฒั ัััะพะนะฝัะต ัะตะพัะธะธ. ะะพ ะพะฝะธ ะฝะธัะตะณะพัะตะฝัะบะธ ะฝะต ะพะฑัััะฝััั… Revenons ร nos moutons[13]. ะั ัะตัะฒะตัะพ โ ะธ ะดััะณะธะต ัะตะฑััะฐ ะธะท ะฒะฐัะตะณะพ ะบะปะฐััะฐ โ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพะฟะฐะปะธ ะฟะพะด ะะพะปะฝั ั ะฑะพะปััะพะน ะฑัะบะฒั ยซะฒัยป. ะะพ ะะพะปะฝะฐ, ะบะฐะบ ัะพะฒั, ะฝะต ัะพ, ัะตะผ ะบะฐะถะตััั. ะะพะปะฝะฐ ััะฐะฒะธั ะฒะฐั ะฟะตัะตะด ะฒัะฑะพัะพะผ. ะะฐะถะดัะน ะธะท ะฒะฐั ัะดะตะปะฐะตั ะฒัะฑะพั, ะพั ะบะพัะพัะพะณะพ, ัะฐะบ ะฟะพะปััะฐะตััั, ะทะฐะฒะธัะธั ะพัะตะฝั ะผะฝะพะณะพะต. ะะพัะตะผั โ ะฝะต ัะฟัะฐัะธะฒะฐะนัะต. ะงัะพ ะธ ะบะพะณะดะฐ โ ัะพะถะต ะปัััะต ะฝะต. ะ ะฒั ะฝะต ะพะดะฝะธ ัะฐะบะธะต โ ัะตัั, ะบะฐะบ ัะบะฐะทะฐะป ะฑั ะณัะฐั, ะพ ัะฐะฒะฝะพะดะตะนััะฒัััะตะน ะผะธะปะปะธะฐัะดะพะฒ ะฒะพะปั, โ ะฝะพ ะฒั ะฒ ัะธะปั ะพะฑััะพััะตะปัััะฒ ะธ ัะฒะพะตะน ะฟัะธัะพะดั ะฒะพะปัะฝั ะฒัะฑัะฐัั ะฑะพะปััะตะต.
โ ะญัะพ ะฒั ะฝะฐะผ ัะตะนัะฐั ะฟะพะฒะตััั ะกัััะณะฐัะบะธั ะฟะตัะตัะบะฐะทัะฒะฐะตัะต, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. โ ยซะะฐ ะผะธะปะปะธะฐัะด ะปะตั ะดะพ ะบะพะฝัะฐ ัะฒะตัะฐยป, ะดะฐ? ะ ะพั ะฒัะฑะพัะฐ ะพะดะฝะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, โ ะพะฝะฐ ะผะตัะฝัะปะฐ ะฝะตะฝะฐะฒะธะดััะธะน ะฒะทะณะปัะด ะฒ ะะฝะดัะตั, โ ะฝะธ ัะธะณะฐ ะฝะต ะทะฐะฒะธัะธั. ะะธ โ ัะธ โ ะณะฐ.
ะะธะปะธะฑะธะฝ ะบะธะฒะฝัะป.
โ ะะดะฝะพะผั ััะฝั ะฟะปะพัะฝะธะบะฐ ัะพะถะต ััะพ ะณะพะฒะพัะธะปะธ. ะะฝ ะฒ ะดะตัััะฒะต, ะทะฝะฐะตัะต, ะปัะฑะธะป ะทะฒะตัะตะน. ะััะณะธะต ะดะตัะธ ะธั ะผััะฐะปะธ, ะฐ ะพะฝ โ ะฝะตั. ะะพ ะธ ะดะตัะตะน, ะบะพัะพััะต ะผััะฐะปะธ ะถะธะฒะพัะฝัั , ะพะฝ ะปัะฑะธะป ัะพะถะต. ะะพะฝัะธะปะพัั ะธะทะฒะตััะฝะพ ัะตะผ. ะขะพัะฝะตะต, ะฝะต ะบะพะฝัะธะปะพัั. ะ ะกัััะณะฐัะบะธั ั ะปัะฑะปั, ะดะฐ. ะัะตะฝั.
ะะธะทะฐ ะฟัะธัะธั ะปะฐ. ะะตัั, ะฑัะดัะพ ะฟัะพัะฝัะฒัะธัั, ัะฟัะพัะธะป:
โ ะงัะพ ัะฐะบะพะต ะะพะปะฝะฐ?
ะะธะปะธะฑะธะฝ ะพัะบััะป ัะพั, ะฟะพะดะตัะถะฐะป ะตะณะพ ะพัะบััััะผ, ะบะฐะบ ะฑั ะฒ ะฝะตัะตัะธัะตะปัะฝะพััะธ, ะธ ะธะทัะตะบ:
โ ะะพะปะฝะฐ โ ััะพ ะธััะพัะธั.
โ ะััะพัะธั ัะตะณะพ?
โ ะัะตะณะพ. ะััะพัะธั ะฒัะตั ะธััะพัะธะน. ะะฝะฐ ะฟัะธั ะพะดะธั, ะบะพะณะดะฐ ะฒั ะตะต ะฝะต ะถะดะตัะต, ะธ ะทะฐั ะปะตัััะฒะฐะตั ะฒะฐั ั ะณะพะปะพะฒะพะน, ะบะฐะบ ะฒะพะปะฝะฐ ะฅะพะบััะฐั โ ะปะพะดะบั ะฒะพ ัะฝะต ะถะตะฝั ััะฑะฐะบะฐ… ะะฐะดะฝะพ, ะฟะพัะฐ ะธ ัะตััั ะทะฝะฐัั. ะงัะพ ะผะพะณ โ ัะดะตะปะฐะป, ะดะฐะปััะต ัะฐะผะธ. ะะฐะบ ัะบะฐะทะฐะฝะพ ั ะบะปะฐััะธะบะฐ: ะตัะปะธ ั ะฝะตะผะฝะพะถะบะพ ะธ ะฟะพะบััะฐะถะธะปัั ะฝะฐะด ะฒะฐะผะธ, ะผะพะณั ััะตัะธัั โ ััะตะดะธ ะฒััะบะพะณะพ ะฒัะฐะฝัั ั ะฝะตัะฐัะฝะฝะพ ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะปัั, ะดะฒะฐ-ััะธ ัะปะพะฒะฐ, ะฝะพ ะฒ ะฝะธั ะฟัะพะผะตะปัะบะฝัะป ะบัะฐะตัะตะบ ะธััะธะฝั. ะะฐ ะฒั ะฟะพ ััะฐัััั ะฝะต ะพะฑัะฐัะธะปะธ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั. ะ ัะปะพะฒั, ะะฝะฝะฐ, ะฒั ะฟะพะผะฝะธัะต, ะบะฐะบะพะน ะดะฒะพััะฝะธะฝ, ะฒะพั ัะพะฒัะตะผ ะบะฐะบ ะฒั, ะปะตัะธะปัั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะปะตั ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ? ะฃ ะฝะตะณะพ ะฑัะป ะตัะต ะบะฐะปะปะธะณัะฐัะธัะตัะบะธะน ะฟะพัะตัะบ, ะฟะพั ะพะถะธะน ะฝะฐ ะฒะฐั, ะะธะทะฐ. ะะต ะฟะพะผะฝะธัะต? ะ-ะผะพะปะพะดะตะถั… ะกะฐัะฝะฐัะฐ![14]
ะะฝ ะฒััะฐะป ะธ ัะดะตะปะฐะป ัะฐะณ ะบ ะดะฒะตัะธ.
โ ะกัะพะนัะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. ะ ะตะณะพ ะณะพะปะพะฒะต ะฟัะพะธัั ะพะดะธะปะพ ะบะฐะบะพะต-ัะพ ะบััะณะพะฒะพะต ะดะฒะธะถะตะฝะธะต, ะฑัะดัะพ ัะฐะผ ะฟะพัะตะปะธะปะฐัั ะฒะพัะพะฝะบะฐ ะธะท ัะฝะฐ, ัะต ะดะฒะฐ ััะฐัะธะบะฐ, ะดะตัะถะฐะฒัะธะต ะดััะณ ะดััะถะบั ะทะฐ ะฑะพัะพะดั. โ ะั… ะั ัะบะฐะทะฐะปะธ… ะั ะถะต ะดะตะผะธััะณ? ะะฐ?
โ ะฏ-ัะพ? ะฏ ะดะตะผะฐะณะพะณ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะธะปะธะฑะธะฝ, ะพััะฐะฝะพะฒะธะฒัะธัั. โ ะะธัะฐัะตะปั ัะพ ะตััั. ะะฐะฑัะป, ะฟัะพััะธัะต… ะกะบัะตะทะพะป!
ะ ะพะฝ ะฟะพะปะพะถะธะป ะฝะฐ ะฟะฐััั ะฒะธะทะธัะฝัั ะบะฐััะพัะบั:
ะะธะปะธะฑะธะฝ ะ. ะ.
ะัะผัะฟะธัะพัะฟะตัะพะปะพะณ
PPS
โ ะงัะพ ัะฐะบะพะต ยซะฟั-ะฟั-ััยป? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั.
- โ ะะพััะฟะพัััะบัะธะฟััะผ, โ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะะธะปะธะฑะธะฝ. โ ะะปะธ ะฟัะฐะดะถะฝัะฟะฐัะฐะผะธัะฐ-ััััะฐ. It depends.[15]
โ ะ ะั-ะ?
โ ะะธะบัะพั ะะปะตะณะพะฒะธั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะธะปะธะฑะธะฝ. ะะตัะฝัะปะพัั ะฟะปะฐะผั. ะขะตะฝะธ ะทะฐะฟะปััะฐะปะธ ะฝะฐ ััะตะฝะฐั ะบะฐะฑะธะฝะตัะฐ, ะฐ ะบะพะณะดะฐ ะฟะพััะดะพะบ ะฒะตัะตะน ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะธะปัั, ะดะฒะตัั ะทะฐ ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝัะผ ะฝะตะทะฝะฐะบะพะผัะตะผ ะทะฐะบััะปะฐัั.
โ ะกะฒะตัั ัะตะปะพะฒะตะบะธ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั. โ ะกะธะปะฐ ะั ะธ ัะธะปะฐ ะขั. ะะตะฝั ะธ ะขะตะฝั. ะฅัะตะฝั. ะขะพัะฝะพ ั ัะตะฝั.
ะะฝะดัะตะน ะฟะพะดะฝัะป ะณะปะฐะทะฐ ะฝะฐ ะฟะพัััะตัั ะฝะฐ ััะตะฝะต. ะงัะพ-ัะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ัะฐะบ. ะะพ ััะพ? ะะฐะถะตััั, ััะธ ะดะฒะพะต ัะฐะฝััะต ะฒะธัะตะปะธ ะฝะฐะพะฑะพัะพั: ะขะพะปััะพะน ัะปะตะฒะฐ, ะะพััะพะตะฒัะบะธะน ัะฟัะฐะฒะฐ. ะกะธะปะฐ ะั ะธ ัะธะปะฐ ะขั…
ะะพะดัะผะฐัั ะผััะปั ะพะฝ ะฝะต ััะฟะตะป: ะดะฒะตัั ะธะทะดะฐะปะฐ ัััะพะฑะฝัะน ะทะฒัะบ ะธ ะพััะฟะฐะปะฐัั, ะฑัะดัะพ ะฑัะปะฐ ัะดะตะปะฐะฝะฐ ะธะท ะฟะตัะบะฐ. ะกะฒะตัะฐ ะฟะพะณะฐัะปะฐ. ะงัะพ-ัะพ ะฝะฐัััะฟะฐะปะพ ะธะท ัะตะผะฝะพัั. ะะปะธ ะบัะพ-ัะพ?
[1] ะะฝัะทั ะะฝะดัะตะน! ะัะฝะธัั! ะัะฝะธัั, ะะตะพ! (ะฐะฝะณะป.)
[2] ะะดะฝั ัะตะบัะฝะดั, ั ะฟะพะทะฒะพะฝั ัะฒะพะตะผั ะฒะตัะฝะพะผั ัะพะฒะฐัะธัั (ะฐะฝะณะป.)
[3] ะั-ะบะฐ ะฟะพะดะฟััะณะฝะธ, ะฟะตัะตะฝะบั ัะฟะพะน, ัะผะตััั ัะบะพัะพ ะฟัะธะดะตั ะทะฐ ัะพะฑะพะน ะธ ะผะฝะพะน (ะฐะฝะณะป.)
[4] ะัะดั ะฒะพะฒัะตะผั. ะ ะฒะพะทัะผะธ ัะต ัะฐะผัะต ะผะฐัะบะธ ั ัะพะฑะพะน (ะฐะฝะณะป.)
[5] ะะฐะบะพะณะพ ัะตััะฐ? (ะฐะฝะณะป.)
[6] ะะฟะฐัะฝัะต ัะฒัะทะธ (ัั.)
[7] ะัะธัะผ! (ัะฟ.)
[8] ะะพะถะฐะปัะนััะฐ (ัะฟ.)
[9] ะ ัะพะถะฐะปะตะฝะธั (ัะฟ.)
[10] ะ ะฝะฐัะธะฝะฐะฝัั, ะฒะทะฝะตััะธะตัั ะผะพัะฝะพ, ัะฒะพัะฐัะธะฒะฐั ะฒ ััะพัะพะฝั ัะฒะพะน ั ะพะด, ัะตัััั ะธะผั ะดะตะนััะฒะธั… (ะฐะฝะณะป.)
[11] ะะพะนัั ะดะฐะฝะฐะนัะตะฒ, ะดะฐัั ะฟัะธะฝะพัััะธั (ะปะฐั.)
[12] ะะพั ะฒ ัะตะผ ะฒะพะฟัะพั! (ะฐะฝะณะป.)
[13] ะะตัะฝะตะผัั ะบ ะฝะฐัะธะผ ะฑะฐัะฐะฝะฐะผ (ัั.)
[14] ะัะพัะฐะนัะต! (ัะฟ.)
[15] ะะฐะฒะธัะธั (ะฐะฝะณะป.)
ะะปะฐะฒะฐ 24. ะญะะะะะ

โ Eh bien, mes princes, โ ัะฐะบ ะฝะฐัะฐะป ะทะฐัะตะดะฐะฝะธะต ัะฒะพะตะณะพ ะปะธัะตัะฐัััะฝะพะณะพ ะบััะถะบะฐ ะะปะตะบัะตะน ะัะฒะพะฒะธั ะกะพะฑะพะปะตะฒ, ะดะปั ััะฐัะธั
ัั ะฟัะพััะพ ะัะฒะพะฒะธั, ะฟัะธั
ะปะพะฟะฝัะฒ ัะฒะตัั
ั ัะพะปัััั ะฟะฐะฟะบั ั ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะผ ัะพะผะฐะฝะพะผ ะดะตัััะธะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ. โ ะฃ ะผะตะฝั ะตััั ะดะปั ะฒะฐั ััะธ ะธะทะฒะตััะธั: ะฟัะตะบัะฐัะฝะพะต, ะธะทัะผะธัะตะปัะฝะพะต ะธ ะฒะพัั
ะธัะธัะตะปัะฝะพะต; ั ะบะพัะพัะพะณะพ ะฝะฐัะธะฝะฐัั?
โ ะก ะฒะพัั
ะธัะธัะตะปัะฝะพะณะพ! โ ะบัะธะบะฝัะปะฐ ะะฝะตัะบะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะฒ ััะตะผ ะฟัะตะปะตััะฝะพะผ ะปะธัะธะบะต ะพะฟััะฝะพััั ะฑะพัะพะปะฐัั ั ะฝะตะฒะธะฝะฝะพัััั ะธ, ะฟะพะถะฐะปัะน, ัะถะต ะฟะพะฑะตะถะดะฐะปะฐ.
โ ะะพัั
ะธัะธัะตะปัะฝะพะต, mes amis, ะทะฐะบะปััะฐะตััั ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะฒะฐั ัะพะผะฐะฝ ะฟัะพัะธัะฐะปะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ ั ัะตะผ ัะดะตัะถะฐะฝะฝะพ ะตั
ะธะดะฝัะผ ะฒััะฐะถะตะฝะธะตะผ, ั ะบะฐะบะธะผ ะพะฑััะฝะพ ั
ะฒะฐะปะธะป; ะพะฝ ัะผะตะป ัะดะตะปะฐัั ัะฐะบ, ััะพะฑั ะตะณะพ ะฟะพั
ะฒะฐะปะฐ ะฒัะตะณะดะฐ ะฒะพัะฟัะธะฝะธะผะฐะปะฐัั ะบะฐะบ ัะฝะธัั
ะพะดะธัะตะปัะฝะฐั ะธะปะธ ะบะฐะบ ะฑั ะพ ัะตะผ-ัะพ ัะผะฐะปัะธะฒะฐััะฐั.
โ ะ ัะบะฐะทะฐะปะธ, ััะพ ะพะฝ ะฝะต ะพะบะพะฝัะตะฝ, โ ะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผะพ ะฒััะฐะฒะธะป ะัะฑะพัะบะธะน.
โ ะััะตะณะพ ะถะต, ะพะฝ ะฒะฟะพะปะฝะต ะพะบะพะฝัะตะฝ ะธ ะดะฐะถะต, ะฟะพะถะฐะปัะน, ัะฐัััะฝัั, โ ะกะพะฑะพะปะตะฒ ะฒัะดะตัะถะฐะป ะฟะฐัะทั. โ ะะฐัะฐ ะบะฝะธะณะฐ ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะฐัั ะธ ะพะดะพะฑัะตะฝะฐ ะบ ะธะทะดะฐะฝะธั.
ะะปะฐัั, ะฟะพััะธ ะฒ ะฟะพะปะฝะพะผ ัะพััะฐะฒะต ะฟะพัะตัะฐะฒัะธะน ะปะธัะตัะฐัััะฝัะน ะบััะถะพะบ, ะทะฐะพัะฐะป, ะทะฐะฟััะณะฐะป ะธ ััั ะถะต ะดะธััะธะฟะปะธะฝะธัะพะฒะฐะฝะฝะพ ัะฐััะตะปัั ะฟะพ ะผะตััะฐะผ. ะะตัััะธะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะพัะปะธัะฝะพ ัะผะตะปะธ ะดะพะทะธัะพะฒะฐัั ะฒัะต โ ัะบะทะฐะปััะฐัะธั, ะฝะตะฟะพััะตะดััะฒะตะฝะฝะพััั ะธ ะดะฐะถะต ะฑัะฝั, ะตัะปะธ ะฑั ะพะฝ ะฟะพะฝะฐะดะพะฑะธะปัั.
โ ะะฟัะพัะตะผ, โ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ, โ ะบะฐะบ ัะฐะท ั ััะธะผ ั ะฒะฐั ะฝะต ะฟะพะทะดัะฐะฒะปัั, ะธะฑะพ ะฒ ัะพะผะฐะฝะต ะฒะฐัะตะผ ะตััั ะฒัะต ะฝะตะพะฑั
ะพะดะธะผะพะต ั ัะพัะบะธ ะทัะตะฝะธั ะธะทะดะฐัะตะปััะบะพะน ะบะพะฝััะฝะบัััั, ะฐ ััะพ ะฝะต ัะฐะผัะน ะฑะพะปััะพะน ะบะพะผะฟะปะธะผะตะฝั. ะ ะฝะตะผ ะฝะฐะปะธัะตััะฒััั ะธ ะพะบะบัะปััะฝัะต ัะฐะนะฝั ะขัะตััะตะณะพ ะ ะตะนั
ะฐ, ัะฐะฒะฝะพ ะบะฐะบ ะธ ะัะตะผะปั; ะธ ะฟััะตัะตััะฒะธั ะฒ ะฟะพะดัะพะทะฝะฐะฝะธะต, ะธ ัะพะบะพะฒัะต ะพะปะธะณะฐัั
ะธ, ะฒััะฐะถะฐััะธะต ัะฐะนะฝัั ะฒะพะปั ะผะธัะพะฒะพะน ะทะฐะบัะปะธัั, ะธ ะดะฐะถะต ัััะพะณะพ ะฝะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะฝัะน ัะพัะธะฐะปัะฝัะน ะฟัะพัะตัั, ะฑะตะท ะบะพัะพัะพะณะพ ัะตะนัะฐั ะฝะตะผััะปะธะผะฐ ะฝะธะบะฐะบะฐั ะบะพะผะผะตััะธั. ะญัะพ ัะฐะบะฐั ะฟััะฝะพััั, ะดะพะฑะฐะฒะปััั ะบะพัะพััั ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน ะฝะตะฟัะตะผะตะฝะฝะพ ัะปะตะดัะตั โ ะฟัะพััะพ ััะพะฑั ะปะตั ัะตัะตะท ะฟััั, ะฐ ัะพ ะธ ัะฐะฝััะต, ะณะพะฒะพัะธัั, ะฑัะดัะพ ะฒั ะธ ัะพะณะดะฐ ัะถะต ะฒัะต ะฟะพะฝะธะผะฐะปะธ.
โ ะะพ ะฟะพะฝะธะผะฐะปะธ ะถะต, โ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ะฟัะพะณัะดะตะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ.
โ ะ ะฐะทัะผะตะตััั. ะั ะฒะพะพะฑัะต ะพัะตะฝั ััะฐัะฐะปะธัั, ััะฐ ััะฐัะฐัะตะปัะฝะพััั ะฒะฐะผ ัะบะพัะตะต ะฒ ะผะธะฝัั, ัะตะผ ะฒ ะฟะปัั, ะฝะพ ะธะทะดะฐัะตะปะธ ะพัะตะฝะธะปะธ. ะฏัะฝะพ, ััะพ ัะตะณะพะดะฝั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะพะฒะพะณะพ ะฝะต ะฒัะดัะผะฐะตัั, ะธ ะฟะพัะพะผั ะฒั ะฒะพัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธัั ะผะฐััะธัะตะน ยซะะพะนะฝั ะธ ะผะธัะฐยป โ ัะพะผะฐะฝะฐ ะฝะฐััะพะปัะบะพ ะถะต ะฟะพะฟัะปััะฝะพะณะพ, ะฝะฐัะบะพะปัะบะพ ะธ ะฟะพะทะฐะฑััะพะณะพ; ะฒั ัะตะณะพะปัะฝัะปะธ ะฟะพ ะบัะฐะนะฝะตะน ะผะตัะต ัะตะผ, ััะพ ะฟะพะผะฝะธัะต ะะฐะทะดะตะตะฒะฐ. ะญัะพ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผะพ: ะตัะปะธ ะฒ ะบะปะฐััะต ะตััั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะตััะตััะฒะตะฝะฝะพ, ััะพ ะผััะปั ะตะณะพ ะพะฑัะฐัะธััั ะบ ะะตะทัั
ะพะฒั. ะะท ะฒัะตั
ะฝัะฝะตัะฝะธั
ะฟัะธะผะพัะตะบ ะฒั ะพะฑะพัะปะธัั ัะพะปัะบะพ ะฑะตะท ะฒะฐะผะฟะธัะพะฒ, ะฝะพ ััะพ ะฑัะป ะฑั ะฟะพะปะฝัะน ัะถะต ััะตั. ะ ะฒะฐัะตะน ะบะฝะธะณะต ะตััั ะฒัะต ะฟัะธะผะตัั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพะณะพ ัะพะผะฐะฝะฐ, ััะฟะตัะฝะพะณะพ ัะพะฒะฝะพ ะฝะฐััะพะปัะบะพ, ััะพะฑั ะตะณะพ ะฟัะพัะธัะฐะปะธ ะธ ะฝะฐ ะดััะณะพะน ะดะตะฝั ะทะฐะฑัะปะธ: ะพะฑัะฐัะธัะต ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต, ััะพ ั ะฒะฐั ะฝะธ ะฝะฐ ัะตะบัะฝะดั ะฝะต ะฒะพะทะฝะธะบะฐัั ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปะธ ัะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะพะณะพ ะฝะฐัะพะดะฐ, ะพะฝะธ ะถะต ะฟะพัะปะฐะฝัั ะณััะฑะพะน ัะตะฐะปัะฝะพััะธ.
โ ะขะพ ะตััั ะบะฐะบ! โ ะฒะพะทะผััะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะ ัะฒะฐะดัะฑะฐ? ะ ะฝะฐัะพะดะฝัะน ัะพัะพะณัะฐั?
โ ะ ะฝะธั
ะฝะต ะฑะพะปััะต ะฝะฐัะพะดะฝะพััะธ, ัะตะผ ะฒ ัะธะปัะผะต ยซะัะฑะฐะฝัะบะธะต ะบะฐะทะฐะบะธยป, โ ะพัะผะฐั
ะฝัะปัั ะกะพะฑะพะปะตะฒ. โ ะะปะธ ยซะัะฐั-2ยป, ะตัะปะธ ะฒะฐะผ ััะพ ะฑะปะธะถะต. ะัะฑะพะบ, ะดะพัะพะณะพะน ะัะฑะพัะบะธะน, โ ั
ะพัะพัะฐั ะฒะตัั, ะฝะพ ะฝะฐะทัะฒะฐัั ะตะณะพ ะฒััะพะบะธะผ ะธัะบััััะฒะพะผ ะฝะฐะธะฒะฝะพ. ะะฟัะพัะตะผ, ะฒะฐั ะธะทะฒะธะฝัะตั ัะพ, ััะพ ะฒ ัะตะฐะปัะฝะพััะธ ััะพั ัะฐะผัะน ะฝะฐัะพะด ัะพะถะต ะฑะตะทะผะพะปะฒััะฒัะตั, ะธ ะพ ัะตะผ ะพะฝ ัะฐะผ ะดัะผะฐะตั โ ะผั ะฟะพะฝััะธั ะฝะต ะธะผะตะตะผ. ะะฐะถะต ะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะฟัะพััะฟะฐััั, ะบะฐะบ ะฒ ะฅะฐะฑะฐัะพะฒัะบะต, ะพะฝ ะฝะตัะฟะพัะพะฑะตะฝ ะฐััะธะบัะปะธัะพะฒะฐัั ัะฒะพะธ ััะตะฑะพะฒะฐะฝะธั ะธ ะพัะดะตะปัะฒะฐะตััั ะฝะตะฒะฝััะฝัะผะธ, ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝัะผะธ ะบัะธัะฐะปะบะฐะผะธ. ะัั
ะพะดะธัั ะฝะฐ ัะปะธัั ะธ ะบะพัะผะธัั ะณะพะปัะฑะตะน ะตะผั ะฝัะฐะฒะธััั, ะฐ ัะบะฐะทะฐัั ะฝะตัะตะณะพ. ะะฐ ะธ ะพ ัะตะผ ะณะพะฒะพัะธัั, ะตัะปะธ ะถะธะทะฝั ะตะณะพ ัะพััะพะธั ะธะท ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพะน ัะฐะฑะพัั ะฝะฐ ะดัะดั, ัะผะพััะตะฝะธั ัะตะปะตะฒะธะทะพัะฐ ะธ ัะฐะบะธั
ะฒะพั ัะฒะฐะดะตะฑ ั ะธะดะธะพััะบะธะผ ัะพะฒะตััะบะธะผ ะพะฑััะดะพะผ ะฟะพั
ะธัะตะฝะธั ะฝะตะฒะตััั, ะบะพัะพัะฐั ะดะฐะฒะฝะพ ะฟะตัะตะตั
ะฐะปะฐ ั ะถะตะฝะธั
ะพะผ ะฝะฐ ััะตะผะฝัั ะบะฒะฐััะธัั?
ะจะตัะณะธะฝะฐ ั
ะธั
ะธะบะฝัะปะฐ.
โ ะขะฐะบ ััะพ ะฟะพะทะดัะฐะฒะปัั, ะฒ ะฒะฐัะตะผ ัะพะผะฐะฝะต ะฒัะต, ะบะฐะบ ั ะปัะดะตะน, ะธ ะธะผะตะฝะฝะพ ะฟะพััะพะผั ะฒ ัะตะฝััะฑัะต ะฒั ะฑัะดะตัะต ะฒัะตะน ะบะพะผะฐะฝะดะพะน ะฒััะธััะฒะฐัั ะณัะฐะฝะบะธ, ะฟัะพะธะทะฒะพะดะธัั ะบะพัะผะตัะธัะตัะบะธะต ัะพะบัะฐัะตะฝะธั ะธ ะฟะพะดะฟะธััะฒะฐัั ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ะดะพะณะพะฒะพั, ะฐ ะฟะพัะปะต ะฟัะฑะปะธะบะฐัะธะธ โ ะฐะบะบััะฐั ะบ ะบะฝะธะถะฝะพะน ััะผะฐัะบะต ะฝะพะฝ-ัะธะบัะฝ โ ะฟะพะปััะธัะต ะฝะฐ ััะปะพ ะฟะพ ััะธะดัะฐัั ััััั ััะฑะปะตะน, ััะพ ั ัะพัะบะธ ะทัะตะฝะธั ะฒะฐัะธั
ะฑัะดะถะตัะพะฒ ัะผะตัะฝะพ, ะฝะพ, ัะพะณะปะฐัะธัะตัั, ะฟัะตััะธะถะฝะพ.
ะััะถะฝะพะต ะธ ััะพะปั ะถะต ะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผะพะต ยซะะฐั!ยป ะฑัะปะพ ะตะผั ะพัะฒะตัะพะผ.
โ ะะตะปัะทั ะปะธ ัะตะฟะตัั ะฟัะตะฒะพัั
ะพะดะฝะพะต ะธะทะฒะตััะธะต? โ ะฟะพะดะฐะปะฐ ะณะพะปะพั ะะธะทะฐ.
โ ะัะตะฒะพัั
ะพะดะฝะพะต, mes amis, โ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะกะพะฑะพะปะตะฒ, โ ัะพััะพะธั ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะฒะฐัะต ัะพัะธะฝะตะฝะธะต ะฝะต ะดะพััะธะณะปะพ ัะฒะพะตะน ะณะปะฐะฒะฝะพะน ัะตะปะธ, ะธ ะฝะฐัะฐ ัะบะพะปะฐ, ะณะดะต ะผั ัะพะฑัะฐะปะธัั ัะตะณะพะดะฝั ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะท, ัะพะฒะฝะพ ะฟะตัะฒะพะณะพ ัะตะฝััะฑัั ะฑัะดะตั ะทะฐะบัััะฐ ะฝะฐะฒะตะบะธ, ะฐ ะฟะพัะปะต ััะตั
ะฝะตะดะตะปัะฝะพะน ะฟะพะดะณะพัะพะฒะบะธ ัะพัะถะตััะฒะตะฝะฝะพ ะดะตะผะพะฝัะธัะพะฒะฐะฝะฐ ะฟะพ ะปัััะธะผ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะผ ัะตั
ะฝะพะปะพะณะธัะผโฆ
ะะฝ ะฟะตัะตะถะดะฐะป ะฒะพะฟะปั ะณะฝะตะฒะฐ ะธ ัะฐะทะพัะฐัะพะฒะฐะฝะธั.
โ ะะพัะปะต ัะตะณะพ ะฝะฐ ะผะตััะต ะตะต, ะบะฐะบ ะธ ะฟัะตะดะฟะพะปะฐะณะฐะปะพัั, ะฑัะดะตั ะฒััััะพะตะฝ ัะปะธัะฝัะน ะบะฒะฐััะฐะป ยซะฅะฅII ะฒะตะบยป, ะฟัะพัั ะปัะฑะธัั ะธ ะถะฐะปะพะฒะฐัั.
โ ะงัะพ ะถะต ะทะดะตัั ะฟัะตะฒะพัั
ะพะดะฝะพะณะพ? โ ะทะฐะพัะฐะป ะััะฐะณะธะฝ.
โ ะัะตะฝั ะผะฝะพะณะพะต, ะตัะปะธ ะฒะดัะผะฐัััั. ะะฐะฟะพะผะธะฝะฐั ััะฐััะพะฒัั ะดะธัะฟะพะทะธัะธั ะฝะฐัะตะณะพ ะฟัะพะตะบัะฐ: ะฒะฐัะธะผ ะทะฐะดะฐะฝะธะตะผ ะฝะฐ ะธัะฝั ะฑัะปะพ ัะพัะธะฝะตะฝะธะต ัะฐะบะพะณะพ ัะพะผะฐะฝะฐ, ะบะพัะพััะน ัะฟะพัะพะฑะตะฝ ะฑัะดะตั ะพััะฐะฝะพะฒะธัั ัััะพะธัะตะปัััะฒะพ. ะขะพะณะดะฐ ะัะฑะพัะบะธะน ะบะฐะบ ัะฐะผัะน ะดะตะปะพะฒะพะน ะทะฐะดะฐะป ะผะฝะต ะพััััะน ะฒะพะฟัะพั: ะธะทะฒะตััะฝั ะปะธ ัะปััะฐะธ, ะบะพะณะดะฐ ะปะธัะตัะฐัััะฐ ะฒะปะธัะปะฐ ะฝะฐ ะถะธะทะฝั? ะฏ ัะพะณะดะฐ ะปะตะณะบะพะผััะปะตะฝะฝะพ ะพัะฒะตัะธะป: ัะบะพะปัะบะพ ัะณะพะดะฝะพ, ะฒัั ััััะบะฐั ัะตะฒะพะปััะธั ะฒ ะฝะตะบะพัะพัะพะผ ัะผััะปะต ะฟัะพะธะทะพัะปะฐ ะธะท-ะทะฐ ะัะฒะฐ ะขะพะปััะพะณะพ, ะฐ ะฟะพัะปะตะดัััะธะน ัะตััะพั โ ะธะท-ะทะฐ ะะพััะพะตะฒัะบะพะณะพ, ะฒะฝััะธะฒัะตะณะพ ะผะพะปะพะดะตะถะธ, ััะพ ะฟะพะบะฐ ะพะฝะฐ ะบะพะณะพ-ะฝะธะฑัะดั ะฝะต ัะฑัะตั โ ัะฐะบ ะธ ะพััะฐะฝะตััั ัะฒะฐััั ะดัะพะถะฐัะตะน. ะ ัะพะณะดะฐ ะะธะทะฐ ะฒััะบะฐะทะฐะปะฐ ัะฒะตัะปัั ะผััะปั: ะฐ ะดะฐะฒะฐะนัะต ะฟะพัะผะพััะธะผ, ัะตะผั ะผั ะฝะฐััะธะปะธัั! ะะตะดั ะตัะปะธ ะปะธัะตัะฐัััะฐ ะฝะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒัะตั ะฝะฐ ัะธัะฐัะตะปั, ะธ ะพะฝ ะพััะฐะตััั ะฒัะต ัะฐะบะพะน ะถะต ะบะพะฝัะพัะผะฝะพะน ัะฒะฐััั, ะบะฐะบะพะน ะฑัะป, โ ะบ ัะตัััะผ ัะฐะบัั ะปะธัะตัะฐัััั, ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพ?
โ ะัะฐะฒะธะปัะฝะพ! โ ะบัะธะบะฝัะปะฐ ะะธะทะฐ.
โ ะ ะฒั ะทะฐะฝัะปะธัั ะฟัะพะณัะฐะผะผะธัะพะฒะฐะฝะธะตะผ ัะธัะฐัะตะปั, โ ัะตััะตะทะฝะพ ะธ ะณััััะฝะพ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ. โ ะฏ ะพัะผะตัะธะป ัะฐะผัะต ััะพะณะฐัะตะปัะฝัะต ะฒะฐัะธ ะฟะพะฟััะบะธ: ะฒ ะฟััะพะน ะณะปะฐะฒะต ะทะฐัะธััะพะฒะฐะฝะพ ะฟะพัะปะฐะฝะธะต ยซะััะฐะฒััะต ะฝะฐะผ ะฝะฐัั ัะบะพะปั!ยป, ะธ ัะดะตะปะฐะฝะพ ััะพ ัะปะตะณะฐะฝัะฝะตะต, ัะตะผ ะฒ ะฐะปัะฑะพะผะต ั ะผะฐัะบะฐะผะธ. ะขะฐะผ ะพะฟะธัะฐะฝ ัะปะธัะบะพะผ ะณัะพะผะพะทะดะบะธะน ัะฟะพัะพะฑ ัะธััะพะฒะบะธ, ะฐ ะฒั ะฟัะธะฑะตะณะปะธ ะบ ัะตั
ะฝะพะปะพะณะธะธ ะฒัะพะดะต ะดะฒะฐะดัะฐัั ะฟััะพะณะพ ะบะฐะดัะฐ, ั
ะฒะฐะปั. ะ ะณะปะฐะฒะต ะดะตะฒััะพะน โ ะบะฐะบ ะฑั ะฟะตัะตะปะพะผะฝะพะน, ะณะดะต ัะตะฐะปะธะทะผ ะธัะฟะฐััะตััั ะฝะฐะฟัะพัั, โ ะผะตัะพะดะพะผ ััะธะบัะพะฝะพะฒัะบะพะณะพ ะณะธะฟะฝะพะทะฐ ะธะทััะฝะพ ัะบัััะฐ ััะฐะทะฐ ยซะัะพ ััะพะฝะตั ัะบะพะปั โ ัะผัะตั ะฒ ะผัะบะฐั
ยป, ั ัะฐะผ ะฑะฐะปะพะฒะฐะปัั ัะฐะบะธะผะธ ัััะบะฐะผะธ ะธ ะฝะต ะผะพะณ ะฝะต ะพัะตะฝะธัั ะฒะฐัะตะน ะปะพะฒะบะพััะธ. ะะฐะบะพะฝะตั, ะฒะพัะตะผะฝะฐะดัะฐัะฐั ะณะปะฐะฒะฐ โ ะผะตััะพ ะฒัะฑัะฐะฝะพ ะพัะตะฝั ัะพัะฝะพ, ะฟะพ ะผะตัะพะดั ะัะฐััััะตะฒัะบะพะณะพ, โ ะฟัััะตั ััะฐะทั ยซะะฐั ะบะฒะฐััะฐะป ัะนะดะตั ะฟะพะด ะทะตะผะปัยป, ััะพ ะฝะตัะพะผะฝะตะฝะฝะพ ัะปััะธััั ะฒะฝะต ะทะฐะฒะธัะธะผะพััะธ ะพั ัะพะณะพ, ะฟะพัะปััะฐัััั ะพะฝะธ ะฒะฐั ะธะปะธ ะฝะตั.
โ ะะปะพั
ะพ ัะฐะฑะพัะฐะปะธ, โ ะฒะทะดะพั
ะฝัะปะฐ ะัะพัะบะฐ ะกะตะผะตะฝะพะฒะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะฝะต ะฝะฐะฟะธัะฐะปะฐ ะฝะธ ะพะดะฝะพะน ะณะปะฐะฒั, ะฝะพ ะฟะพะผะพะณะฐะปะฐ ะทะฐัะธััะพะฒัะฒะฐัั ะฟะพัะปะฐะฝะธั ััะธะบัะพะฝะพะฒัะบะธะผ ะผะตัะพะดะพะผ.
โ ะััะตะณะพ ะถะต, ะฒะฟะพะปะฝะต ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพ, โ ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ ะกะพะฑะพะปะตะฒ. ะ ัะฐะบะธะต ะผะธะฝััั, ะพััะฐะฒะปัั ัะฒะพะน ะพะฑััะฝัะน ะฝะฐัะผะตัะปะธะฒัะน ัะพะฝ, ะพะฝ ะบะฐะทะฐะปัั ััะฐััะต ัะฒะพะธั
ัะพัะพะบะฐ, ัะปะพะฒะฝะพ ะฝะฐ ะฟะปะตัะธ ะตะณะพ ะฝะฐะฒะฐะปะธะฒะฐะปัั ะฒะดััะณ ะฒะตัั ั
ะผัััะน, ะฟะพ ะฑะพะปััะตะน ัะฐััะธ ัะฐะทะพัะฐัะพะฒัะฒะฐััะธะน ะพะฟัั ััััะบะพะน ัะปะพะฒะตัะฝะพััะธ, ะฐ ะทะฐะพะดะฝะพ ัะถ ะธ ะฟะตะดะฐะณะพะณะธะบะธ. โ ะะพะธัะบะธ ัะฐะบะธั
ัะตั
ะฝะพะปะพะณะธะน, ะบะฐะบะธะต ะฒะพะทะดะตะนััะฒะพะฒะฐะปะธ ะฑั ะฝะฐ ัะธัะฐัะตะปััะบะพะต ัะพะทะฝะฐะฝะธะต, ะฒะตะดัััั ะฒะพ ะฒัะตะผ ะผะธัะต ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝัั ัััััั ะปะตั, ะธ ะฝะต ัะบะฐะทะฐัั, ััะพะฑั ััะฟะตัะฝะพ. ะััั ัะตะพัะธั, ััะพ ัะธัะฐัะตะปั ะฐะบัะธะฒะฝะตะน ะฒัะตะณะพ ัะตะฐะณะธััะตั ะฝะฐ ะตะดั โ ะบ ัะพะถะฐะปะตะฝะธั, ะฒ ะฒะฐัะตะผ ัะตะบััะต ะพะฝะฐ ะฟะพััะธ ะฝะต ัะฟะพะผะธะฝะฐะตััั, ะฟะปะพัั ะถะธะทะฝะธ ะพั ะฒะฐั ััะบะพะปัะทะฐะตั; ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝั ะะพะปั, ะฟะพััะฐะฒะปะตะฝะฝัะน ะฒ ยซะงัะตะฒะต ะะฐัะธะถะฐยป, ัะบะพัะตะต ัะฐะทะพัะฐัะพะฒะฐะป ะฐะฒัะพัะฐ. ะะฐะดะฝะพ, ะฟะพะฟัะพะฑัะตะผ ั ััะพัะธะบะพะน: ะตะต ะฒั ะฟัะพะธะณะฝะพัะธัะพะฒะฐะปะธ ะฟะพ ะฒะฟะพะปะฝะต ัะฐะทัะผะฝัะผ ะฟัะธัะธะฝะฐะผ โ ะฒะฐั ะพะฟัั ะฟะพะบะฐ ะฝะตะดะพััะฐัะพัะตะฝ, ะพะฟะธััะฒะฐัั ะตะณะพ โ ัะพะปัะบะพ ะฟะพะทะพัะธััััโฆ
ะััะถะพะบ ะทะฐััะผะตะป.
โ ะ ะผะพะน ะฝะตะดะพััะฐัะพัะตะฝ, โ ััะฟะพะบะพะธะป ะธั
ะกะพะฑะพะปะตะฒ. โ ะัะฝะตัะฝะธะน ัะธัะฐัะตะปั ััะตะฑะพะฒะฐัะตะปะตะฝ, ะปะตะฝะธะฒ, ะตะณะพ ัะฐะบ ะฟัะพััะพ ะฝะต ัะฐััะตะฒะตะปะธััโฆ ะะพะฝะตัะฝะพ, ะฒั ะผะพะณะปะธ ะฒะทััั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒะพะน ัััะฐััะฝะพัััั, โ ะฝะพ ะทะฐัะตะผ ะฒัะฐัั? ะัะต ะฒั ัะถะต ะฟะพะฟัะพะฑะพะฒะฐะปะธ, ะฝะตะบะพัะพััะต, ะดัะผะฐั, ะปะตั ะฒ ะฟััะฝะฐะดัะฐัั, ะธ ััะพั ะฟะปะพะด ะดะปั ะฒะฐั ะฝะต ัะฐะบ ัะถ ะทะฐะฟัะตัะตะฝ. ะญัะพ ะดะปั ัะพะฒะตััะบะพะณะพ ะฟะพะบะพะปะตะฝะธั ะบะฐะบะพะต-ะฝะธะฑัะดั ัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะต ัะตะผะฝะพะณะพ ะผััะบะฐ ะฟะพะด ะถะธะฒะพัะพะผ ะฑัะปะพ ัะตะฝัะฐัะธะตะน, ะฐ ะดะปั ะฒะฐั ััะพ, ะฒ ะพะฑัะตะผ, ะณะธะผะฝะฐััะธะบะฐ. ะะพะปััะธะฝััะฒะพ ะทะฐะฝะธะผะฐะตััั ััะธะผ ัะพะปัะบะพ ะดะปั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ะผะธะฝะพะฒะฐัั ะฝะตะถะตะปะฐัะตะปัะฝัะน ะฝะตะปะพะฒะบะธะน ััะฐะฟ ะธ ะฟะตัะตะนัะธ ะบ ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพะผั ะพะฑัะตะฝะธั, โ ัะฐะทะฒะต ะฝะตั?
โ ะ ะพะปั ัะตะบัะฐ ะฒ ะถะธะทะฝะธ ะผะพะปะพะดะตะถะธ ะฒะพะพะฑัะต ะฟัะตัะฒะตะปะธัะตะฝะฐ! โ ะฟะธัะบะฝัะปะฐ ะะตะฝะฐ ะขัะปัะฟะพะฒะฐ, ััะพัะพะฝะฝะธัะฐ ะฝะพะฒะพะน ััะธะบะธ, ะบะพัะพัะฐั ะฟะพ ะฟัะธัะธะฝะต ะฟะพะปะฝะพะณะพ ัะฒะพััะตัะบะพะณะพ ะฑะตัะฟะปะพะดะธั ะฒััะธััะฒะฐะปะฐ ัะพะผะฐะฝ ะฟะตัะตะด ัะดะฐัะตะน ััะธัะตะปั ะธ ะฟัะพะฒะตััะปะฐ ะพัะธะฑะบะธ ะฒ ะธะฝะพัะทััะฝัั
ัะตะบััะฐั
.
โ ะะพั-ะฒะพั. ะะธัะฝะพ ั ั ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะตะผ ะฟะพัะธัะฐะป ะฑั ะฒะฐัะธ ะพัะบัะพะฒะตะฝะธั ะฝะฐ ััั ัะตะผั, ะฝะพ ะฒะตะดั ะบัะพ-ะฝะธะฑัะดั ะพั ะธะทะฑััะบะฐ ััะฒััะฒ ะฝะตะฟัะตะผะตะฝะฝะพ ัััะบะฐะฝะตั ัะพะดะธัะตะปั, โ ะธ ะบะฐะบ ะฑั ะผะฝะต ะตัะต ะฝะต ะทะฐะณัะตะผะตัั ะทะฐ ัะฐััะปะตะฝะธะต ะผะฐะปะพะปะตัะฝะธั
, ั
ะพัั ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน โ ััะธัะฐั ะดะพะปะณะพะผ ะฟัะตะดัะฟัะตะดะธัั ะฒะฐั ะพะฑ ััะพะผ โ ั ะผะตะฝั ะฒ ะทะฐะฟะฐัะต ั
ะพัะพัะฐั, ะฝะฐะดะตะถะฝะฐั ัะฟัะฐะฒะบะฐ ะพะฑ ะธะผะฟะพัะตะฝัะธะธ, ะฑะตะท ะบะพัะพัะพะน ัะตะณะพะดะฝั, ะพัะบัะพั ะฒะฐะผ ัะฐะนะฝั, ะฝะธ ะพะดะธะฝ ะผัะถัะธะฝะฐ ะฒ ัะบะพะปั ััััะพะธัััั ะฝะต ะผะพะถะตั. ะัะบะพะฟะปััั ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะดะพะดัะผะฐะปะธัั, ะพะดะฝะฐะบะพ ะฝะฐะดะตะถะดั ะผะฝะพะณะพ ะฒะฟะตัะตะดะธ.
โ ะงัะพ, ะฟัะฐะฒะดะฐ?! โ ะฒัะดะพั
ะฝัะป ะััะฐะณะธะฝ.
โ ะงะธััะตะนัะฐั. ะะปั ัะตะณะพ ะผะฝะต ะฒะฐะผ ะฒัะฐัั? ะั ะผะพะธ ะปัะฑะธะผัั, ะทะฐะฒะตัะฝัะน ะบััะถะพะบ, ะธ ั ะณะพะฒะพัั ั ะฒะฐะผะธ ะพัะบัะพะฒะตะฝะฝะตะน, ัะตะผ ัะพ ัะฒะตัััะฝะธะบะฐะผะธ. ะกะฒะตัััะฝะธะบะพะฒ ะผะพะธั
ะดะฐะฒะฝะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะธะฝัะตัะตััะตั, ะบัะพะผะต ะปะตะบะฐัััะฒ ะธ ะดะตะฝะตะณ.
โ ะะพ ััะพ ะฝะตะฟัะฐะฒะดะฐ? ะะฐััะตั ะธะผะฟะพัะตะฝัะธะธ? โ ััะพัะฝะธะปะฐ ะะฝะตัะบะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ.
โ ะญัะพ ะฒะฐั ะฐะฑัะพะปััะฝะพ ะฝะต ะบะฐัะฐะตััั, โ ั
ะพะปะพะดะฝะพ ะพัะฒะตัะฐะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ. โ ะะฐั ะทะฐะฝะธะผะฐะตั ัะตะนัะฐั ะดััะณะฐั ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ โ ะฒะพะทะดะตะนััะฒะธะต ะปะธัะตัะฐัััั ะฝะฐ ัะผั. ะ ะพะฝะพ, ะฝะฐัะบะพะปัะบะพ ะผะพะถะฝะพ ััะดะธัั, ะฝะธััะพะถะฝะพ. ะขะพ ะปะธ ะผั ัะฐะทััะธะปะธัั ะฟะธัะฐัั, ัะพ ะปะธ ะฒัะต ะพััะฐะปัะฝัะต ัะฐะทััะธะปะธัั ัะธัะฐัั, โ ะฝะพ ัะฟะพั
ะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะฟะพะด ะดะตะนััะฒะธะตะผ ะัะฟะตัะฐ ัะฑะตะณะฐะปะธ ะฒ ะะผะตัะธะบัโฆ ะธะปะธ ะฟะพะด ะดะตะนััะฒะธะตะผ ะฅะตะผะธะฝะณััั โ ะฒ ะัะฟะฐะฝะธั… ะฟัะพัะปะฐ ะฑะตะทะฒะพะทะฒัะฐัะฝะพ. ะะฐะบ ะธ ะพะฑะตัะฐะป, ั ัะฐะทะพัะปะฐะป ะฒะฐั ัะพะผะฐะฝ ะฒัะตะผ, ะพั ะบะพะณะพ ะทะฐะฒะธัะธั ัะตัะตะฝะธะต ะฟะพ ัะฝะพัั ัะบะพะปั. ะะฒะพะต ะพัะพะทะฒะฐะปะธัั ะพัะฟะธัะบะฐะผะธ โ ัะฟะฐัะธะฑะพ ะทะฐ ะฝะตัะฐะฒะฝะพะดััะธะต ะบ ะฝะฐัะตะผั ะฟัะพะตะบัั, โ ะพััะฐะปัะฝัะต ะฝะต ะพัะฒะตัะธะปะธ ะฒะพะพะฑัะต.
โ ะั ะธ ััะพ ั
ะพัะพัะตะณะพ ะฒ ััะพะผ ะธะทะฒะตััะธะธ? โ ัะฟัะพัะธะป ะฟะพะปะธะณะปะพั ะะฐัะฐะตะฒ, ะบะพะผะฟะปะธะผะตะฝัะฐัะฝะพ ะธะทะพะฑัะฐะทะธะฒัะธะน ัะตะฑั ะฟะพะด ะฒะธะดะพะผ ะะธะปะธะฑะธะฝะฐ ะธ ะพััะฐััะธ ะะตะปะตะฒะธะฝะฐ.
โ ะ ัะพ, โ ัะปัะฑะฝัะปัั ะกะพะฑะพะปะตะฒ, โ ััะพ ะฝะธะบัะพ ะธะท ะฒะฐั ะฟะพ ะบัะฐะนะฝะตะน ะผะตัะต ะฝะต ัะผะพะถะตั ะฝะฐะฒัะตะดะธัั ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒั. ะะธะบะฐะบะฐั ะปะธัะตัะฐัััะฐ ะฑะพะปััะต ะฝะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ะดะปั ะฝะตะณะพ ะพะฟะฐัะฝะพััะธ. ะะฐะผะตัััะต, ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะฐั ัะพััะธะนัะบะฐั ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพััั ะดะฐะตั ะผะพัะต ัะตะผ, ะฝะฐะด ะบะพัะพััะผะธ ะทะฐะฟะปะฐะบะฐะป ะฑั ะปัะฑะพะน ััะฒััะฒะธัะตะปัะฝัะน ัะธัะฐัะตะปั. ะัะธะผะตั: ััะธะผ ะปะตัะพะผ ั ะฟะพ ััะฐัะพะน ะฟะฐะผััะธ ะพัะฟัะฐะฒะธะปัั ะฒ ะฟะฐะฝัะธะพะฝะฐั ัะฒะพะตะณะพ ะดะตัััะฒะฐ, ะณะดะต ะฝะต ะฑัะป ะปะตั ะดะฒะฐะดัะฐัั. ะญัะพ ะฒ ะะพะดะผะพัะบะพะฒัะต, ััะดะพะผ ั ะผะฐะปะตะฝัะบะธะผ ะณะพัะพะดะบะพะผ ะฟะพัะตะปะบะพะฒะพะณะพ ัะธะฟะฐ, ะธะปะธ ะฝะฐะพะฑะพัะพั โ ะฝะตะฒะฐะถะฝะพ. ะขะฐะผ ััะฐัะธะบ, ะดะฐะฒะฝะพ ะพะดะธะฝะพะบะธะน, ัะพัะณะพะฒะฐะป ะพะณัััะฐะผะธ ัะพ ัะฒะพะตะณะพ ะพะณะพัะพะดะฐ, ะพัะตะฝั ะดะตัะตะฒะพ, ะฟะพ ััะพ ััะฑะปะตะน ะบััะบะฐ. ะัะพ-ัะพ ะธะท ะพัะดัั
ะฐััะธั
ะฝะฐ ะฝะตะณะพ ะฝะฐััััะฐะป, ััะพ ะพะฝ ัะพัะณัะตั ะฑะตะท ะปะธัะตะฝะทะธะธ, ะฑะตะท ัะฐะทัะตัะตะฝะธั ะธ, ะดะพะปะถะฝะพ ะฑััั, ะฝะต ะพััะธัะปัะตั ะฝะฐะปะพะณะธ. ะัะดัั
ะฐััะธะน ะฑัะป ัะธัะบะฐ, ะฝะฐะดะฐะฒะธะป, ััะพะฑั ะฟะพั
ะฒะฐััะฐัััั ะฟะตัะตะด ะฟัะธััะตะปัะผะธ ัะฒะพะธะผ ะผะพะณััะตััะฒะพะผ, ะธ ััะฐัะธะบะฐ, ะบะพัะพััะน ัะพ ัะฒะพะธะผะธ ะพะณัััะฐะผะธ ะฝะธะบะพะผั ะฝะต ะผะตัะฐะป, ะทะฐะฑัะฐะปะธ ะฒ ะบัััะทะบั. ะะณะพ ะฝะตะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะฑัะปะพ ัะฐะถะฐัั, ะดะฐ ะธ ะทะฝะฐะปะธ ะตะณะพ ะฒัะต ะฒ ะฟะพัะตะปะบะต, ะฝะพ โ ััะพะปะธัะฝะฐั ัะธัะบะฐ! ะะฐ ะธ ะณะดะต ะฒั ะฒะธะดะตะปะธ ัะตะฟะตัั, ััะพะฑั ะฝะต ัะฐะถะฐะปะธ? ะะณะพ, ะฒะตัะพััะฝะพ, ะพัะฟัััะธะปะธ ะฟะพัะพะผ, ัะพะดัะฐะฒ ะบะฐะบะพะน-ะฝะธะฑัะดั ัััะฐั, ะฝะพ ั ะฟัะตะดััะฐะฒะธะป, ะบะฐะบ ะฑะตะท ะฝะตะณะพ ะทะฐัะฐััะฐะตั ะตะณะพ ัะฐะด, ะบะฐะบ ัะพั
ะฝัั ะฑะตะท ะฟะพะปะธะฒะฐ ัะต ัะฐะผัะต ะพะณัััั, ะบะฐะบ ะฑะตะณะฐะตั ะฟะพ ัะพัะตะดะฝะธะผ ััะฐััะบะฐะผ ะตะณะพ ัะพะฑะฐะบะฐ โ ะฝะต ะดะปั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ะฝะฐะบะพัะผะธะปะธ, ะฐ ััะพะฑั ะบะฐะบ-ะฝะธะฑัะดั ะฒััััะธะปะธ ะตะณะพโฆ ะฏ ั
ะพะดะธะป, ะฒัััะฟะฐะปัั, ะผะตะฝัั ะผะตะฝั ะณะฝะฐะปะธ โ ัะฐะผะธ ะฒัะต ะฟะพะฝะธะผะฐะตะผ, ะฝะพ ะฒั ะถะต ะฒะธะดะธัะตโฆ ะะพัะพัะต, ั ะฟััะผะพ-ัะฐะบะธ ัะฒะธะดะตะป ัะฐััะบะฐะท, ะบะพัะพััะน ะพะฑะพ ะฒัะตะผ ััะพะผ ะผะพะถะฝะพ ะฝะฐะฟะธัะฐัั, ะฝะพ ะฟะธัะฐัั ะตะณะพ, ะบะฐะบ ะฒั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต, ะฝะต ััะฐะป. ะงะธัะฐัะตะปั ะฒ ะปัััะตะผ ัะปััะฐะต ัะบะฐะถะตั, ััะพ ััะฐัะธะบ ัะฐะผ ะฒะธะฝะพะฒะฐั, ะฐ ะฒ ั
ัะดัะตะผ ะธ ะดะพัะธััะฒะฐัั ะฝะต ะฑัะดะตั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฒัะต ะฑะตัะฟะพะปะตะทะฝะพ. ะ ัะถ ะฟะพะฒะตัััะต ะผะฝะต, ั ะฝะฐะฟะธัะฐะป ะฑั ััะพั ัะฐััะบะฐะท ั
ะพัะพัะพ. ะฏ ะฝะฐะถะฐะป ะฑั ะฝะฐ ัะตะฝัะธะผะตะฝัะฐะปัะฝะพััั, ะฝะฐ ะดะตััะบะธะต ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธั, ะบะฐะบะธะต ะตััั ั ะฒััะบะพะณะพโฆ ะฝะพ ะบ ัะตะผั? ะกะบะฐะถั ะฒะฐะผ ั ะฟะพะปะฝะพะน ัะตััะฝะพัััั โ ั ัะตะฟะตัั ะฒัะต ัะฐัะต ะธัะฟัััะฒะฐั ัะฐะฒะฝะพะดััะธะต, ะฐ ะธะฝะพะณะดะฐ ะธ ะพัะฒัะฐัะตะฝะธะต ะบ ัะฒะพะตะผั ัััะดั, ะบะพัะพััะน ัะฐะบ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะบะฐะทะฐะปัั ะผะฝะต ะณะปะฐะฒะฝัะผ ะฝะฐ ัะฒะตัะต. ะ ะฒ ััะพะผ ัะพััะพะธั ััะตััะต, ัะฐะผะพะต ะฟัะธััะฝะพะต ะธะทะฒะตััะธะต: ะผั ะผะพะถะตะผ ะฑะพะปััะต ะฝะต ะฝะฐะฟััะณะฐัััั.
ะกะพะฑะพะปะตะฒ ะฟะพะผะพะปัะฐะป ะธ ััะตะปัั ะทะฐ ััะพะป.
โ ะญัะพ ะดะพะฒะพะปัะฝะพ ะฟัะธััะฝะพะต ััะฒััะฒะพ, ะฒัะพะดะต ะทะฐััะฟะฐะฝะธั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ, ัะฝัะป ะพัะบะธ ะธ ััะฐะป ัะตัะตัั ะฟะตัะตะฝะพัะธัั. โ ะ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะต ะฒัะตะผั ั ะพัะตะฝั ะปัะฑะปั ะทะฐััะฟะฐัั. ะะธะดะธะผะพ, ะณะพัะพะฒะปััั. ะ ะฐะฝััะต ะผะฝะต ะฝัะฐะฒะธะปะพัั ัะพัะธะฝััั, ะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ะฒ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะทะฐะฝะธะผะฐัััั ัะตะบัะพะผ โ ะฒั ะฒะทัะพัะปัะต ะปัะดะธ ะธ ะฝะฐะฒะตัะฝัะบะฐ ะดะตะปะฐะตัะต ััะพ ัะฐัะต ะผะตะฝั, โ ะฝะพ ัะตะนัะฐั ั ะปัะฑะปั ะทะฐััะฟะฐัั, ะธ ะปัััะธะต ะผััะปะธ ะฟัะธั
ะพะดัั ะฝะฐ ะณัะฐะฝะธ ัะฝะฐ, ะบะพะณะดะฐ ั ััะฟะตะฒะฐั ะฟะพะดัะผะฐัั, ััะพ ะฝะฐะดะพ ะฑั ะทะฐะฟะธัะฐัั ะธั
, โ ะฝะพ ะฝะตะทะฐัะตะผ. ะั ะฝะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตัะต ัะตะฑะต, ะดะฐ ะธ ะผัะดัะตะฝะพ ะฟัะตะดััะฐะฒะธัั ััะพ ะฒ ัะตััะฝะฐะดัะฐัั ะปะตั, โ ะบะฐะบะพะต ััะฐัััะต ะฝะธะบัะดะฐ ะฝะต ัะพัะพะฟะธัััั, ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฝะต ะฝะฐะดะพ ะฝะธัะตะณะพ ะดะตะปะฐัั. ะะพะปัััั ัะฐััั ัะฒะพะตะน ะถะธะทะฝะธ, ัะผะตัะฝะพ ัะบะฐะทะฐัั, ั ะฟัะพะถะธะป ั ะพัััะตะฝะธะตะผ ะฝะตะฒัะฟะพะปะฝะตะฝะฝะพะณะพ ะดะพะปะณะฐ, ะฐ ัะตะฟะตัั ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ััะพ ั ะฝะธะบะพะผั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะดะพะปะถะตะฝ. ะ ะฐะฝััะต ั ะดัะผะฐะป, ััะพ ะผะพะณั ะฝะฐ ััะพ-ัะพ ะฟะพะฒะปะธััั, ะฐ ัะตะฟะตัั ะฟะพะฝะธะผะฐั, ััะพ ะปัะฑะพะต ะฒะปะธัะฝะธะต ะผะพะถะตั ัะพะปัะบะพ ััะบะพัะธัั ะธะปะธ ะทะฐัะพัะผะพะทะธัั ะฟัะพัะตัั, ะฝะพ ััะพ, ะบะฐะบ ะฑั ัะบะฐะทะฐัั, ะฒะปะธัะฝะธะต ะฝะต ะฟัะธะฝัะธะฟะธะฐะปัะฝะพะต. ะัะปะธ ััะบะพัะธัั ะฟัะพัะตัั โ ะฒัะต ัะณะพัะธั, ะฐ ะตัะปะธ ะทะฐะผะตะดะปะธัั โ ะฒัะต ัะณะฝะธะตั. ะญัะพ ะพะฑััะฝะพะต, ั
ะพัะพัะพ ะธะทะฒะตััะฝะพะต ัะฒะพะนััะฒะพ ะธััะพัะธัะตัะบะธั
ััะฟะธะบะพะฒ, ะฟะพััะพะผั ะฒั ะผะพะถะตัะต ัะฐััะปะฐะฑะธัััั ะธ ะฟะพะปััะฐัั ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะต. ะญัะพ ะธ ะตััั ะณะปะฐะฒะฝะฐั ะฝะพะฒะพััั, ะบะพัะพัะพะน ั ั
ะพัะตะป ะฟะพะดะตะปะธัััั.
ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะฒัะต ะผะพะปัะฐะปะธ, ะฟะพัะพะผ ะะธะทะฐ ัะบะฐะทะฐะปะฐ:
โ ะญัะพ ะฒะฐั ะพะฑััะฝัะน ัะฒะพััะตัะบะธะน ะบัะธะทะธั, ะัะฒะพะฒะธั. ะะธัะฝะพ ะฒะฐั.
โ ะะฐ-ะดะฐ, โ ั ะณะพัะพะฒะฝะพัััั ะบะธะฒะฝัะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ. โ ะะตัะฒะฐัะตะฝะธะต ะถะตะปัะดะบะฐ. ะัะต ะผะพะถะฝะพ ะพะฑัััะฝะธัั ะดััะฝะพะน ะฟะพะณะพะดะพะน, ัะฟะพั
ะพะน, ะฝะตะดะพััะฐัะพัะฝะพะน ัะฒะพะฑะพะดะพะน, ะฟะตัะตะฒะฐะปะธัั ะฝะฐ ะพััะตัะบะธะน ะฑะฐัะดะฐะบ, ัะฟะธัะฐัั ะฝะฐ ะฟะตัะตัััะถะตะฝะฝัะน ัะฐัััะดะพะบ, ะฝะฐ fin de siecle ะธ ะฝะฐ ะฑะพะปัะฝะพะน ะถะตะปัะดะพะบโฆ
โ ะะพ ะตัะปะธ ะฒัะต ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ัะฐะบ, โ ะทะฐะบะพะฝัะธะปะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ัะพะถะต ะปัะฑะธะฒัะฐั ััะพะณะพ ะฐะฒัะพัะฐ.
โ ะะปะธ COVID, โ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธะปะฐ ัะพะปััะฐั ะพัะบะฐััะฐั ะะฐัะฐ ะะพัะพะฒะฐะตะฒะฐ, ะฒัะต ะพะฑัััะฝัะฒัะฐั ะผะตะดะธัะธะฝัะบะธะผะธ ะฟัะธัะธะฝะฐะผะธ.
โ ะขะพะณะดะฐ ะฟัะธั
ะพะดะธััั ะฟัะธะทะฝะฐัั, ััะพ COVID ั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฒะตัั
ะพะฒะฝะพะน ะธะฝััะฐะฝัะธะธ, ะฝะพ ั ะดะปั ัะฐะบะพะณะพ ะบะพััะฝััะฒะฐ ะฝะต ัะพะทัะตะป. ะะพัะพัะต, ะฒะผะตััะพ ะปะธะฝะตะนะบะธ ะฒ ะฝะฐัะตะน ัะบะพะปะต, ะฑะปะฐะณะพะฟะพะปััะฝะพ ะฟัะพัััะตััะฒะพะฒะฐะฒัะตะน ััะพ ะฟัััะดะตััั ััะธ ะณะพะดะฐ ะธ ะฝัะฝะต ัะฝะพัะธะผะพะน ั ะปะธัะฐ ะทะตะผะปะธ, ะฑัะดะตั ะฒะพะทะฒะตะดะตะฝะธะต ะฝะตะฟัะพั
ะพะดะธะผะพะณะพ ะทะฐะฑะพัะฐ. ะ ะฝะพัะฑัะต ะฒั ัะผะพะถะตัะต ะฟัะธะนัะธ ััะดะฐ ะธ ะฟะพะบะปะพะฝะธัััั ััะธะฝะฐะผ. ะัะผะฐั, ะบ ัะพะผั ะฒัะตะผะตะฝะธ ะณะพัะพะฒะฐ ะฑัะดะตั ะธ ะบะฝะธะณะฐ.
27 ะฝะพัะฑัั 202* ะณะพะดะฐ ั ัะพะฒะฝะพะน, ัะบะฐัะฐะฝะฝะพะน ะณััะทะพะฒะธะบะฐะผะธ ะฟะปะพัะฐะดะบะธ, ั ะบะพัะพัะพะน ะฒัะฒะตะทะปะธ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะบะธัะฟะธัะธ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะน ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ, ะฟะพััะธ ะฒ ะฟะพะปะฝะพะผ ัะพััะฐะฒะต ััะพัะป ะฝะตัะพััะพัะฒัะธะนัั ะพะดะธะฝะฝะฐะดัะฐััะน ะบะปะฐัั, ะฝัะฝะต ัะฐััะตัะฝะฝัะน ะฟะพ ัะบะพะปะฐะผ ะผะพัะบะพะฒัะบะธั
ะพะบัะฐะธะฝ.
ะะพะณะพะดะฐ ะฑัะปะฐ ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะพ ััะฝะพะน ะธ ัะฒะตัะปะพะน, ััะตะดะธ ะผะตัะทะบะพะณะพ ะดะพะถะดะปะธะฒะพะณะพ ะธ ัะตะฟะปะพะณะพ ะฝะพัะฑัั ะฒัะดะฐะปัั, ะบะฐะบ ะฝะฐัะพัะฝะพ, ัะพะปะฝะตัะฝัะน ะดะตะฝั ั ะปะตะณะบะธะผ ะผะพัะพะทัะตะผ, ะธ ะฒัะต ะณะพะฒะพัะธะปะพ ะพ ัััะพะณะพััะธ ะธ ัะฐะผะพะดะธััะธะฟะปะธะฝะต. ะขะฐะบะฐั ะฟะพะณะพะดะฐ ะฝะต ัะฐัะฟะพะปะฐะณะฐะปะฐ ะบ ััััะบะฐะฝัั. ะัะต ััะพัะปะธ ะผะพะปัะฐ, ะฟััะฐััั ะฒะพะพะฑัะฐะทะธัั 153 ะณะพะดะฐ ัััะตััะฒะพะฒะฐะฝะธั ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะน ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ, ะฟะพะดะฒะพะดั ะธัะพะณ ััะพะน ะดะพะปะณะพะน, ะฟะตัััะพะน, ะฝะฐัััะตะฝะฝะพะน, ัะปะฐะฒะฝะพะน ะธ ะฑะตััะผััะปะตะฝะฝะพะน ะธััะพัะธะธ.
ะะพั ะะผะฟะตัะฐัะพััะบะพะต ะทะตะผะปะตะผะตัะฝะพะต ััะธะปะธัะต, ะฟะตัะตะฒะตะดะตะฝะฝะพะต ะฒ 1839 ะณะพะดั ะฒ ะะตัะตัะฑััะณ; ะฒะพั ะฟัะธัะตะดัะฐั ะตะน ะฝะฐ ัะผะตะฝั ะผัะทัะบะฐะปัะฝะฐั ัะบะพะปะฐ ะะพะฝะฐัะตะฒัะบะพะณะพ, ัะพะทะดะฐะฝะฝะฐั ะธะผ ะฒ 184* ะณะพะดั ะฒ ะฟัะตะดะดะฒะตัะธะธ ะฒะตะปะธะบะธั
ัะตัะพัะผ, ะดะฐะฑั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะดะฒะพััะฝัะบะธะต ะพัะฟัััะบะธ, ะฝะพ ะธ ะฟัะพััะพะฝะฐัะพะดัะต ะผะพะณะปะธ ัะฐะทะฒะธะฒะฐัั ัะฐะปะฐะฝัั; ะฒะพั, ะฟะพัะปะต ะฟััะธ ะปะตั ัััะตััะฒะพะฒะฐะฝะธั ะฒ ััะพะผ ะบะฐัะตััะฒะต, ะทะฝะฐะผั ัะผะตััะตะณะพ ะพั ะฒะพะดัะฝะบะธ ะะพะฝะฐัะตะฒัะบะพะณะพ ะฟะพะดั
ะฒะฐัะธะป ะัะฐะฝะธัะบะธะน, ัะตะปะพะฒะตะบ ัะพัะพะบะพะฒัั
ะณะพะดะพะฒ, ะดะพะถะดะฐะฒัะธะนัั ะฒะพะฟะปะพัะตะฝะธั ะดะฐะฒะฝะธั
ัะฐัะฝะธะน ะธ ะทะฐัะตัะฒัะธะน ััั ะฟะพะดะพะฑะธะต ะปะธัะตั ั ัะธะผะฟะพัะธะพะฝะพะผ, ะฟะพะทะฒะฐะฒัะธะน ะฟัะตะฟะพะดะฐะฒะฐัั ัะพะฒะฐัะธัะตะน ะฟะพ ะะพัะบะพะฒัะบะพะผั ัะฝะธะฒะตััะธัะตัั ะธ ะฒ ะพััะฐัะฝะธะธ ะฟะปัะฝัะฒัะธะน ะฝะฐ ะฒัะต ะฟะพัะปะต ะฟะพะดะฐะฒะปะตะฝะธั ะฟะพะปััะบะพะณะพ ะฑัะฝัะฐ; ะฒะพั ะผะฐัะตะผะฐัะธัะตัะบะธะต ะบัััั ะัะฐะฝะฐััะตะฒะฐ, ัะตัะธะฒัะตะณะพ, ััะพ ะฝะธะบะฐะบะฐั ะณัะผะฐะฝะธัะฐัะฝะฐั ะบัะปััััะฐ ะฝะต ัะฟะฐัะตั ะ ะพััะธั, ะฐ ัะฟะฐัะตั ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะฐั ะฟะพะปัะทะฐ, ะผะฐัะตะผะฐัะธะบะฐ, ะดะฐััะฐั ัะตะปะพะฒะตัะตััะฒั ัะฝะธะฒะตััะฐะปัะฝัะน ัะทัะบ. ะ ะัะฐะฝะฐััะตะฒั ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะฟะพะฒะตะทะปะพ, ะตะณะพ ะดะพะปะณะพ ะฝะต ััะพะณะฐะปะธ, ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะฒัััะฝะธะปะพัั, ััะพ ั ะฝะตะณะพ-ัะพ ะธ ะฟะพะปััะธะปะพัั ัะฐะผะพะต ะฝะฐััะพััะตะต ะฝะธะณะธะปะธััะธัะตัะบะพะต ะณะฝะตะทะดะพ, โ ะธ ะฟะพ ะดะพะฝะพัั ะะพะฑะตะดะพะฝะพััะตะฒะฐ, ะฟัะพััะธัะต ะฝะตะฒะพะปัะฝัะน ะบะฐะปะฐะผะฑัั, ะบัััั ะฑัะปะธ ะทะฐะบัััั, ะฐ ัะฐะผ ะัะฐะฝะฐััะตะฒ ัะฑะตะถะฐะป ะฒ ะะตะนะฟัะธะณ, ะณะดะต ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ัะฒะพะต ะดะตะปะพ, ะฝะพ ะฝะฐะผ ััะพ ัะถะต ะฝะตะธะฝัะตัะตัะฝะพ. ะะฐ ะผะตััะต ะบัััะพะฒ ะพัะฝะพะฒะฐะปัั ะะพะฝัะตัะฒะฐัะธะฒะฝัะน ะบะปัะฑ, ัะปะฐะฒะฝัะน ะธะผะตะฝะฐะผะธ ะขะตััััะตะฒะฐ, ะัะฐัะฒะธะฝะฐ ะธ ะกะพัะณะธะฝะฐ, ะธะทะดะฐัะตะปะตะน ัะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะพะณะพ ยซะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะณะพ ัะฑะพัะฝะธะบะฐยป, ะณะดะต ะดะพะบะฐะทัะฒะฐะปะพัั, ััะพ ัะธะปะฐ ะ ะพััะธะธ ะฝะต ะฒ ะฟะพะทะธัะธะฒะฝะพะผ ะทะฝะฐะฝะธะธ, ะฐ ะฒ ะธััะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝะพะน ะฝะฐัะพะดะฝะพะน ะฒะตัะต (ะธ ัะพัะฝะพ, ะฒัะต ะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะปัะดะธ ะฑะพะปัะฝัะต โ ะขะตััััะตะฒ ัะฐะดะธัั, ะกะพัะณะธะฝ ัะพะดะพะผะธั ั ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝัะผะธ ะฝะฐะบะปะพะฝะฝะพัััะผะธ, ะฐ ะัะฐัะฒะธะฝ ะฟัะธะฝัะธะฟะธะฐะปัะฝะพ ะฒะพะทะดะตัะถะธะฒะฐะปัั ะธ ัะผะตั ะพั ะฝะตะฟัะตััะฐะฝะฝะพะน ะฒะฝัััะตะฝะฝะตะน ะฑะพััะฑั ะฒ ััะฐะฒะฝะธัะตะปัะฝะพ ัะฝัั
ะณะพะดะฐั
, ัะพะฒะฐัะธัะธ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะปะธ ะตะณะพ ะบะฐะฝะพะฝะธะทะธัะพะฒะฐัั ะธ ะบะปัะปะธัั, ััะพ ะฝะฐ ะผะพะณะธะปะต ะตะณะพ ัะพะฒะตััะฐัััั ััะดะตัะฐ). ะััะถะพะบ ัะฐะผ ัะพะฑะพั ัะฐััะตัะปัั ะฒ ะฝะฐัะฐะปะต ะดะตะฒัะฝะพัััั
ะณะพะดะพะฒ ะฟะพะทะฐะฟัะพัะปะพะณะพ ะฒะตะบะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะธััะพัะธะบ ะะฐััะธะบะตะตะฒ ัะพะทะดะฐะป ััั ะฝะฐ ะฟะพะถะตััะฒะพะฒะฐะฝะธั ะผะตัะตะฝะฐัะฐ ะัะตะนัะผะฐะฝะฐ, ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะฟัะพัะฒะตัะตะฝะฝะพะณะพ ะธ ะฒะฟะพัะปะตะดััะฒะธะธ ะฟะพะผะตัะฐะฒัะตะณะพัั ะฝะฐ ััะพะน ะฟะพัะฒะต, ะธััะพัะธัะตัะบะธะน ะปะธัะตะน, ัะพ ะตััั ะณะธะผะฝะฐะทะธั ั ะฟัะตะธะผััะตััะฒะตะฝะฝัะผ ะธะทััะตะฝะธะตะผ ัะพััะธะนัะบะพะน ะธััะพัะธะธ ะฟะพ ะธะฝะพัััะฐะฝะฝัะผ ะธ ัะตัะบะพะฒะฝัะผ ะธััะพัะฝะธะบะฐะผ; ะธะทะณะฝะฐะฝะฝัะน ะธะท ัะฝะธะฒะตััะธัะตัะฐ ะทะฐ ะฒะพะปัะฝะพะผััะปะธะต, ะะฐััะธะบะตะตะฒ ะฟะพะฟััะฐะปัั ะฒะทััั ัะตะฒะฐะฝั ะฒ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ, ััะธัะฐะปัั ะฑะพะปััะธะผ ะฟัะพะณัะตััะธััะพะผ ะธ ัััั ะปะธ ะฝะต ะพััะพะผ ะฝะพะฒะพะน ะธััะพัะธัะตัะบะพะน ัะบะพะปั. ะะธะผะฝะฐะทะธั ะตะณะพ ัััะตััะฒะพะฒะฐะปะฐ ะฑะปะฐะณะพะฟะพะปััะฝะพ ะดะพ ัะฐะผะพะณะพ 1918 ะณะพะดะฐ, ะดะพ ะบะพัะพัะพะณะพ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะพะฝ ะฝะต ะดะพะถะธะป; ะพะฝะฐ, ัะพ ะฒัะตะผ ัะฒะพะธะผ ะฟัะพะณัะตััะธะทะผะพะผ, ะดะฐะปะฐ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะต ะธะทะฒะตััะฝะพะผั ยซะณะธะผะฝะฐะทะธัะตัะบะพะผัยป ะดะตะปั, ัะธะณััะฐะฝัั ะบะพัะพัะพะณะพ ะฒะทัะปะธัั ัะปะธัะบะพะผ ัััะฝะพ ะพัััะบะธะฒะฐัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะธ ะบ ัะตะฒะพะปััะธะพะฝะฝะพะน ัะผััะต. ะัะป ัะพั ัะฐะดะธะบะฐะปัะฝัะน ะฟะตัะธะพะด, ะบะพะณะดะฐ ะฒัะฐะณะพะฒ ะตัะต ัะพะปัะบะพ ัะฐััััะตะปะธะฒะฐะปะธ, โ ัััั ะฟะพะทะถะต ะฝะฐัะฐะปะธ ะณัะผะฐะฝะฝะพ ะฒัััะปะฐัั, ะฟะพัะปะต ัะตะณะพ ะฟะตัะตัะปะธ ะบ ะฟััะบะฐะผ, ะทะฐะฒะตััะฐะฒัะธะผัั ะฒัะต ัะตะผ ะถะต ัะฐััััะตะปะพะผ; ะฒ ัะฐะผะพะน ะถะต ัะบะพะปะต ะฑัะปะฐ ััััะพะตะฝะฐ ะะพัะบะพะฒัะบะฐั ัะบะพะปะฐ-ะบะพะผะผัะฝะฐ ะฝะพะผะตั ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะฒะพ ะณะปะฐะฒะต ัะพ ะทะฝะฐะผะตะฝะธััะผ ะฟะตะดะพะปะพะณะพะผ ะะพะปะพะฝัะบะธะผ ะธ ะฒะตัะฝะพะน ะตะณะพ ัะพัะฐัะฝะธัะตะน ะะธั
ะตะปัััะตะนะฝ. ะะฑะฐ ะฝะฐั
ะพะดะธะปะธัั ะฟะพะด ัะธะปัะฝัะผ ะฒะปะธัะฝะธะตะผ ััะพัะบะธะทะผะฐ, ััะตะนะดะธะทะผะฐ ะธ ัะฐะฝะฝะตะณะพ ัะตะผะธะฝะธะทะผะฐ. ะะพััะดะบะธ ะฒ ัะบะพะปะต ัะฐัะธะปะธ ัะฐะผัะต ะดะตะผะพะบัะฐัะธัะตัะบะธะต, ะฟะพะดัะพะฑะฝัะต ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธั ะพ ะฝะตะน ะพััะฐะฒะธะปะธ ะดะฒะฐ ัะตะฟัะตััะธัะพะฒะฐะฝะฝัั
ะฒะฟะพัะปะตะดััะฒะธะธ ะฟะธัะฐัะตะปั ะธะท ะฑัะฒัะธั
ะฑะตัะฟัะธะทะพัะฝะธะบะพะฒ ะธ ะดะพะฑััะน ะดะตัััะพะบ ะฒัะฟััะบะฝะธะบะพะฒ, ะดะพััะธะณัะธั
ััะตะฟะตะฝะตะน ะธะทะฒะตััะฝัั
ะฒะพ ะฒัะตั
ะพะฑะปะฐัััั
ัะพะฒะตััะบะพะน ะถะธะทะฝะธ. ะงะฐััั ััะธั
ะฒัะฟััะบะฝะธะบะพะฒ ัะพะถะต ะฟัะพัะปะฐ ัะตัะตะท ัะตะฟัะตััะธะธ, ะฝะพ ะฝะต ะฟะตัะตััะฐะปะฐ ััะธัะฐัั ะะฒะตะฝะฐะดัะฐััั ะบะพะผะผัะฝั ะปัััะธะผ ัะฒะพะธะผ ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะตะผ; ะฒ ะฝะฐัะฐะปะต ะฟะตัะตัััะพะนะบะธ ััะผะตะป ัะพะผะฐะฝ ยซะะซ ะดะตัะธ ะะฐะปะฐัะตะฒะบะธยป, ะฐะฒัะพั ะบะพัะพัะพะณะพ, ะฎัะธะน ะคะธัะตัะผะฐะฝ, ะฟะธัะฐะป ะดะพ ััะพะณะพ ะณะปะฐะฒะฝัะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒะตะฝะฝัะต ัะพะผะฐะฝั, ะฐ ะฒะพั ะฟะพะดะธ ะถ ัั. ะกัะด ะฝะฐะด ะงะฐัะบะธะผ ะธ ัะฐะผะพะดะตััะตะปัะฝัะน ัะฟะตะบัะฐะบะปั ยซะะฟัะฐะฒะดะฐะฝะธะต ะ ะพะฑะตัะฟัะตัะฐยป ะฒ 1925-1927 ะณะพะดะฐั
ัะพะฑะธัะฐะปะธ ะฒ ะฐะบัะพะฒัะน ะทะฐะป ะฒัั ะบัะปััััะฝัั ะะพัะบะฒั. ะะฐะปะฐัะตะฒะบั ะทะฐะบััะปะธ ะฒ 1931 ะณะพะดั, ะฒ ะฝะตะน ะพะฑะพัะฝะพะฒะฐะปะฐัั ัะตะฟะตัั ะผะพัะบะพะฒัะบะฐั ัะบะพะปะฐ ะฝะพะผะตั 12, ะฝะฐะทะฒะฐะฝะฝะฐั ะฒ ัะตััั ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั, ัะตะน ะฒะธะทะธั ะฒ ะกะพะฒะตััะบัั ะ ะพััะธั ะธ ะบะพะฝะบัะตัะฝะพ ะฒ ััั ัะบะพะปั ะฑัะป ะพัะฒะตัะตะฝ ยซะะทะฒะตััะธัะผะธยป. ะจะบะพะปะฐ ั ัะตั
ะฟะพั ัะปะฐะฒะธะปะฐัั ัะปะธัะฝัะผะธ ััะฐัะธะผะธัั ะธ ะพะฑัะฐะทัะพะฒะพ ะธะดะตะนะฝัะผ ะฟะตะดัะพััะฐะฒะพะผ, ะฒ ัััะพะนะฝัะต ััะดั ะบะพัะพัะพะณะพ ะทะฐัะตัะฐะปะฐัั, ะพะดะฝะฐะบะพ, ะฟะฐััะธะฒะฐั ะพะฒัะฐ ะะปะปะฐ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะฝะฐ ะะพะณะพะฒะธััะฝะฐ, ะธะท ะฑัะฒัะธั
ะดะฒะพััะฝ. ะัะดััะธ ะปัะฑะพะฒะฝะธัะตะน ะดะธัะตะบัะพัะฐ ัะบะพะปั, ัะณััะผะพะณะพ ััะฐัะพะณะพ ะฑะพะปััะตะฒะธะบะฐ ะะตะปะตะทะพ ะฟะพะด ะฟะฐััะธะนะฝะพะน ะบะปะธัะบะพะน ะัะทะพ, ะพะฝะฐ ะผะพะณะปะฐ ะฝะต ะพะฟะฐัะฐัััั ัะธััะพะบ, ะฝะพ ะฒ ะณะพะปะพะฒั ะดะตัะตะน ะบะฐะบ-ัะพ ัะผัะดััะปะฐัั ะฒะฝะตะดัััั ะปัะฑะพะฒั ะบ ัะพะดะฝะพะน ัะปะพะฒะตัะฝะพััะธ; ะบะพะณะดะฐ ะพะฝะฐ ะฒััะปะฐ ะฝะฐ ะฟะตะฝัะธั ะฒ 1954 ะณะพะดั, ะฝะฐ ะตะต ะผะตััะพ ะฟัะธัะปะฐ ะฑัะฒัะฐั ะฒัะฟััะบะฝะธัะฐ ััะพะน ะถะต ัะบะพะปั, ะะฐัะธั ะะฐะทะฐะฝัะตะฒะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะดะพัะพัะปะฐ ะดะพ ะทะฐะฒััะตะน, ัะผัะดัะธะฒัะธัั ะฟัะธ ััะพะผ ั
ัะฐะฝะธัั ะฒ ะดััะต ัััะพัะบะธ ะะปะพะบะฐ, ะะตะปะพะณะพ ะธ, ัััะฐัะฝะพ ัะบะฐะทะฐัั, ะัะผะธะปะตะฒะฐ. ะะฐะดะพัะฝัะต ัะตััะธะดะตััััะต ะฟัะธะฒะตะปะธ ะฒ ัะบะพะปั ะฒัะฟััะบะฝะธะบะฐ ะฟะพััะตะณะพ ะะะะ, ะฎะปะธั ะะปัั
ะฐัั, ะบะพัะพััะน ะฒะฝะตั ะฒ ะฟะตะดะฐะณะพะณะธะบั ัะปะตะผะตะฝั ัััะธะทะผะฐ ะธ ะฟัะพัะตะน ะฑัะพะดััะตะน ัะพะผะฐะฝัะธะบะธ; ะพัััะดะฐ ะฝะตะดะฐะปะตะบะพ ะฑัะปะพ ะดะพ ะดะธััะธะดั, ะธ ะฟัะธั
ะพะด ะธััะพัะธะบะฐ ะะฐัะฐะฝะฐ ะจะฐัะพะฒะธัะบะพะณะพ ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ะฟะตัะตะฒะตะป ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐััั ะฒ ัะฐะทััะด ะปัะฑะธะผะตะนัะธั
ะธ ะพะฟะฐัะฝะตะนัะธั
ะผะพัะบะพะฒัะบะธั
ัะบะพะป. ะัะปะธ ะฑั ะฝะต ะฐะบะฐะดะตะผะธะบ ะะพะปะผะพั
ะพะดะพะฒ, ะฒะทัะฒัะธะน ะตะต ะฟะพะด ะบััะปะพ ะธ ะทะฐััะพะปะฑะธะฒัะธะน ััั ะฟะปะพัะฐะดะบั ะดะปั ัะฒะพะตะณะพ ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝัะฐะปัะฝะพะณะพ ะบัััะฐ ะณะตะพะผะตััะธะธ, ะตะต ะฑั, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฟัะธะบััะปะธ, โ ะฝะพ ะะพะปะผะพั
ะพะดะพะฒ ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ะฟะพะผะพะณะฐะป ะพะฑััะธััะฒะฐัั ะฑะพะผะฑั ะธ ะธะผะตะป ัะฒัะทะธ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะฒะตัั
ั. ะะปัั
ะฐัั ะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะฑัะป ะธะทะณะฝะฐะฝ ะธ ัะตั
ะฐะป, ะฝะพ ะจะฐัะพะฒะธัะบะธะน ะฟัะธะฒะปะตะบ ััะธัะตะปะตะน-ะฝะพะฒะฐัะพัะพะฒ, ัะพะทะดะฐะฒัะธั
ััั ะทะฐะฟะพะฒะตะดะฝะธะบ ะบะพะผะผัะฝะฐััะบะพะน ะผะตัะพะดะธะบะธ โ ั ะฟัะธั
ะพะปะพะณะธัะตัะบะธะผะธ ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝัะฐะผะธ, ะทะฐัะฐัะบะฐะผะธ ัะพัะธะพะฝะธะบะธ ะธ ะดะตะปะพะฒัะผะธ ะธะณัะฐะผะธ. ะัะธ ะฟะตัะฒัั
ะดัะฝะพะฒะตะฝะธัั
ะฟะตัะตัััะพะนะบะธ ะฒัะต ััะพ ะฝะฐะบััะปะพัั โ ัะพัะฝะตะน, ัะฐัะบััะปะพัั, ะธะฑะพ ัะฐะบะธะต ัะตะฟะปะธัั ะฒะพะทะฝะธะบะฐัั ัะพะปัะบะพ ะฒ ะฝะฐะณะปัั
ะพ ะทะฐะบััััั
ะฟะพะผะตัะตะฝะธัั
; ะจะฐัะพะฒะธัะบะธะน ัะผะตั ะพั ะธะฝัะฐัะบัะฐ ะฝะฐ ััะตััะตะผ ะทะฐัะตะดะฐะฝะธะธ ััะตะทะดะฐ ะฝะฐัะพะดะฝัั
ะดะตะฟััะฐัะพะฒ, ะฟะพะฝัะฒ, ััะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟะพะปััะธะปะพัั, ะฐ ัะบะพะปะฐ ััะฐะปะฐ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ั
ะธัะตัั, ะฟะพะบะฐ ะฒ 1993 ะณะพะดั ะฝะพะฒัะน ะดะธัะตะบัะพั, ะกะปัะฝัะตะฒ ะฟะพ ะบะปะธัะบะต ะกััั, ะฝะต ัะดะฐะป ัะฟะพััะทะฐะป ะฟะพะด ัััะฐะณะตะฝัััะฒะพ, ะฐ ะฐะบัะพะฒัะน ะทะฐะป ะฟะพะด ะพะทะดะพัะพะฒะธัะตะปัะฝัะน ัะตะฝัั ั ะฐััะพะฑะธะบะพะน. ะััะพะฑะธะบั ะฟัะตะฟะพะดะฐะฒะฐะปะฐ ะตะณะพ ะปัะฑะพะฒะฝะธัะฐ ะะฐะปะฐั
ะพะฒะฐ, ัะฐะบ ััะพ ะดะตะปะพ ะะตะปะตะทะฐ-ะัะทะฐ, ะบะฐะบ ะฒะธะดะธะผ, ะถะธะปะพ. ะ ะดััะณะธั
ัะปะพะฒ, ะพะบะฐะฝัะธะฒะฐะฒัะธั
ัั ะฝะฐ ะทะพ, ะฒ ััััะบะพะผ ัะทัะบะต ะฝะตั, ะตัะปะธ ะฝะต ััะธัะฐัั ะทะฐะธะผััะฒะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ, ะฝะพ ะผะฝะพะณะพะต ะพะฑัััะฝัััะตะณะพ ะฟะพะฝััะธั ัะฐะดะพะผะฐะทะพ.
ะ 1997 ะณะพะดั ััั ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะปัั ะฟัะฐะฒะพัะปะฐะฒะฝัะน ะปะธัะตะน, ะฝะพ ะณะพะด ัะฟัััั ะธะท ะฟัะฐะฒะธัะตะปัััะฒะฐ ะฒัะปะตัะตะป ะผะปะฐะดะพัะตัะพัะผะฐัะพั ะะตั, ั ะบะพัะพัะพะณะพ ะฑัะปะธ ะฒ 1996 ะณะพะดั ะพัะพะฑัะต ะทะฐัะปัะณะธ, ะธ ะฒ ััะตัะตะฝะธะต ะตะผั ะฑัะป ะดะฐะฝ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัะน ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐัะตะปัะฝัะน ะฟัะพะตะบั. ะะตั ะฑััััะพ ะฒัะต ะฟะพะฝัะป ะธ ัะตั
ะฐะป, ะฝะพ ะฝะฐ ั
ะพะทัะนััะฒะต ะพััะฐะฒะธะป ะฟะพัะปะตะดะฝะตะณะพ ะดะธัะตะบัะพัะฐ, ะกะตะผะตะฝะพะฒะฐ: ััะพ ะฑัะป ะตะณะพ ะผะตัะพะด โ ะฝะฐั
ะพะดะธัั ะฟัะธะปะธัะฝัั
ะปัะดะตะน ะธ ัะฐะผะพััััะฐะฝััััั. ะกะตะผะตะฝะพะฒ ะฑััััะพ ัะผะตะบะฝัะป, ััะพ ะบะฐะบะธั
ะฑั ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐัะตะปัะฝัั
ะฝะพะฒะฐัะธะน ะฝะธ ะฒัะดัะผัะฒะฐะปะธ ะฝะพะฒัะต ะปัะฑัะฝัะบะธะต ั
ะพะทัะตะฒะฐ ะ ะพััะธะธ, ะดะปั ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัั
ะดะตัะตะน ะพะฝะธ ะถะตะปะฐะปะธ ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพะณะพ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธั, ะฟัััั ะธ ะฑะตะท ะฒััะบะพะน ะธะดะตะพะปะพะณะธะธ. ะกะตะผะตะฝะพะฒ ะฝะฐะฑัะฐะป ะทะฐะผะตัะฐัะตะปัะฝัั
ะปัะดะตะน, ััะต ะฟัะธัััััะฒะธะต ะฒ ะถะธะทะฝะธ ัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ ะฑัะปะพ ะฝะตะฝะฐะฒัะทัะธะฒะพ โ ะฟะพัะตะผั ะฒ ัะฒะพะตะผ ัะพะผะฐะฝะต ะพะฝะธ ะฝะธ ัะฐะทั ะธ ะฝะต ัะฟะพะผัะฝัะปะธ ััะธั
ะฟะตะดะฐะณะพะณะพะฒ; ะฝะพ ะพะฝะธ ะฒะตะดั ะธ ัะพะดะธัะตะปะตะน ะฟะพััะธ ะฝะต ัะฟะพะผัะฝัะปะธ. ะะฐะบ ะณะปะฐัะธั ััะฐัะธะฝะฝัะน ะฑัะธัะฐะฝัะบะธะน ะฐะฝะตะบะดะพั, ะผะฐะปััะธะบ ะผะพะปัะฐะป ะดะพ ะฒะพััะผะธ ะปะตั ัะพะปัะบะพ ะฟะพัะพะผั, ััะพ ะฒัะต ะฒ ะดะพะผะต ะฑัะปะพ ะฝะพัะผะฐะปัะฝะพ, ะฐ ะฒ ะฒะพัะตะผั ะณัะพะผะบะพ ัะบะฐะทะฐะป:
โ ะะพัะต ั
ะพะปะพะดะฝัะน.
ะขะตะฟะตัั ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ะปะตะถะฐะปะธ ััะธะฝั ะบะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะน ัะบะพะปั, ะบะพัะพัะฐั ะฒัะถะธะปะฐ ะฒะพ ะฒัะตะผะตะฝะฐ ะฒัะตั
ัะตััะพัะพะฒ, ะฝะพ ะฝะต ะฟะตัะตะถะธะปะฐ ัะฟะพั
ะธ ะะตะปะธะบะพะณะพ-ะะต-ะะฐะดะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะผะพะณะปะฐ ะดััะฐัั ะดะฐะถะต ัะตัะพะฒะพะดะพัะพะดะพะผ, ะฝะพ ะฝะต ัะผะตะปะฐ ัััะตััะฒะพะฒะฐัั ะฒ ะฒะฐะบััะผะต. ะะปะฐะณะพัะพะดะฝัะต ะฝะฐัะพะดะฝะธะบะธ, ะฑะตะทัะผะฝัะต ัะฐัะธะพะฝะฐะปะธััั, ัะตะปะธะณะธะพะทะฝัะต ะฝะธะณะธะปะธััั, ะฑะพัะพะดะฐััะต ะบะปะฐััะธะบะธ, ะฑัะธััะต ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะดะธััั, ัะฐะผะพะดะพะฒะพะปัะฝัะต ะฝะพะฒะฐัะพัั, ะฒะตัะฝะพ ะพะฟัะฐะฒะดัะฒะฐััะธะตัั ะผะตะฝััะธะฝััะฒะฐ, ะพะฑัะตัะตะฝะฝัะต ะณะตะณะตะผะพะฝั ะธ ะฟัะพัะธะต ั
ะพะดััะธะต ะพะบััะผะพัะพะฝั ััััะบะพะน ะถะธะทะฝะธ ัะฐััะตัะปะธัั ัะตะฟะตัั ะฒ ััะพะผ ั
ะพะปะพะดะฝะพะผ ะฒะตััะต, ะฒ ััะฝะพะผ ะธ ัะพะปะฝะตัะฝะพะผ ะดะฝะต ัะพััะธะนัะบะพะณะพ ะฟัะตะดะทะธะผัั, ะธ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธ ะผะฐะปะตะนัะตะน ะฝะฐะดะตะถะดั, ััะพ ะพะฝะธ ะบะพะผั-ะฝะธะฑัะดั ะตัะต ะฟะพะฝะฐะดะพะฑัััั, ะธะฑะพ ัะฐะบะธะต ัััััะตะปะตัะฝะธะต ะธััะพัะธัะตัะบะธะต ะบัััะตะทั ะฝะต ะฟะพัะฒะปััััั ะฝะฐ ะทะตะผะปะต ะดะฒะฐะถะดั.
โ ะงัะพ ะถะต, โ ัะฟัะพัะธะป ะฝะฐะบะพะฝะตั ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะงัะพ ะฒั ะฝะฐะผ ัะบะฐะถะตัะต, ะัะฒะพะฒะธั?
โ ะะธัะตัะฐัััะฐ ะฑะพะปััะต ะฝะต ัะฐะฑะพัะฐะตั, ะฝัะถะฝะพ ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ะดััะณะพะต, โ ะพัะฒะตัะธะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ, ะดะฐะฒะฝะพ ะถะดะฐะฒัะธะน ััะพะณะพ ะฒะพะฟัะพัะฐ.
โ ะขะธะฟะฐ ะฅะฐะฑะฐัะพะฒัะบะฐ? โ ััะพัะฝะธะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ.
โ ะ ะ ะพััะธะธ ะฒัะต ะฒะพะพะฑัะต ััะตะทะถะฐะตั ะฝะฐ ะะพััะพะบ, โ ะฟะพะฒัะพัะธะป ะกะพะฑะพะปะตะฒ ะปัะฑะธะผัั ะผััะปั, โ ะผะพะถะตั, ะธ ะฝะฐ ะะฐะปัะฝะธะน. ะะพ, ะฟะพ-ะผะพะตะผั, ััะพ ะฝะต ะพัะตะฝั ะธะฝัะตัะตัะฝะพ.
โ ะขะพ ะตััั ะฒัะต ะทะฐะฒะธัะธั ะพั ะฝะฐั? โ ััะพัะฝะธะปะฐ ะะธะทะฐ.
ะกะพะฑะพะปะตะฒ ะพะฑะฒะตะป ะฒะทะณะปัะดะพะผ ัะฒะพะธั
ะพะดะธะฝะฝะฐะดัะฐัะธะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ, ะบะพัะพััั
ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ัะฐััะฐัะบะธะฒะฐะปะฐ ะฒ ััะพัะพะฝั ะดััะณะฐั ะถะธะทะฝั, ะธ ะฝะต ะฝะฐัะตะป ะฒ ะฝะธั
ะฝะธะบะฐะบะพะน ะตะดะธะฝะพะน ะดะพะผะธะฝะฐะฝัั. ะะฝะธ ะฑัะปะธ ัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะพ ัะฒะพะฑะพะดะฝัะผะธ, ะฝะพ ะธ ััะตะทะฒััะฐะนะฝะพ ะบะพะฝัะพัะผะฝัะผะธ; ะฝะธ ะพั ะบะพะณะพ ะฝะต ะทะฐะฒะธัะตะปะธ, ะฝะพ ะฝะธ ะฒ ะบะพะผ ะธ ะฝะต ะฝัะถะดะฐะปะธัั; ัะผะตะปะธ ะฟะพััะพััั ะทะฐ ัะตะฑั ะฟะตัะตะด ัะปะฐะฑัะผะธ ะธ ะพัะปะธัะฝะพ ะปะฐะดะธะปะธ ั ัะธะปัะฝัะผะธ. ะะฝะธ ะฒะพะฑัะฐะปะธ ะฒ ัะตะฑั ะฒะตัั ะพะฟัั ััะพะน ัััะฐะฝั, ัะตะผัะธ ะธ ัะบะพะปั ะธ ะฟะพัะพะผั ะฑัะปะธ ะพะดะธะฝะฐะบะพะฒะพ ะณะพัะพะฒั ะบะพ ะฒัะตะผั. ะะฟะตัะฒัะต ะฒ ะธััะพัะธะธ ะพะฝะธ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะผะพะณะปะธ ัะตัะธัั ะฒัะต ัะฐะผะธ, โ ะธ ัะพัะฝะพ ัะฐะบ ะถะต ะฒะฟะตัะฒัะต ะพั ะธั
ะฒัะฑะพัะฐ ะฝะธัะตะณะพ ัะถะต ะฝะต ะทะฐะฒะธัะตะปะพ.
ะกะพะฑะพะปะตะฒ ะฟะพะปะพะถะธะป ะบ ะทะฐะฑะพัั ัะธะณะฝะฐะปัะฝัะน ัะบะทะตะผะฟะปัั ัะพะผะฐะฝะฐ ะธ ะทะฐะบััะธะป, ะฒะฟะตัะฒัะต ะฝะต ััะตัะฝัััั ะดะตัะตะน.
โ ะ ััะพ ะดะตะปะฐัั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ.
โ ะัะปะธ ะฑั ะทะฝะฐัั, โ ััะผะตั
ะฝัะปัั ะกะพะฑะพะปะตะฒ, ะธ ะฒัะต ะผะฐะปััะธะบะธ ะฟะพะฒัะพัะธะปะธ ะตะณะพ ะฒะพัะบะปะธัะฐะฝะธะต. ะ ััะพ ะฑัะปะพ ะฑั ะฟัะตะบัะฐัะฝัะผ ัะธะฝะฐะปะพะผ, ะตัะปะธ ะฑั ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะฟะพะดะพัะตะดัะธะน ัะตะปะพะฒะตะบ ะฒ ะบะฐะผััะปัะถะต ะฝะต ัะบะฐะทะฐะป ะธะผ ะพัะธะฟัะธะผ, ะฝะพ ะฑะพะดััะผ ะณะพะปะพัะพะผ:
โ ะ ะฐัั
ะพะดะธัะตัั, ะฝะตัะตะณะพ ััั.
ยซะะปะฐัั!ยป: ะะฒะณะตะฝะธั ะะตััะพะฝะธะฝะฐ. ะญะฟะธะปะพะณ


ะัั ะดะฐะปัะฝะตะนัะตะต ะฒะตััะผะฐ ัะผััะฝะพ ะธ ะฝะตััะฝะพ ะฑัะปะพ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะพ ะธ ะธะทะปะพะถะตะฝะพ ะฟะพัะพะผ, ะณะพัะฐะทะดะพ ะฟะพะทะถะต ะะธะทะพะน ะะตะนะฝะตะฝ ะฒ ัะฒะพัะผ ะฑะปะพะบะฝะพัะต, ะฟะพะปััะตะฝะฝะพะผ ะตะน ะฟัะธ ััะพะปั ะทะฐะฟััะฐะฝะฝัั ะธ ััะผะฐะฝะฝัั ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะฐั ะพั ะะฐััะธ ะะปะตะบัะตะตะฒะฝั. ะะพะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะธ, ะฑัะดัะพ ะดะพะปะณะพะต ะตัั ะฒัะตะผั ะฝะต ะฟะพัะฒะปัะปะฐัั ะพะฝะฐ ะฝะธ ะฟัะตะด ะดััะทััะผะธ ัะฒะพะธะผะธ, ะฝะธ ะฟัะตะด ััะตะฝะธะบะฐะผะธ ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป, ั ะพัั, ะฟะพ ะฝะตะบะพัะพััะผ ัะปะพะฒะฐะผ ะัะฑะพัะบะพะณะพ, ะพะฝะฐ ะผะตะปัะบะฐะปะฐ ะฒ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต ั ะธััะพั ัะตะณะพ ะดัะฑะฐ ะฝะต ัะฐะท ะธ ะฑัะดัะพ ะฑั ะฒัั ั ัะตะผ ะถะต ะฑะปะพะบะฝะพัะฐะผ ะฒ ััะบะฐั . ะกะฐะผ ะถะต ะะฝะดัะตะน ะณะพะฒะพัะธะป ะธ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะป ะพ ะฝะตะน ะฝะตั ะพัั, ะฐ ะตัะปะธ ะบัะพ ะธ ะฒัะฟัััะฒะฐะป ะพั ะฝะตะณะพ ััะพ-ัะพ, ั ะผััะธะปัั, ะณัะพะทะฝะพ ัะดะฒะธะณะฐั ะฑัะพะฒะธ ะธ ะพัะฒะพัะฐัะธะฒะฐััั.
ะะทะฒะตััะฝะพ, ะพะดะฝะฐะบะพ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพ ะธ ัะพัะฝะพ, ััะพ ะฟะพัะปะต ัะพะน ยซัะพะบะพะฒะพะนยป ะฝะพัะธ ะธ ะฒัััะตัะธ ั ะฝะตะบะพัะพััะผ ะะธะปะธะฑะธะฝะพะผ ะพะฑะธัะฐัะตะปะธ ะะฐะปะฐััะฒะบะธ ะฒััะตะปะตะฝั ะฑัะปะธ, ะฟัะธััะผ ะฝะธะบัะพ ะธะท ะฝะธั ะฝะต ัะพะฟัะพัะธะฒะปัะปัั ะธ ะฝะต ัะถะฐัะฐะปัั ััะฐััะธ ัะฒะพะตะน. ะะฐะฟัะพัะธะฒ, ะผะฝะพะณะธะต ะดะฐะถะต ัะฐะดั ัะพะผั ะฑัะปะธ, ััะพ ะฒัะตะผ ััะธะผ ะฑะตะทัะผััะฒะฐะผ ะธ ะผัะฐะบะพะฑะตัะธัะผ ะฟัะธััะป ะบะพะฝะตั. ะะฝะฝะฐ ะถะต ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะพ ะบะพัะพัะพะน ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐะปะธ ั ะฝะตะพะฑัะบะฝะพะฒะตะฝะฝะพะผ ััะตะฟะตัะพะผ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฒ ะบััะณั ัะบะพะปััะพะฒ, ะฝะพ ะธ ะผะตะถ ะถะธัะตะปัะผะธ ัะฐะนะพะฝะฐ ัะพะถะต, ั ะณะพะด ะถะธะปะฐ ะตัั ะฝะฐ ะฟัะตะถะฝะตะผ ะผะตััะต ัะฒะพัะผ. ยซะะตะปะธัะฐะนัะธะน ะฟัะพะตะบัยป ัะฒััะฝัั ะฝะต ะฑัะป ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะพัััะตััะฒะปััััั ั ะตัั ะฑะพะปััะตั ัะธะปะพะน.
ะะฐะบ ัะบะฐะทะฐะฝะพ ะฑัะปะพ ะฒััะต, ัะตะฑััะฐ ะฑัะปะธ ัะฐะทะปััะตะฝั, ัะฐะบ ััะพ ะฒััะบะธะต ะฟะตัะตัะตัะตะฝะธั ะธั ะดััะณ ั ะดััะณะพะผ ะฝะฐ ะผะธะณ ะฟัะตะบัะฐัะธะปะธัั. ะกะปััะธะปะพัั ะถะต ัะพ ะฝะต ัะฐะฝััะต ะพะบััะฑัั ะธ ะฝะต ะฟะพะทะถะต ะฝะพัะฑัั, ะบะพะณะดะฐ ะพัะตะฝั, ะฒัั ะฑะพะปะตะต ะฟัะพัััะฒะฐั ะธ ัะตะดะตั, ัะฒัะดะฐั ะธ ััััะฟะฐั ะผะตััะพ ะธะฝะพะน ะฟะพัะต, ััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั ะฝะตััะตัะฟะธะผะพ ะผะตัะทะปะพั ะธ ะฝะตะฟัะธััะฝะพั, ะผะตะถะดั ัะตะผ ัะปะธะทะบะพั ะธ ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐััะตะน ะบะพะต-ััะพ ะพ ะปะตัะต. ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, ะฟะพ ะพะฑัะบะฝะพะฒะตะฝะธั ัะฒะพะตะผั, ะฒะพะทะฒัะฐัะฐััั ะดะพะผะพะน ะฟะพัะปะต ัะบะพะปั, ะทะฐะณะปัะฝัะปะฐ ะฒ ะบะพัะตะนะฝั, ะณะดะต ะฝะตะบะพะณะดะฐ ัะถะต ะฒัััะตัะฐะปะธัั ะฝะฐัะธ ะณะตัะพะธ. ะัะปะพ ัะณััะผะพ ะธ ะฟัััะพ, ะฝะพ ัะตะน-ัะพ ะฒะทะณะปัะด, ะฟัะธััะฐะปัะฝัะน ะธ ะฒ ัะฟะพั ะณะปัะดััะธะน, ัะดะธะฒะธะป ะธ ัะบะพะฒะฐะป ะตั ะฝะฐ ะผะตััะต. ะ ะดะฐะปัะฝะตะผ ะบะพะฝัะต, ะฒ ัะฐะผะพะผ ััะผะฝะพะผ ัะณะปั, ัะฐัะฟะพะปะพะถะธะปัั ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ.
-ะขั, ััะพ ะปะธ? โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะัะปั, ัะฐัะฟะปัะฒัะธัั ะฒ ัะฐะผะพะน ะดะพะฑัะพะดััะฝะพะน ัะปัะฑะบะต.
ะะฝ ะบะธะฒะฝัะป ะณะพะปะพะฒะพะน. ะะธะด ะตะณะพ ะฑัะป ัััะฐะปัะน ะธ ะฒ ัะพ ะถะต ะฒัะตะผั ัะพััะตะดะพัะพัะตะฝะฝัะน ะฝะฐ ะบะฐะบะพะผ-ัะพ, ะฟะพ-ะฒะธะดะธะผะพะผั, ะทะฐะฝะธะผะฐััะตะผ ะตะณะพ ะฟัะตะดะผะตัะต. ะ ัะพะฝะบะธั ะธ ะบะพััะปัะฒัั ะฟะฐะปััะฐั ะผะตะปัะบะฐะปะพ ััะพ-ัะพ ะฒัะพะดะต ะฟะธััะผะฐ ะธะปะธ ะฑัะผะฐะณะธ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ะัะปั ะธะทะดะฐะปะธ ะฝะต ัะณะปัะดะตะปะฐ. ะฃัะตะฒัะธัั ะถะต ะฟะพะดะปะต ะฝะตะณะพ, ะพะฝะฐ ะทะฐะผะตัะธะปะฐ, ััะพ ะปะธัะพ ะตะณะพ ะทะฐ ะฟัะพัะตะดัะธะน ะณะพะด ัะธะปัะฝะพ ะฟะพัะตัะตะปะพ ะธ ะธัั ัะดะฐะปะพ. ะะฝ ะฑัะป ัะตะผ-ัะพ ะพะทะฐะดะฐัะตะฝ.
-ะะฝะฐะตัั, — ัะบะฐะทะฐะป ะะฐัั, ะฒัะผะฐััะธะฒะฐััั ะฒ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธัั, — ะผั ะฒะตะดั ัะพะณะดะฐ ะบะฐะบ-ัะพ ัััะฐะฝะฝะพ ะฒัะต ัะฐะทะพัะปะธััโฆ
-ะะฐ ะฟัะพ ััะพ ัั? ะะต ะฟะพะฝะธะผะฐั ัะตะฑั.
-ะะฐ ะฟัะพ ัั ะฝะพัั-ัะพ, ะฝะต ะฟะพะผะฝะธัั, ััะพ ะปะธ? โ ัััะฐะฒะธะปัั ะพะฝ ะฝะฐ ะฝะตั ัะฐะทะดัะฐะถัะฝะฝะพ.
ะัะปั, ะทะฐะดัะผะฐะฒัะธัั ะธ ะฟัะธะฟะพะผะธะฝะฐั, ะฟะฐัะธัะพะฒะฐะปะฐ:
-ะะพะฝะตัะฝะพ, ััะพ ะบะพะณะดะฐ ัั ะฒะพัะฒะฐะปัั, ะฐ ัะพัะฝะตะต ะทะดะพัะพะฒะพ ะฒัะตั ะฝะฐั ะฟะตัะตะฟัะณะฐะป ัะพะณะดะฐ?
ะะฐัั ะฟัะพะผะพะปัะฐะป, ัะฝะพะฒะฐ ะบะธะฒะฝัะฒ, ะฐ ะทะฐัะตะผ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป, ะฝะพ ัะถะต ะฑะพะปะตะต ัะฒะตัะตะฝะฝะพ, ั ะพะบะฐะผะตะฝะตะฒัะธะผ ะธ ะพัะฒะตัะดะตะฒัะธะผ ะณะพะปะพัะพะผ:
-ะญัะพ ะฝะฐัะฐะปะพัั, ัะตััะฝะพ, ะดะฐะฒะฝะพ, ะฝั, ะฒัั ััะฐ ะธััะพัะธั ั ะะพะปะฝะฐะผะธ, ะพ ะบะพัะพัะพะนโฆ
-ะ ะฝะต ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะน! โ ะผะฐั ะฝัะปะฐ ะฑัะปะพ ััะบะพะน ะัะปั, ะฝะพ ะกะตะปะตะทะฝัะฒ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป, ะฝะต ะพะฑัะฐัะฐั ะฝะฐ ะฝะตั ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั.
-โฆัะฐะบ ะผะฝะพะณะพ ะฟะพัะพะผ ะณะพะฒะพัะธะปะธ. ะะตะปะพ ััะพ, ะบะฐะบ ะฟะพะผะฝะธัั, ะทะฐะผัะปะพัั ะธ ะดะฐะถะต ะฟะพะทะฐะฑัะปะพัั. ะะพ ััะพ-ัะพ ะฒัั-ัะฐะบะธ ะพััะฐะปะพัั. ะะธะทะฐโฆะะฐ ััะพ ะะธะทะฐ! ะกะผะตะปะพััะธ ะฝะต ั ะฒะฐัะธะปะพ, ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั! ะะฐั, ะดะฐัโฆะะพะฝััะฝะพ ะถะต ะธ ัะพะณะดะฐ ะฑัะปะพ. ะะพั ัะตะนัะฐั, ะบะฐะบ ะพะฝะฐ ัะตั ะฐะปะฐ, ะพ ะฝะตะน ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ะธ ะฟะพะทะฐะฑัะปะธ, ะฝั, ัะพัะฝะพ ัะพะณะพ ะธ ะฝะต ะฑัะปะพ. ะ ะฒัั-ัะฐะบะธ ะฑัะปะพ, ะฒ ัะฐะผะพะผ ััะพ ะฝะธ ะฝะฐ ะตััั ะฝะฐััะพััะตะผ ะฒะธะดะต. ะะพััะธ ะฒะตะดั ั ัะฐะทะณะฐะดะบะธ ะฑัะปะธ! ะฃะฟัััะธะปะธ! ะะธะทะฐ-ัะพ ะฒัั ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะผะฝะต, ะฑัะดัะพ ะฝะธะบัะพ ะธะท ะฒะฐั ะธ ะฝะต ะฒะตัะธั, ัะพะผะฝะตะฒะฐะตัะตัั, ะฑัะดัะพ ะธ ะฝะตัะตะณะพ ั ะฒะฐะผะธ ะดะตะปะพ ะธะผะตัั. ะ ะพััะพะณะพ ััะพ ัะพะผะฝะตะฒะฐะปะธัั, ะธ ััั ะฝัะปะพ ะฒัั, ะบะฐะบ ะผัะปัะฝัะน ะฟัะทััั! ะะดะฝะฐ, ะณะพะฒะพัะธั, ัะพะปัะบะพ ะตััั, ะบัะพ ะฒ ััะดะตัะฐ-ัะพ ะฟะพะฒะตัะธัั ะผะพะถะตั, ะฝะต ะดัะผะฐัโฆ
ะขัั ะพะฝ ั ะดะพัะฐะดะพั ะบะฐัะฝัะป ะณะพะปะพะฒะพะน, ะฝะต ะทะฝะฐั, ะบัะดะฐ ะดะตัั ัะฒะพะน ะฒะทะณะปัะด, ะธ, ะพััะฐะฝะพะฒะธะฒัะธัั ะฝะฐ ะฟะพะถะตะปัะตะฒัะธั ะพะฑะพัั , ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ััะบะพ ะบัะฐัะฝัะผะธ ะธ ั ะฑะตะปัะผะธ ัะฒะตัะฐะผะธ, ัะตะฟะตัั ะฟะพะฑะปะตะบัะธั ะธ ะฟะพััะฐัะตะฒัะธั , ัะบะฐะทะฐะป:
-ะ ะทะฝะฐะตัั, ะธ ะพะฑัััะฝััั-ัะพ ััั ะฝะตัะตะณะพ! ะะฐ ะธ ะฝะต ะดะปั ัะพะณะพ ัั, ะฒะตัะฝะพ, ััั.
ะก ััะธะผะธ ัะปะพะฒะฐะผะธ ะะฐัั ะฟัะพััะฝัะป ะตะน ะบะพะฝะฒะตัั, ะบะพัะพััะน ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, ะฒัะตะฟะธะฒัะธัั ะฒ ะฝะตะณะพ ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ัะถะต ัะพะฑัะฐะปะฐัั ะฑัะปะพ ะทะฐะฑัะฐัั. ะะพ, ะพัะดััะฝัะฒ ััะบั ะฒ ัะฐะผัะน ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะผะพะผะตะฝั, ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะป ััะพ-ัะพ ะฒัะพะดะต ยซะะฐะฑะธัะฐะนัะต!ยป, ะฑัะพัะธะฒ ัะปะพะถะตะฝะฝัั ะฑัะผะฐะณั, ะธ ัะธัะพะบะธะผ ัะฐะณะพะผ ะฒััะตะป ะธะท ะบะพัะตะนะฝะธ. ะัะปั ะพะฑะตัะฝัะปะฐัั: ะฟะพะฝััะพะต ะฝะตะฑะพ ะฒัะณะปัะดัะฒะฐะปะพ ะธะท-ะฟะพะด ะณััะทะฝัั ะพะบะพะฝ, ะดะตัะตะฒัั ััะตะฟะฐะปะธัั ะฒะตััะพะผ ะธ, ะฟะพะบะฐัะธะฒะฐััั, ะณัะพะทะธะปะธ ะฟัะพั ะพะถะธะผ, ัะฝะพะฒะฐะฒัะธะผ ะธ ะฟัะพะฑะตะณะฐะฒัะธะผ ะผะธะผะพ.
ะะตะดะพะปะณะพ ะดัะผะฐั, ะพะฝะฐ ั ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะฑะตัะตะฝัะผ ะฝะตัะตัะฟะตะฝะธะตะผ ะธ ะถะฐะดะฝะพัััั ะณะพะปะพะดะฝะพะณะพ ะทะฒะตัั ัะฐะทะพัะฒะฐะปะฐ ะฟะธััะผะพ ะธ ัะณะปัะฑะธะปะฐัั ะฒ ะฝะตะณะพ:
ะัะตะดะธัะปะพะฒะธั ะฑัะปะธ ะฑั ะทะดะตัั ะปะธัะฝะธะผ ะธ ะฝะตะฝัะถะฝัะผะธ, ะดะฐะถะต, ะดัะผะฐั, ะฒัะตะดััะธะผะธ. ะัะพะทะฝะฐั ะฒัั ะฒะธะฝั ัะฒะพั ะฟะตัะตะด ะฒะฐะผะธ, ะฝะพ ะธะทะฒะธะฝััััั ะฝะธัััั ะฝะต ะฝะฐะผะตัะตะฝะฐ. ะัั ะฟัะพัะปะพะต โ ะฝะฐััะพััะตะต ะฑะตะทัะผะธะต, ัะพะทะดะฐะฝะฝะพะต ะผะฝะพะน, ะฟะพัะพะผั ะพัะฒะตัะฐั ะทะฐ ะฝะตะณะพ ะฏ. ะะต ะดัะผะฐะนัะต, ะฑัะดัะพ ะฒ ัะพะผ ะฒะธะฝะพะฒะฐั ะบัะพ-ัะพ ะตัั. ะะพ ะฟะพะฒะตัััะต ะผะพะตะผั ัะปะพะฒั. ะจะตัะณะธะฝะฐ ะทะดะตัั ะฝะต ะฟัะธ ััะผ, ะดะฐ ะธ ะฝะธะบัะพ, ะฒะฟัะพัะตะผ, ัะพะถะต. ะัั ะดะตะปะพ โ ะฒะฐัะต ะธ ะฒ ะฒะฐั, ัะฐะบ ะดะพะฒะตัััะตัั ะถะต ัะตะฑะต!
ะ. ะะตะนะฝะตะฝ
ะัะปั ัััะบะฝัะปะฐ, ะบะพัััั ะธ ะพัะบะปะฐะดัะฒะฐั ะฟะธััะผะพ. ยซะะฐะดะพ ะถะต, ะฒะธะฝะธััั ะฟะตัะตะด ะฝะฐะผะธ! ะงัะพ ะฒัะดัะผะฐะปะฐ!ยป — ะดัะผะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, ะฝะฐะบะปะพะฝะธะฒ ะณะพะปะพะฒั. ะะฝะฐ ะฟะพะผะฝะธะปะฐ ะพ ัะพะผ ะดะฝะต ััะฝะพ ะธ ะฒะตัะธะปะฐ ะฒัะตะผั ะฒ ะฟะพะปะฝะพะน ะผะตัะต ะธ ะพัะตะฝั ัะดะธะฒะปัะปะฐัั, ะบะพะณะดะฐ, ะบ ะฟัะธะผะตัั, ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน ั ะฝะตะดะพัะผะตะฝะธะตะผ ะฝะฐ ะฝะตั ะฟะพัะผะฐััะธะฒะฐะป, ะบะพะณะดะฐ ัะฐะบ ะฝะฐัะธะฝะฐะปะฐ ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐัั ะพ ะะธะทะต, ะธะปะธ ะบะพะณะดะฐ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ ัะผะตัะปัั ะฝะฐะด ะตั ะฟัะพััะฑะฐะผะธ ัะพะฑะธัะฐัััั, ะบะฐะบ ัะฐะฝััะต, ะฒ ะตะณะพ ะบะฒะฐััะธัะต, ััะพ ะฝะฐ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ. ะะพัะพะน ะฟะตัะตะด ะฝะตั ะฒัะฟะปัะฒะฐะปะฐ ัะฐ ััะตะฝะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะดะฒะตัั, ั ััะตัะบะพะผ ัะฐัััะฟะฐะปะฐัั, ะพัะบััะปะฐ ัะตะฑััะฐะผ ัะตะผะฝะพัั ะบะพัะธะดะพัะฐ ะธ ััะธ-ัะพ ะผะตะดะปะตะฝะฝัะต, ะปะตะฝะธะฒัะต ัะฐะณะธ, ะธ ะบะพะณะดะฐ ัะฒะตัะธ, ะฟะพััั ะฝัะฒ, ะฟะตัะตััะฐะปะฐ ะฑััั ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะผ ัะฟะฐัะตะฝะธะตะผ ะธ ะผะฐัะบะพะผ ะฒ ัะตะผะฝะพัะต. ะ ะัะปั ัะถะฐัะฝะพ ะฑะพัะปะฐัั ัะตะผะฝะพัั!
ะะผะตะฝะฝะพ ัะพะณะดะฐ-ัะพ ะธ ะธััะตะทะปะฐ ะะธะทะฐ, ัะพะณะดะฐ-ัะพ ะพะฑ ะฝะตะน ัะฐะทะพะผ ะธ ะทะฐะฑัะปะธ, ะธ ะฒะพั ัะตะฟะตัั ะฟะธััะผะพโฆ
***
-ะะฐ ัะฐะทะฒะต ะผะพะถะฝะพ? ะะพะพะฑัะฐะทะธัะต ัะตะฑะต! โ ััะผะตั ะฐะปัั ะะฝะดัะตะน.
-ะขั ััะพ, ะัะปัะบะฐ, ัะถ ะฝะต ั ัะผะฐ ะปะธ? โ ัะปัะฑะฐะปัั ะคะตะดัะบะฐ, ะทะฐััะณะธะฒะฐั ัะธะณะฐัะตัั.
ะะดะต-ัะพ ัะปัะฑะฐะปะธัั ัััััั ะะฐัะฐะนัะตะฒั, ะฟะพะพะดะฐะปั โ ะะพะปะธะฝะฐ. ะัะปั ะฒัั ะฒะฐัะธะปะฐ ั ััะพัััั ะฟะธััะผะพ ะธ ั ัะบะพัะพะผ ะฟะพะณะปัะดะตะปะฐ ะฝะฐ ะฝะธั .
-ะะฐ ะฝะตัะถะตะปะธ ะฝะต ะฟะพะผะฝะธัะต? ะะพั ะฒะตะดั, ัะพะฑะตัะตัััั, ะฐ ัะตะฑะตโฆ ะะฐ ะฒะตะดั ะะธะทะบะฐ-ัะพ, ะะตะนะฝะตะฝ, ะธ ัั, ะัะฑะพัะบะธะน, ะฝะต ะฟะพะผะฝะธัั, ััะพ ะปะธ?
ะขะพั ะฟะตัะตะณะปัะฝัะปัั ั ะะพัะพั ะพะฒัะผ ะธ, ะตะปะต ัะดะตัะถะธะฒะฐั ัะผะตั , ะฟะพะบัะฐัะฝะตะฒ ะพั ััะธะปะธะน ะธ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะตะตััะตััะฒะตะฝะฝะพ ัะปัะฑะฐััั, ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะป ัะบะพัะพะณะพะฒะพัะบะพะน:
-ะ ััะผ ัั?
ะัะปั ะฒะทะดะพั ะฝัะปะฐ ะธ ะฟะพะบะธะฝัะปะฐ ะบะพะผะฟะฐะฝะธั.
***
ะัะพั ะพะดั ะผะธะผะพ ะบะพัะตะนะฝะธ ั ะฟะพััะตัะบะฐะฒัะตะนัั ะฒัะฒะตัะบะพะน, ะพะณะปัะดัะฒะฐั ะตัั ะฝะต ัะฝะตััะฝะฝัั ะธ ัะตะปัั ะณะธะผะฝะฐะทะธั, ัะพะดะฝัั ยซะะฒะตะฝะฐัะบัยป, ะัะปั ะฒะดััะณ ะฟัะธะฟะพะผะฝะธะปะฐ ะะฐัั, ะตะณะพ ะฒะธะด, ะตะณะพ ัะปะพะฒะฐ ะธ ัััะฐะฝะฝัั ะทะฐะดัะผัะธะฒะพััั. ะะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะฟะพ ะดะพัะพะณะต, ะพััะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐััั, ัะฐะทะฒััััะฒะฐะปะฐ ะฑัะผะฐะณั, ัะถะต ัะบะพะผะบะฐะฝะฝัั ะธ ะผะฝะพะณะพะบัะฐัะฝะพ ะทะฐัะฐะปะตะฝะฝัั ะฟะฐะปััะฐะผะธ, ัะธัะฐะปะฐ ะธ ะฒะฝะพะฒั ะฟะตัะตัะธััะฒะฐะปะฐ ั ะฑะพะปะตะทะฝะตะฝะฝัะผ ัะถะต ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะตะผ ะฝะตะผะฝะพะณะพัะปะพะฒะฝะพะต ะฟะพัะปะฐะฝะธะต, ะฝะพ ะพัะฒะตัะฐ ะฝะต ะฝะฐั ะพะดะธะปะฐ.
ะะณะปัะดัะฒะฐะปะฐัั ะฟะพ ััะพัะพะฝะฐะผ ั ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะพััะตัะตะฝะฝะพัััั ะธ ัะฐััะตัะฝะฝะพัััั, ะธ ััั ะพัะปะตะฟะธะปะฐัั ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะฑะปะตัะบะพะผ, ะฟะพั ะพะถะธะผ ะฝะฐ ัะพั, ััะพ ะฑัะฒะฐะตั ะพั ะทะพะปะพัะฐ. ะัะตะด ัะพะฑะพั, ะฝะฐ ะผะตััะต ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ, ััะฝะพ ัะฒะธะดะตะปะฐ ัะตัะบะพะฒั, ัะฟะพะบะพะนะฝัั ะธ ะผะธัะฝะพ ััะพัะฒััั, ะฑะตะปัะต, ะผะตััะฐะผะธ ะพะฑะฒะฐะปะธะฒัะธะตัั, ััะตะฝั; ะทะพะปะพัะพะน ะบัะฟะพะป, ะฒะพะทะฒััะฐััั ะฝะฐะด ะธะฝัะผะธ, ัะธัะป ะฝะฐ ัะพะปัะบะพ ััะพ ะฟะพะบะฐะทะฐะฒัะตะผัั ัะพะปะฝัะต. ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ ะฒััััั ะฝัะปะฐ ะณะพะปะพะฒะพะน, ะทะฐะถะผััะธะปะฐัั ะบัะตะฟะบะพ, ะฐ ะฟะพัะพะผ, ัะฐัะบััะฒ ะณะปะฐะทะฐ, ัะฒะธะดะตะปะฐ ะฟัะตะถะฝัั ัะฒะพั ะณะธะผะฝะฐะทะธั.
-ะะฐะดะพ ะถะต! โ ะฟัะพะฑะพัะผะพัะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โะ ะบะฐะบ ััะพ ะพะฝะธ ัะพะณะพ ะฝะต ะทะฐะผะตััั ะธ ะฝะต ะฒัะฟะพะผะฝัั?
ะัะพั ะพะดั ะผะธะผะพ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ, ะฒะทะณะปัะฝัะปะฐ ะฑัะปะพ ะฝะฐ ัััะฝัะต ัะณััะผัะต ะพะบะฝะฐ ะบะฐะฑะธะฝะตัะฐ ะปะธัะตัะฐัััั. ะะฐะบะฐั-ัะพ ัะธะณััะฐ ัะฒะฝะพ ะฟัััะฐะปะฐัั ะทะฐ ััะตะฝะพะน. ะัะปั ะฒะณะปัะดะตะปะฐัั ะธ, ะฒะทะดัะพะณะฝัะฒ, ะฟะพัะฟะตัะธะปะฐ ะดะฐะปััะต. ะะฐะบ ะฟัะธะทะฝะฐะฒะฐะปะฐัั ะพะฝะฐ ะฟะพัะพะผ, ะตะน ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ัะฐะผ, ะฒ ััะพะผ ะผะตััะต, ััะพัะปะฐ ะะธะทะฐ.
ะะพะผะพะน ะฒะพะทะฒัะฐัะฐะปะฐัั ะฟะพะทะดะฝะพ. ะ ัะฐะบะธะต ะฒะพั ะฒะตัะตัะฐ, ะพัะตะฝะฝะธะต ะธ ะดะฐะปัะบะธะต, ะทะฒัะทะดั ะฝะฐ ัะธะพะปะตัะพะฒะพ-ัััะฝะพะผ ะฝะตะฑะต ะบะฐะทะฐะปะธัั ัััะต, ะดะพัะพะณะฐ โ ะดะปะธะฝะฝะตะต, ะฐ ะพะดะธะฝะพัะตััะฒะพ โ ะพัััะธะผะตะต. ะะตะดัะฝะพะน ะฒะตัะตั ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ะฟัะพะฑะตะณะฐะป ะฟะพ ะตั ัะฟะธะฝะต, ะณะดะต-ัะพ ะถะตะปัะตะป ะธ ะดัะตะฑะตะทะถะฐะป ะพััะฐัะฝะฝะพ ัะพะฝะฐัั, ะณะดะต-ัะพ ัะปััะฐะปะธัั ะณะพะปะพัะฐโฆ
ะะพะดะฝะธะผะฐััั ะฟะพ ะฟัะปัะฝะพะน ะปะตััะฝะธัะต, ะณะปะพัะฐะปะฐ ััะฟะปัะน ะผัะณะบะธะน ะฒะพะทะดัั , ัะฐัะบะฐะปะฐ ะบะฐะฑะปัะบะพะผ ะฟะพ ะฟะพะปั ะธ ะฝะตะฒะพะปัะฝะพ ะพัะผะฐััะธะฒะฐะปะฐัั, ะฟัะธัะปััะธะฒะฐะปะฐัั, ะดัะผะฐะปะฐ. ะขะธัะธะฝะฐ. ะะธัั ะพัะดะฐะปัะฝะฝะพ ะณะดะต-ัะพ ะณัะดัั ะฟัะพะฒะพะดะฐ. ะกะฒะฐะปะธะฒัะธัั ะธ ะพะฟะตัะตะฒัะธัั ะฒัะตะผ ัะตะปะพะผ ะฝะฐ ัััะป, ะัะปั, ัะฟัััะธัั ะณะพะปะพะฒะพะน ะพ ััะบะธ, ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะพ ะณะปัะดะตะปะฐ ะฒ ะพะดะฝั ัะพัะบั ะธ ะฒะดััะณ ะฝะตะฒะพะปัะฝะพ ะฒัะบัะธะบะฝัะปะฐ: ะฝะฐ ััะพะปะต, ะฝะฐ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพะผ ะตั ะฟะธััะผะตะฝะฝะพะผ ััะพะปะต ะปะตะถะฐะป ะฑะปะพะบะฝะพั, ัะพั ัะฐะผัะน. ะะตัะฒัั ัััะฐะฝะธัั ะพะบะฐะนะผะปัะปะฐ ะฝะฐะดะฟะธัั:
ะัะฝัะฝะต ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะธั ะัะปะต.
ยซะะปะฐัั!ยป: ะัะต ัะพ ะถะต ะฝะตะฑะพ. ะญะฟะธะปะพะณ. ะะธะบะพะปะฐะน ะะฐะฝัะฝะฝะธะบะพะฒ. ะะฝะดัะตะน ะะธะบะพะฝะพัะพะฒ



23 ะผะฐั ั ะะฝะธ, ะะฝะดัะตั ะธ ะะตัะธ ะฒ WordApp ะฟะพัะฒะธะปะฐัั ะฝะพะฒะฐั ะฑะตัะตะดะฐ — ยซะะฐัะฐ ะฒัััะตัะฐยป. ะ ะฟัััั ะพะฝะธ ะฝะฐั ะพะดะธะปะธัั ะฝะฐ ัะฐะทะฝัั ะบะพะฝัะฐั ะณะพัะพะดะฐ, ะฒัะต ะพะดะธะฝะฐะบะพะฒะพ ัะดะธะฒะปะตะฝะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ัะพััะฐะฒ ััะฐััะฝะธะบะพะฒ โ ะฒัะต ััะพะต, ะฐ ัะฐะบะถะต ะะธะทะฐ. ะงะตัะตะท ะผะธะฝััั ะฝะฐ ััะตั ัะบัะฐะฝะฐั ะฒััะบะพะปัะทะฝัะปะพ ั ัั ะพะผ ะตะต ัะพะพะฑัะตะฝะธะต:
ยซะะฐะฒะฝะพ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะธัั. ะัะตะดะปะฐะณะฐั ะฒัััะตัะธัััั ัะตัะตะท ััะธ ะดะฝั. ะฃ ะบะพะณะพ?ยป
ะขะพััะฐั ะถะต ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะฝั:
ยซะฃ ะฝะฐั ั ะะฝะดัะตะตะผ ัะฒะพะฑะพะดะฝะพ, ะผะพะถะฝะพ ั ะฝะฐั !ยป
ยซะ ะฟะพัะตะผั ัะฐะบ ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ?.. โ ะทะฐะดัะผัะธะฒะพ ะดะพะฑะฐะฒะธะป ะะตัั. โ ะ ัะตััั ัะตะณะพ?..ยป
ะัะพัะปะฐ ะผะธะฝััะฐ ะธ ะะธะทะฐ ะพัะฟัะฐะฒะธะปะฐ ะฟะพะดะผะธะณะธะฒะฐััะธะน ัะผะพะดะถะธ.
ะงะตัะตะท ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะดะฝะตะน ะฒัะต ัะพะฑัะฐะปะธัั ะฒ ะฟัะพััะพัะฝะพะน, ัััะฝะพะน ะบัั ะฝะต ะจะตัะณะธะฝัั -ะัะฑะพัะบะธั . ะะท ะฒััะพะบะพะณะพ ะพะบะฝะฐ ัะพัะธะปัั ะฝะฐัััะตะฝะฝัะน ะทะตะปะตะฝะพ-ะผะตะดะพะฒัะน ะฒะตัะตัะฝะธะน ัะฒะตั; ะณะดะต-ัะพ ะฒะดะฐะปะธ ัะฐัะปะฐ ะณััะทะฝะฐั ัะฒะฐะฝะฐั ัััะฐ, ะบะฐะบ ะฑั ะพะฑะฝะฐะถะฐั ะฟัะฐะทะดะฝะพะต ะฝะตะฑะพ; ะผะตััะฐััะธะต ะทะตะปะตะฝัั ะบัะฟะพะปะฐ ะดะตัะตะฒัะตะฒ ัะตะฒะตะปะธะปะธัั ะผะพัะตะผ ะผะตะถะดั ะพะดะฝะพัะธะฟะฝัั ะดะพะผะพะฒ; ัะปััะฐะปัั ะทะฐะฟะฐั ะผะพะบัะพะณะพ ะฐััะฐะปััะฐ, ะผะพะปะพะดะพะน ัะฒะตะถะตัะบะพัะตะฝะฝะพะน ััะฐะฒั.
ะัั ะพะฝะฝัะน ััะพะป, ะทะฐ ะบะพัะพััะผ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ, ัะผะธะปะธัะตะปัะฝะพ ะธ ั ัะพะถะฐะปะตะฝะธะตะผ ะณะพะฒะพัะธะปะธ ัะตัะฒะตัะพ ะฒัะตัะฐัะฝะธั ัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ, ััะพัะป ะฟะพะด ะฒััะพะบะธะผ ะดัะฑะพะฒัะผ ะบะฝะธะถะฝัะผ ัะบะฐัะพะผ: ะะตัั ะพัะฒะปะตะบัั ะพั ัะฐะทะณะพะฒะพัะฐ ะธ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ัะพัะฝะธ, ัะพัะฝะธ ัะพะผะพะฒ, ะณะฐะทะตั, ะฟะพะบะตัะฑัะบะพะฒ, ะถััะฝะฐะปะพะฒ, ะฝะพ ะดะปั ัะตะฑั ะฒัะดะตะปะธะป ัะพะปัะบะพ ยซะะพะณะฐัะฐ ะธ ะฑะตะดะฝัะบะฐยป ะัะฐะณัะฝัะบะพะณะพ, ยซะะฝะธโฆยป ะกะปัะถะธัะตะปั (ะฟัะพะดะพะปะถะตะฝะธะต ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธั ััะตัะปะพัั ะพั ะฒัะตะผะตะฝะธ) ะธ ะทะฐะฝะพะฒะพ ะธะทะดะฐะฝะฝัะต ยซะะตััะพะฒั ะฒ ะณัะธะฟะฟะตโฆยป ะกะฐะปัะฝะธะบะพะฒะฐ. ะะตัั ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะผะธะปัะต ัะธะณััะบะธ ัะปะพะฝะพะฒ (ยซะะฝะดัะตะน, ะฝะฐะฒะตัะฝะพ, ะฟัะธะฒะตะท ั ัะพัะตะฒะฝะพะฒะฐะฝะธะนยป, — ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ), ะทะฝะฐะบ ะะปะธะผะฟะธะฐะดั-2014 (ยซะะฐะฒะตัะฝะพ, ะะฝะธะฝ ะพัะตั ัะฐะผ ััะพ-ัะพ ะบััะธัะพะฒะฐะป, ะฒะพั ะธ ะดะฐะปะธ ะตะน ะฟัะตะทะตะฝั ัะฐะบะพะนยป).
ะะตัั ะฟะตัะตะฒะตะป ะฒะทะณะปัะด ะฝะฐ ะะธะทั, ะะฝะดัะตั ะธ ะะฝั.
ะะธะทะฐ ัััะฐััะฝะพ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะพ ัะพะผ, ััะพ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะฒ ยซะ ะตะดะฐะบัะธะธ ะะปะตะณะฐ ะขัะปัะฟะพะฒะฐยป ะธะทะดะฐะปะธ ะตะต ะบะฝะธะณั ยซะะพะนะฝะฐ ะธ ะผะธั ะฒ ะพัะดะตะปัะฝะพ ะฒะทััะพะน ัะบะพะปะตยป ะธ ััะพ ะฟะตัะตะด ะฑะพะปััะธะผะธ ะฟัะตะทะตะฝัะฐัะธัะผะธ ะฝะฐ ะฒัััะฐะฒะบะฐั ะพะฝะฐ ั ะพัะตะปะฐ ะฑั ะฟะพะบะฐะทะฐัั ะตะต ะณะปะฐะฒะฝัะผ ะณะตัะพัะผ.
โ ะ ะดะปั ัะตะณะพ ัััะฐะฝะธั ะฝะตั, ััะพ, ััั, ะฒ ะบะพะฝัะต? โ ะะฝะดัะตะน ะฟะตัะตะฒะตัะฝัะป ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ะปะธัั ั ัะตะบััะพะผ ะฝะฐ ะฟัััะพะน.
โ ะ! ัะฐะบ ััะพ, ััะพโฆ โ ัะฐัะบัะฐัะฝะตะฒัะฐััั, ะผะฐะปะตะฝัะบะฐั, ะบะฐะบ ะฟัะธัะบะฐ, ะทะฐัะพัะพะฟะธะปะฐัั ะะธะทะฐ, — ััะพะฑั ัะธัะฐัะตะปั ัะฐะผ ะดะพะฟะธัะฐะป.
โ ะขะธะฟะฐ ะฟัะพััะพ ัััะบะพะน?
โ ะั ะดะฐ! โ ะะตัั ะทะฐะผะตัะธะป, ะบะฐะบ ัะดะตัะถะธะฒะฐะตั ัะตะฑั ะะธะทะฐ, ััะพะฑั ะฝะต ะฟัััะธัััั ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพ ะดะพะปะณะพ, ัะฐะผะพะทะฐะฑะฒะตะฝะฝะพ ะณะพะฒะพัะธัั ะพะฑ ััะพะน ะบะฝะธะณะต. โ ะ ั, ะทะฝะฐะตัะต, ั ะพัะตะปะฐ, ััะพะฑั ัะฐะผ ะฑัะปะพ ะฒัะต, ะฝั ะฒะพั ะฒัะต, ััะพ ะผั ะฟะตัะตะถะธะปะธ.
โ ะั ! โ ะะฝั, ะบัะฐัะธะฒะฐั ะธ ััะผัะฝะฐั, ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ะธ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ัะฒะพะธ ัะปะพะถะตะฝะฝัะต ะฟะพะด ััะพะปะพะผ ััะบะธ. — ะะพะผะฝะธัะต, ะบะฐะบะธะผะธ ะผั ะฒัะดัะผัะธะบะฐะผะธ ะฑัะปะธ?
โ ะขะต ะตัะต, ะดะฐ! โ ะณัะพะผะบะพ ะดะพะฑะฐะฒะธะป ะะฝะดัะตะน ะธ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะฝั, ะบะฐะบ ะฑั ะฒัะฟะพะผะธะฝะฐั ะฒัะต ะฟัะพัะตะดัะตะต.
โ ะะฐะบ ะฒัะฟะพะผะฝั, ะบะฐะบ ะผั ะบะปะฐััะต ะฒะพ ะฒัะพัะพะผ, ะฝะฐะฒะตัะฝะพ, ะทะธะผะพะนโฆ — ะะฝะธะฝั ะณะปะฐะทะฐ ะฒะพะปะฝะธัะตะปัะฝะพ ัะฐัะบััะปะธัั, ะธ ะฝะฐ ะบะฐะถะดะพะณะพ ะพะฝะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะพัะตะฝั ะปะธัะฝัะผ ะธ ััะพะณะฐัะตะปัะฝัะผ ะฒะทะณะปัะดะพะผ, — ะผั ะฒ ััะณัะพะฑะต ั ัะบะพะปั ะดะตะปะฐะปะธ ะฝะพััโฆ ะ ะฑัะปะพ ะถะต, ะธ ัะฐะบ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะตัะตโฆ
ะะฐัััะฟะธะปะฐ ะณะปัะฑะพะบะฐั, ะฟัะธััะฝะฐั ัะธัะธะฝะฐ. ะะตัั ะธ ะะฝะดัะตะน ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะธ ะณัะตะผะตัั ะฒะธะปะบะฐะผะธ ะพะฑ ัะถะต ะฟััััะต ัะฐัะตะปะบะธ, ะดะพะฑะธัะฐั ะบัะพัะบะธ, ะะฝั ะพัะฟะธะปะฐ ะธะท ะฟะพััะธ ะฟัััะพะณะพ ะฑะพะบะฐะปะฐ, ะะธะทะฐ ะฒะธะฝะพะฒะฐัะพ ะฟะพะณะปะฐะดะธะปะฐ ะพะฑะปะพะถะบั ะบะฝะธะณะธ. ะะตัั ัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ ะธ ะฒะธะดะตะป, ะบะฐะบ ะฟะตัะฐะปั ะพ ะฟัะพัะปะพะผ ะฒัะต ัะธะปัะฝะตะต ะพััะตะฝัะตััั ะฝะฐ ะธั ะปะธัะฐั : ะบะฐะบ ัะณะปะพะฒะฐัะพะต ะปะธัะพ ะะฝะดัะตั ัะฐัะฟะปัะฒะฐะตััั ะฒ ะถะฐัะบะพะน ัะตะผะฝะพัะต (ะพะฝะฐ ะดะพะปะณะพ ััะธะปะฐัั ะฝะฐ ะฒะตัั ะฝะธั ะฟะพะปะบะฐั ะธ ัะตะฟะตัั, ะบะพะณะดะฐ ะฐะบะฒะฐัะตะปัะฝะพะต ัะพะปะฝัะต ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ััะตะบะฐะปะพ ะธะท ะบัั ะฝะธ, ัะผะตะปะตะปะฐ ะธ ะพะบัะฐัะธะฒะฐะปะฐ ะฒัะต ะฒ ัะธะฝะธะน ะธ ัะตัะฝัะน), ะบะฐะบ ะฐะบะบััะฐัะฝัะต ะณะปะฐะทะฐ ะะฝะธ ัััะบะฝะตัั, ะบะฐะบ ะะธะทะฐ, ะธ ะฑะตะท ัะพะณะพ โ ัะพะฒัะตะผ ะบัะพั ะฐ, ะตัะต ะฑะพะปะตะต ัะผะตะฝััะฐะตััั. ะ ัะฐะผ ะะตัั ะฝะต ะทะฐะผะตัะฐะป, ะบะฐะบ ัะบะฒะพะทั ัะพะปัััะต ะพัะบะธ ะฟะตัะตััะฐะตั ะฒะธะดะตัั ััะบะธะต ะฒะตัะตัะฝะธะต ะบัะฐัะบะธ. ยซะฃัะปะพยป, — ะฟัะพะฝะตัะปะฐัั ั ะฝะตะณะพ ะดะพะปะณะฐั, ะดะพ ะณััะดะฝะพะน ะฑะพะปะธ ะผััะปั.
โ ะฃัะปะพ ะฒัะตะผัโฆ — ะฝะฐ ะฒัะดะพั ะต ะฟัะพะธะทะฝะตัะปะฐ ะะฝั ะธ ั ะฟะตัะฐะปัะฝัะผ ัะพััะฒััะฒะธะตะผ ะพะณะปัะดะตะปะฐ ะดััะทะตะน. โ ะะฐะบ ะฒัะต ะฑัะปะพ ะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ะฟะพะผะฝะธัะต? ะ ะบัะฐัะบะธ ัััะต, ะธ ัะฟะพัั โ ะฐะถ ะดะพ ะบัะพะฒะธ, ะะพะถะต, — ะพะฝะฐ ะฝะตะทะฐะผะตัะฝะพ ัะปัะฑะฝัะปะฐัั ะธ ะผะฐั ะฝัะปะฐ ััะบะพะน. โ ะัะต ััะปะพ.
โ ะะพัะพะผั, โ ะฝะตัะฒะตัะตะฝะฝะพ, ัะธั ะพ, ัะผะพััั ัะพะปัะบะพ ะฝะฐ ะบะฝะธะณั, ะฟัะพะดะพะปะถะธะปะฐ ะะธะทะฐ (ะฝะตะพะฟัััะฝัะต ะตะต ะฒะพะปะพัั ัะพััะฐะปะธ ะฒะพ ะฒัะต ััะพัะพะฝั ะธ ะฟะฐะดะฐะปะธ ะฒ ัะฐัะตะปะบั), — ะธ ะตััั ะบะฝะธะณะฐ. ะะตั, ะฝะตั! โ ะทะฐะฒะพะปะฝะพะฒะฐะปะฐัั, โ ั ะฝะต ั ะพัั ัะตะบะปะฐะผั ะดะฐะฒะฐัั, ั ะบะฐะบ ัะพ ััะพัะพะฝั. ะฏ ะบะพะณะดะฐ ะฟะธัะฐะปะฐ, ัะพ ะฒัะต ะฟัะตะดะตะปัะฝะพ ัะพัะฝะพ ััะฐัะฐะปะฐัั, ะะตัั ะฒัะฟะพะผะฝะธั, ะบะฐะบ ั ะตะผั ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะฒะฐะปะฐ. (ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะบัะธะฒะพ ััะผะตั ะฝัะปัั). ะั ะถะต ะฒััะพัะปะธ, ะฟะพะผะตะฝัะปะธัั ัะพะฒัะตะผ, ะฐ ัะฐ ะฑะพะปััะฐั, ะฟัะตะบัะฐัะฝะฐั ัะฝะพััั โ ะณะดะต ะพะฝะฐ ัะตะฟะตัั?
โ ะ ะณะดะต ะถะต? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั ะธ ะฟะพะด ััะพะปะพะผ ัะถะฐะปะฐ ััะบั ะะฝะดัะตั.
โ ะ ั ัะฐะผะฐ ะฝะต ะทะฝะฐั, โ ะะธะทะฐ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฒ ะพะบะฝะพ, ะทะฐ ะบะพัะพััะผ ัะฒะฐะฝะฐั ะฒะตัั ััะบะฐ ัััะธ ะพะฟัะปะธะปะฐัั ะฐะปัะผ, ะฐ ะฟััะธัััะน ะฝะธะท ะฟะพะบััะปัั ะพั ัะพะน. โ ะญัะพ ะธัะบะฐัั ะธ ะธัะบะฐัั ะฝะฐะดะพ. ะะพ ัะฝะพััะธ ะฟััะฐะตะผัั ะฟะพะฝััั, ะพัะบัะดะฐ ะฒ ะฝะฐั ัะฐะบะฐั ะถะธะฒะพััั, ะธ ะฟะพัะพะผ ะฑัะพัะฐะตะผ, ะฐ ะบะฐะบ ะฟัะธั ะพะดะธั ะฒัะตะผั, ัะพ ะฒัะต, ะฝะต ะฟะพะนะผะตะผ ัะถะต. ะกะฐะผ ะพะฑัะฐะท ะผััะปะตะน ะผะตะฝัะตััั.
โ ะฏ ะฟะพัะพะผั ะพัะตะฝั ั ะพัั ะดะตัะตะน, โ ะฟัะธะทะฝะฐะปะฐัั ะะฝั ะธ ัะพะฑะบะพ ะณะปัะฝัะปะฐ ะฝะฐ ะะฝะดัะตั, โ ััะพะฑ ะฟะพะฝััั, ะบัะดะฐ ะดะตะปะฐัั ััะฐ ะฝะฐัะฐ ะถะธะฒะพััั. ะก ะฝะธะผะธโฆ
โ ะั! ััั ะตัะต ะฟะพัะผะพััะธะผ, ะะฝั, โ ะฝะตั ะพัั ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน ะธ ะฟัะธะพะฑะฝัะป ะะฝั.
ะะตัั ะฝะฐั ะผััะธะปัั: ะพะฝ ะฟะพะฝะธะผะฐะป, ััะพ ะฒัะต ะพะฝะธ, ะดะฐะถะต ะพะฝ, ะฟััะฐัััั ะฝะฐะนัะธ ะพะดะฝะพ ะธ ัะพ ะถะต, ะฝะพ ัะฐะผัะน ะฒะธะด ะฟะพะธัะบะฐ โ ัะฐะทะณะพะฒะพั โ ะตะผั ะฝะต ะฝัะฐะฒะธะปัั. ะะฝ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ัะปััะฐัั, ะบะฐะบ ะะธะทะฐ, ั ะฝะตะบะพัะพัะพะน ัะฐะดะพัััั ะทะฐะฑัะฒ ะพ ะบะฝะธะณะต, ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะพ ัะพะผ, ะบะฐะบ ยซะฑััะพะฒัั ะฐ, ะพะฝะฐ, ะทะฝะฐะตัั, ะฟะพััะธั ะฝะฐัยป, ะบะฐะบ ะฒะฐะถะฝะพ ััะผะตัั ยซะฒะพั ะฒะทััั ะตะต, ัะบัััะธัั ัะฐะบ, ััะพะฑ ะดัั ะฑัะป ัะฒะพะฑะพะดะตะฝยป, ะธ ะบะฐะบ ะะฝั, ะฟะตัะฐะปัะฝะพ-ัะฐะดะพััะฝะพ ะบะธะฒะฐั, ะดะพะฑะฐะฒะปัะปะฐ, ััะพ ยซัะพะปัะบะพ ัะตะปะพะฒะตะบ ะธ ัะตะปะพะฒะตะบ ะผะพะณัั, ะผะพะณัั ััะพ-ัะพ ัะดะตะปะฐัั. ะะธัะตะณะพ ะดััะณะพะต, ะฝั ัะพะฒัะตะผ ะฝะธัะตะณะพ โ ะดะฐะถะต ะฐะฑัััะฐะบัะธะธ ะธะท ะฝะพะฒะพััะตะน โ ะฝะต ะทะฐะผะตะฝัั ัะตะปะพะฒะตะบะฐยป, ยซะธ ะบะฐะบ ั ัะพะณะปะฐัะฝะฐ ั ัะพะฑะพะน, ะะธะทะฐ, ะบะฐะบ ัะพะณะปะฐัะฝะฐ!ยป, ะบะฐะบ ะะฝะดัะตะน ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ะฟัะตะดะปะฐะณะฐะป ะตะผั, ะะตัะต, ะฒัะฟะธัั ััะผะบั-ะดััะณัั ะธ ะพะฝ ะฝะตะพั ะพัะฝะพ ัะพะณะปะฐัะฐะปัั, ะดะตะปะฐะป ะถะณััะธะน ะณะปะพัะพะบ ะธ ั ะผะตะปะตะป.
ะ ะผะตะถะดั ัะตะผ ะะพัะบะฒะฐ ะทะฐ ะพะบะฝะพะผ ัะปะพะฒะฝะพ ะฑั ะทะฐัััะปะฐ, ะฝะฐะปะธะปะฐัั ะบัะฐัะบะพั, ะพะถะธะฒะธะปะฐัั ะพะณะพะฝัะบะฐะผะธ ะธ ะฟััะฝะธัะฝะพ ะทะฐะฟะฐั ะปะฐ. ะ ะฐะฝะฝะธะน ะฒะตัะตั ะฒะพั-ะฒะพั ะฟะตัะตัะตะป ะฑั ะฒ ััะผะตัะบะธ, ะฝะพ ะฒัะต ะฝะต ะผะพะณ, ััะพะณะฐัะตะปัะฝะพ ัะตะฟะปัััั ะทะฐ ัััะพััั ะดะตัะตะฒัะตะฒ (ะบะฐะบ ะดะพะถะดะธะบ ะฝะฐ ะฟัะฐะทะดะฝะธัะฝะพะน ะตะปะบะต) ะธ ะทะฐ ะฑะปะตัะบ ะฒััะพัะพะบ (ะบะฐะบ ะพัะฑะปะตัะบ ัะพะฝะฐัะตะน ะฒ ะดะพะปะณะพะน ะฝะพัะฝะพะน ะฟะพะตะทะดะบะต).
ะะตัั ะฑัะพัะธะป ะฒะทะณะปัะด ะฒ ะพะบะฝะพ ะธ ัะฐััะปะฐะฑะปะตะฝะฝะพ ะฒัะดะพั ะฝัะป.
โ ะะพัะตะผั ััะพ ั ะฝะฐะผะธ ะฑัะปะพ ะฒัะต-ัะฐะบะธ? โ ัะฟัะฐัะธะฒะฐะป ะพะฝ ัะพ ะปะธ ัะตะฑั, ัะพ ะปะธ ะดััะทะตะน. ะะฐ ะตะณะพ ัะปะพะฒะฐั ะะฝั ะพะถะธะฒะธะปะฐัั ะธ ั ะธะฝัะตัะตัะพะผ ัะฐัะบััะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ. โ ะะต ั ะบะตะผ-ัะพ ะดััะณะธะผ, ะฐ ั ะฝะฐะผะธ?
โ ะัะบัะดะฐ ะผั ะทะฝะฐะตะผ, ะะตัั, ะพัะบัะดะฐโฆ
โ ะะธะทะฐ, ัั ะตัะต ะฒัะต ัะฐะบ ะพะฟะธัะฐะปะฐ ั ัะตะฑั, โ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะพะฑะตัะฝัะปัั ะบ ะะธะทะต, โ ััะพ ะธ ะพั ะฟัะฐะฒะดั ะฝะต ะพัะปะธัะธัั.
โ ะกัะฐัะฐะปะฐัั! โ ะะธะทะฐ ะฝะต ะฟะพะฝะธะผะฐะปะฐ, ะบ ัะตะผั ะบะปะพะฝะธะป ะะตัั, ะธ ัะพะปัะบะพ ะณะปัะฟะพะฒะฐัะพ ัะปัะฑะฝัะปะฐัั.
โ ะฅะพัะตััั ะฟะพะฝัััโฆ โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะะตัั, ััะบะฐั ะฒะธะปะบะพะน ะฒ ะปะฐะดะพะฝั, โ ะบัะดะฐ ะฒัะต ััะปะพ, ะฟะพัะตะผั ััะฐะปะพ ัะตััะผ. ะฏ ะถ ััะฒััะฒัั, ััะพ ัะบะพัะพ ะฟัะพัะฝััั ะธ ัะพะณะดะฐ! ะะพะนะผั.
โ ะ, ััะพ, ะฝะต ะฟะพะทะดะฝะพะฒะฐัะพ ะปั? โ ะฑะฐัะธััะพ ะฒััััะป ะะฝะดัะตะน ะธ ะฝะตะดะพะฒะตััะธะฒะพ ะพะณะปัะดะตะป ะะตัั.
โ ะะฐ ะบัะพ ะตะณะพ ะทะฝะฐะตั, — ะพัะฒะตัะธะป ัะพั.
โ ะขะฐะบ! โ ะฑะพะดัะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั, ะบะพะณะดะฐ ัะฝะพะฒะฐ ะฝะฐะด ััะพะปะพะผ ะพะฟัััะธะปะฐัั ะฒัะฐะปัั ัะธัะธะฝะฐ. — ะฏ ัะตะนัะฐั ยซะะฐะฟะพะปะตะพะฝะฐยป ะฟัะธะฝะตัั, hand made, ะผะตะถะดั ะฟัะพัะธะผ. ะะฝะดัะตะน ะพั ะฝะตะณะพ ะฟัะพััะพ ัะฐัะธััั.
โ ะะฐ! โ ะฟะพะดั ะฒะฐัะธะป ะะฝะดัะตะน.
โ ะััะฐะฒะฐะน, ะบััะถะบะธ ะฑะตัะธ, ะฐ ะฝะต ะดะฐะบะฐะน!
ะะฝั ะธ ะะฝะดัะตะน ะฑััััะพ ัะฑัะฐะปะธ ะณััะทะฝัั ะฟะพััะดั, ะปะพะฒะบะพ ะฟะพััะฐะฒะธะปะธ ะณะพัััะธะน ัะฐะนะฝะธะบ (ะธ ะะฝั ัะบะฐะทะฐะปะฐ, ััะพ ััะพั ัะฐะน ะตะน ะพัะตั ะดะฐะฒะฝะพ ะฟัะธะฒะตะท ะธะท ะบะพะผะฐะฝะดะธัะพะฒะบะธ, ะฐ ะพะฝะฐ ะดะปั ัะปััะฐั ะฑะตัะตะณะปะฐ), ัะพัั ยซะะฐะฟะพะปะตะพะฝยป, ะบะพัะพััะน ะดะพะปะณะพ ัะฐะทัะตะทะฐะปะฐ ะะธะทะฐ. ะะพะณะดะฐ ะฒัะต ัะฝะพะฒะฐ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะฟัะธัะตะปะธ ะทะฐ ััะพะป, ะะฝั ะฐะบะบััะฐัะฝะพ ะฟะพะปะพะถะธะปะฐ ะบะฐะถะดะพะผั ะฟะพ ะบััะพัะบั.
โ ะั, ะะฝั! ะะฐ ะฒััะพัะต! โ ัะบะฐะทะฐะป ะะฝะดัะตะน. โ ะะบััะฝะพ, ะทะฐัะฐะทะฐ.
โ ะ ัะพ! โ ะบะพะบะตัะปะธะฒะพ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะฝั.
ะะตัั ะผััะธัะตะปัะฝะพ ะณะปัะดะตะป ะฝะฐ ัะฒะพะน ะบััะพะบ ยซะะฐะฟะพะปะตะพะฝะฐยป. ะะตัั ัะปััะฐะป, ะบะฐะบ ะทะฐะฒัะทะฐะปัั ั ะะฝะธ, ะะธะทั ะธ ะะฝะดัะตั ะฟัะพััะพะน ัะฐะทะณะพะฒะพั โ ะพะฑ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธะธ, ัะตะฐััะต, ะฟะพัะพะผ ะพ ะผะธัะพะฒัั ะฝะพะฒะพัััั , ะฟะพัะพะผ ัะฝะพะฒะฐ ะพ ัะตะฐััะต ะธ ะพ ะบะฝะธะณะฐั ; ะฒัะฟะพะผะฝะธะปะธ ะะฐะฒะปะฐ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธัะฐ, ะะฝั ะฟัะพ ะฝะตะณะพ ััะพ-ัะพ ัะบะพัะพ, ะณะปะพัะฐั ะบะพะฝัั ัะปะพะฒ, ัะฐััะบะฐะทะฐะปะฐ. ะ ะะฝะดัะตะน ัะฐััะบะฐะทะฐะป, ะบะฐะบ ะตะทะดะธะป ะฝะฐ ัะพัะตะฒะฝะพะฒะฐะฝะธั, ะบะฐะถะตััั, ะฒ ะะฝะดะธั ะธะปะธ ะัะปะฐะฝะดะธั, ะผะพะถะตั, ะธ ะฒ ะัะฐะปะธั. ะะตัั ัะปััะฐะป ะธั ะธ ะพัััะฐะป, ะบะฐะบ ัะพัะบะฐ ะพ ะณะพัััะฝะพััะธ ััะธั ะปัะดะตะน ะฒัะต ะฑะพะปะตะต ะทะฐั ะฒะฐััะฒะฐะตั ะตะณะพ; ะฝะฐ ะผะธะณ ะตะผั ะธ ะทะฐั ะพัะตะปะพัั ะฟะพะฒะตัะธัั, ััะพ ะพะฝ ัะฝะพะฒะฐ ัะบะพะปัะฝะธะบ, ะฟะพะณััะถะตะฝะฝัะน ัะพะปัะบะพ ะฒ ััะตะฑั ะธ ะดััะทะตะน, ะฝะพ ะฟะพัะปะต ะพัะฒะตัะฐ ะฝะฐ ัะบััะฝัะน ะทะฒะพะฝะพะบ ะธะท ัะฝะธะฒะตััะธัะตัะฐ ััะฐ ะผััะปั ัะฐะทะฒะตัะปะฐัั.
โ ะะตัั, ัั ัะตะณะพ? โ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั, ะบะพะณะดะฐ ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะบะพะฝัะธะป ะณะพะฒะพัะธัั.
โ ะะฐ ัะฐะบ, ัะฐะผโฆ, โ ะะตัั ะฟะพะผะพััะธะปัั ะธ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฒ ะพะบะฝะพ. ยซะฃะนะดั, ะฝะต ะผะพะณั ัะธะดะตััยป, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะพะฝ. โ ะะฝั, ะฒั ะตัะปะธ ะฝะธัะตะณะพ, ัะพ ั ะฟะพะนะดั. ะขะฐะผ ะทะพะฒัั ะผะตะฝั ััะพัะฝะพ, ะฝะฐะดะพ ัะตะณะพะดะฝัโฆ
โ ะะตัั, ะฝั ะบะพะฝะตัะฝะพ, ััะพ ัะฟัะฐัะธะฒะฐัั ะดะฐะถะต. ะะดะธ, ะบัะดะฐ ัะฐะผ ะฝะฐะดะพ.
โ ะขั, ััะพ, โ ะดะพะฑะฐะฒะธะป ะฒะฐะถะฝะพ ะะฝะดัะตะน, โ ะตัะปะธ ะฑััััะพ ัะฟัะฐะฒะธัััั, ัะพ ะบ ะฝะฐะผ ะฟัะธั ะพะดะธ ะพะฑัะฐัะฝะพ. ะั ะดะพะปะณะพ ะตัะต ะฑัะดะตะผ.
โ ะั, ะบะฐะบ ะฟะพะนะดะตั, โ ัะธั ะพ ะพัะฒะตัะธะป ะะตัั ะธ ะฒััะฐะป ะธะท-ะทะฐ ััะพะปะฐ.
โ ะะฐะดะฝะพ, ะะฝะดัะตะน, โ ะฝะตะดะพะฒะพะปัะฝะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั, โ ั ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะดะตะปะฐ ะฝะตะพัะปะพะถะฝัะต, ะฐ ะผั ะตัะตโฆ โ ะพะฝะฐ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ะะตัั ะธ ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะฐ. โ ะขั ะธะดะธ, ะธะดะธ, ัะตะณะพ!
ะฃะถะต ััะพั ะฒ ะฟะพะดัะตะทะดะต, ะะตัั ะฑัะพัะธะปัั ะดัะผะฐัั ะฑะตัะบะพะฝะตัะฝะพะต ะผะฝะพะถะตััะฒะพ ะพะฑะปะฐัะฝัั ะผััะปะตะน.
โ ะะพะธ ัะฐะทะณะพะฒะพัั ั ัะฐะผะธะผ ัะพะฑะพะน ะพะฟััั ะฝะต ะทะฐะบะพะฝัะฐััั ะดะพ ัััะฐ, โ ะฟัะพะฟะตะป ัะตะฑะต ะฟะพะด ะฝะพั ะะตัั, ััะบะฝัะปัั ะณะพะปะพะฒะพะน ะฒ ะทะฐะบััะฒัะธะตัั ะดะฒะตัะธ ะปะธััะฐ ะธ ัะปะฐะฑะพ ัะปัะฑะฝัะปัั.
ะะฝ ะฒััะตะป ะธะท ะฟะพะดัะตะทะดะฐ. ะะพัะปะต ัััะพะฒะพะบ ะธะปะธ ัััะฝัั ะฟะพัะธะดะตะปะพะบ ะฒัะตั ะธ ะฒัะตะณะดะฐ ะพะดะพะปะตะฒะฐะตั ะณััััั. ะะตัะตัะฝัั ะผะพัะบะพะฒัะบะฐั ัะปะธัะฐ ะฒัััะตัะธะปะฐ ะตะณะพ ะพัััะฒะฐััะธะผ ะฐััะฐะปััะพะผ ะธ ะฟัะธะฒััะฝัะผ ััะธั ะฐััะธะผ ััะผะพะผ ะผะฐัะธะฝ. ะะพัะพะด ะทะฐััะฟะฐะป, ั ะพัั ัะฐะบะธะต ะณะพัะพะดะฐ, ะบะฐะบ ะะพัะบะฒะฐ, ะฒะพะพะฑัะต ะฝะต ัะฟัั.
ะขะฐะบะธะต ะณะพัะพะดะฐ โ ััะพ ะฒัะตะณะดะฐ ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะต. ะัะพ ะฑั ะธะผะธ ะฝะธ ัะฟัะฐะฒะปัะป, ะบะฐะบะธะต ะฑั ััั ั ะพัะดั ะฝะต ัััะพะธะปะธ ะธ ััะพ ะฑั ััั ะฝะธ ัะธะฝะธะปะธ, ะทะดะตัั ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะฝะฐ ะบะฐะถะดะพะผ ัะฐะณั ะธััะพัะธั ะฟะตัะตะฟะปะตัะฐะตััั ั ะฝะฐััะพััะธะผ, ะฐ ััะพ-ัะพ ะผะธััะธัะตัะบะพะต ะฟัััะตััั ะฒะพ ะดะฒะพัะฐั , ะฟะพะบะฐ ะพะณัะพะผะฝัะต ะฟัะพัะฟะตะบัั ััะผัั ะธ ะทะฐั ะปัะฑัะฒะฐัััั ะผะฐัะธะฝะฐะผะธ. ะะพัะบะฒะฐ โ ััะพ ะผะฐะปะตะฝัะบะธะน ะผะธั. ะะฐะผ ััะพ ะฟะพะดัะฒะตัะดัั ะฒัะต ัะพัะตะดะธ โ ะพั ะะฒะตะฝะธะณะพัะพะดะฐ ะดะพ ะัะบะพะฒัะบะพะณะพ, ะดะฐ ะธ ะปัะฑัะต ะดััะณะธะต ะถะธัะตะปะธ ะทะฐะผะบะฐะดัั: ััะปัะบะธ, ะฒะพะปะณะพะณัะฐะดัั, ะผะฐะณะฐะดะฐะฝัั…
ะะตัั ััะป ะฟะพ ััะพะผั ะผะธัั, ัะพะผะบะฝัะฒัะตะผััั ะฒะพะบััะณ ะฝะตะณะพ ะกะฐะดะพะฒัะผ ะบะพะปััะพะผ, ะธ ะฟััะฐะปัั ัะพะฑัะฐัั ัะฐัะฟะฐะฒัะธะนัั ะฒัะตะณะพ ะปะธัั ะธะท-ะทะฐ ะพะดะฝะพะน ะบะฝะธะณะธ ะผะฐะบะตั ะถะธะทะฝะธ, ะบะพัะพััะน ะพะฝ ั ัะฐะบะธะผ ัััะดะพะผ ะฒััััะฐะธะฒะฐะป. ะะฐะบ ะฒ ะดะตัััะฒะต ัะฐะทะฑะธััั ะฒะฐะทั ะบ ะผะฐะผะธะฝะพะผั ะฟัะธั ะพะดั โ ะฝะฐะดะตััั, ััะพ ะฝะต ะทะฐะผะตัะธั.
ะขะพะณะดะฐ, ะฒ ัะบะพะปะต, ะฒัะต ัะพะฑััะธั ะฑัะปะธ ะฒััััะพะตะฝั ัััะพะนะฝะพ, ะฟะพัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปัะฝะพ ะธ ะปะพะณะธัะฝะพ, ะฝะพ ะฟะพัะปะต ะพะดะฝะพะณะพ ะฒะทะณะปัะดะฐ ะฝะฐ ะฝะธั ัะบะพะฟะพะผ ัะฟัััั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะปะตั โย ะฟะพ ัะฟะธะฝะต ะฟัะพะฑะตะณะฐะตั ะปัะณะบะธะน ั ะพะปะพะด. ะะพัะตะผั ััะพ ะฑัะปะพ ั ะฝะธะผะธ? ะะฐ ะธ ะฑัะปะพ ะปะธ?..
ะฅะพัั, ะพะฝ ะฝะธ ะบะฐะฟะปะธ ะฝะต ัะพะผะฝะตะฒะฐะปัั ะฒ ัะฒะพะธั ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธัั . ะะพะปะตะต ัะพะณะพ, ะฑัะป ัะฒะตัะตะฝ, ััะพ ะะธะทะฐ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะธะฒัะฐะปะฐ, ะธะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบ ะพะฝะธ, ะณััะฟะฟะฐ ัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ, ะฟััะฐะปะธัั ะพัััะพััั ะฝะตะฑะพะปััะพะน ะบะปะพัะพะบ ะทะตะผะปะธ, ะฑัะฒัะธะน ะธั ัะพะดะธะฝะพะน. ะงะฐัััั ะตัั ะฑะพะปััะตะน ัะพะดะธะฝั โ ะะพัะบะฒั โ ะธ, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ะ ะพััะธะธ.
ะะธะทะฐ ะฝะฐะฟะธัะฐะปะฐ ะฒัั ะฒะตัะฝะพ. ะ ััะพะผ ะฝะต ะฑัะปะพ ัะพะผะฝะตะฝะธะน, ะดะฐ. ะกะฐะผัะน ะฝะฐััะพััะธะน ัะตะฟะพััะฐะถ ั ะผะตััะฐ ัะพะฑััะธะน. ะะตะดั ัะพะปัะบะพ ะดะตัะธ ะผะพะณัั ััะพ-ัะพ ัะบะฐะทะฐัั ะฝะฐััะพะปัะบะพ ะฟััะผะพ. ะะทัะพัะปัะต ะพะบััะฐะฝั ัััะฐั ะฐะผะธ: ะฟะพัะตัััั ะบะฐััะตัั, ัะฒัะทะธ, ัะตะฟััะฐัะธั, ะฐ ะฟะพัะพะผั ะฟััััั ะฟัะฐะฒะดั ะทะฐ ะฐะปะปัะทะธัะผะธ ะธ ะพัััะปะบะฐะผะธ. ะะตัะธ ะถะต ะฒัะตะณะดะฐ ะฟะธััั ะฟััะผะพ. ะฅะพัั, ะผะพะถะตั, ัะฐะบ ะดะตะปะฐัั ะธ ะฝะต ััะพะธะปะพ ะฑั.
ะัะปัะฒะฐั ััะผะตะป ััะผะฝะพ-ะทะตะปะตะฝัะผะธ ะบัะพะฝะฐะผะธ ะทะฐััะฟรกะฒัะธั ะปะธัััะตะฒ. ะขะธั ะธะต ะฟะฐัะพัะบะธ ัะธะดะตะปะธ ะฝะฐ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะฒัะบัะฐัะตะฝะฝัั ะฑะตะถะตะฒัั ัะบะฐะผะตะตัะบะฐั . ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะปััะธ ะฐะปะพ-ะทะพะปะพัะพะณะพ ัะพะปะฝัะฐ ะพััะฐะถะฐะปะธัั ะพั ัะฐะบะพะณะพ ะถะต ะทะพะปะพัะพะณะพ ะบัะฟะพะปะฐ ะกัะตัะตะฝัะบะพะณะพ ะผะพะฝะฐััััั ะธ ะปะตะทะปะธ ะฟัะพั ะพะถะธะผ ะฒ ะณะปะฐะทะฐ. ะฃ ะผะพะฝะฐัััััะบะธั ะฒะพัะพั ะฝะฐ ะะตัั ะฝะฐัะบะฝัะปะฐัั ััะผะฝะฐั ัะธะณััะฐ, ะตัั ะฑะพะปะตะต ัะตะผะฝะฐั ะฝะฐ ัะพะฝะต ัะผะตัะบะฐััะตะนัั ะะพัะบะฒั.
โ ะะตัั?
โ ะ? โ ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ัะฐััะตััะฝะฝะพ ัััััั.
โ ะะตัั!
โ ะ! โ ััะผะฝะพะน ัะธะณััะพะน ะฒ ัััะต ะพะบะฐะทะฐะปัั ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะัะดั ะคัะดะพั! ะกะบะพะปัะบะพ ะปะตั!
โ ะะฐ-ะฐ… ะขะตะฟะตัั, ะฒัั ะพะดะธั, ะพัะตั ะคัะดะพั, โ ะพะฝ ัะบะฐะทะฐะป ััะพ ั ะฒะธะฝะพะฒะฐัะพะน ัะปัะฑะบะพะน, ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะฟะพัะตัะฐะฒ ะทะฐััะปะพะบ.
โ ะะณะพ! ะะพะทะดัะฐะฒะปัั! ะ ะบัะพ ั ัะตะฑั, ััะฝ? ะะฝั ั ะะฝะดัะตะตะผ ะฒะพะฝ ัะพะถะต ะฟัะพ ะดะตัะตะน ะณะพะฒะพััั…
โ ะะตัั, ะฝั ัั ะฑะฐะปะฑะตั! ะะฐัััะตะบ ะฒ ัะตัะบะฒะธ ะพััะฐะผะธ ะทะพะฒัั, ะฒะฟะตัะฒัะต ัะปััะธัั?
โ ะ… ะะฐ ะผั ััะพ, ั ัะตัะบะพะฒัั ะบะฐะบ-ัะพ… ะขะพะณะพโฆ โ ะะตัั ะพัะฒัะป ะณะปะฐะทะฐ ะฒ ััะพัะพะฝั ั ัะฐะผะฐ, ะพัะปะธะฒะฐะฒัะตะณะพ ัะฒะพะตะน ะฑะตะปะธะทะฝะพะน ะดะฐะถะต ะฒ ัะตะผะฝะพัะต, ะฒ ะบะพัะพััั ะตะณะพ ะฟัััะฐะปะธ ะฑะปะธะทะปะตะถะฐัะธะต ะดะพะผะฐ.
โ ะั, ะปะฐะดะฝะพ, ั ะพัะพั. ะะฐะฒะฐะน, ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะน, ะบะฐะบ ัะฐะผ?
ะะฑััะฝัะน ะดะธะฐะปะพะณ ะพะฑััะฝัั ััะฐััั ะดััะทะตะน, ะฝะต ะฒะธะดะตะฒัะธั ัั ััะพ ะปะตั. ะะตัั ะฑะพะปััะต ัะปััะฐะป, ะณะพะฒะพัะธัั ั ะฝะตะณะพ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะถะตะปะฐะฝะธั. ะะฝ ัะทะฝะฐะป, ััะพ ะฟะพัะปะต ะฑัะนะฝะพะน ัะบะพะปัะฝะพะน ะฟะพัั ะะพัะพั ะพะฒ ะฟัััะธะปัั ะฒะพ ะฒัะต ััะถะบะธะต: ะดะตะฒััะบะธ, ะบะปัะฑั, ะฐะปะบะพะณะพะปั, ะตัั ัะตะณะพ ะฟะพะบัะตะฟัะต. ะฃะฒัะท ั ะณะพะปะพะฒะพะน, ะฟะพััะธ ัะปะพะผะฐะป ัะตะฑะต ะถะธะทะฝั. ะ ะฒัััะฝััั ะตะณะพ ะพัััะดะฐ ัะผะพะณะปะฐ ัะพะปัะบะพ ะฒะตัะฐ. ะะพัะพะผั ัะตะฟะตัั ะพะฝ ะพะบะฐะทะฐะปัั ะทะดะตัั, ั ะฒะพัะพั ะกัะตัะตะฝัะบะพะณะพ ะผะพะฝะฐััััั.
ะะตัั ะตัั ัะธะปัะฝะตะต ะทะฐะณััััะธะป. ะัะปะธ ัะถ ัะฐะบะธั ััะบะธั ะธ ะฑะตะทะฑะฐัะตะฝะฝัั ะปัะดะตะน, ะบะฐะบ ะดัะดั ะคะตะดะพั, ัะถะต ะฝะฐัะธะฝะฐะตั ะทะฐะฑะธัะฐัั ะฒะทัะพัะปะฐั ะถะธะทะฝั, ัะพ ะธ ะตะณะพ ะดะฝะธ ัะพััะตะฝั.
โ ะคะตะดั, ะฐ ะบะฐะบ ะดัะผะฐะตัั, ะผั ัะพะณะดะฐ ะฒัั ัะตะฑะต ะฒัะดัะผะฐะปะธ?
โ ะะฐ ะฝะตั. ะะพัะตะผั? ะัะพััะพ ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะฟัะธัะบัะฐัะธะปะธ.
โ ะ ะฟะพัะตะผั ะธะผะตะฝะฝะพ ะผั?
ะคะตะดั ะฟะพัะผะพััะตะป ะฒ ะฝะตะฑะพ, ะณะดะต ะพั ัะฒะตัะปะพ-ะณะพะปัะฑะพะณะพ ะธ ะพัะฐะฝะถะตะฒะพะณะพ ะดะพ ััะผะฝะพ-ััะผะฝะพ ัะธะฝะตะณะพ ัะฐะทะปะธะฒะฐะปะฐัั ะฝะพัั, ะธ ััะถะตะปะพ ะฒะทะดะพั ะฝัะป.
โ ะะต ะทะฝะฐั, ะฑัะฐั. ะัะพะฒะธะดะตะฝะธะต. ะขะฐะบ ะฝะฐะดะพ ะฑัะปะพ.
โ ะ ะฝะฐ ะบะพะณะพ-ัะพ ะดััะณะพะณะพ ะฟัะพะฒะธะดะตัั ะฝะตะปัะทั ะฑัะปะพ?
ะคะตะดั โ ะฒะตัะฝะตะต ัะตะฟะตัั ะพัะตั ะคัะดะพั โ ะปะธัั ัะปัะฑะฝัะปัั ะฒ ะพัะฒะตั ัะพ ัะปะพะฒะฐะผะธ, ััะพ ัะบะพัะพ ะทะฐะบัะพัั ะผะพะฝะฐัััััะบะธะต ะฒะพัะพัะฐ. ะะตัั ะฟะพัะผะพััะตะป ะตะผั ะฒัะปะตะด, ะฝะฐ ััะฐัะตะฝัะบะพะณะพ ััะพัะพะถะฐ, ะฝะฐ ะฒะพัะพัะฐ ะฟะตัะตะด ะฑะพะปััะธะผ ั ัะฐะผะพะผ ะะพะฒะพะผััะตะฝะธะบะพะฒ ะธ ะธัะฟะพะฒะตะดะฝะธะบะพะฒ ัะพััะธะนัะบะธั , ะฝะฐ ะฝะฐััะตะฝะฝัะต ะธะบะพะฝั ะธ ะบัะฟะพะปะฐ. ะะพัะพะผ ะตะณะพ ะฒะทะณะปัะด ะฟัะธะฒะปะตะบะปะธ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะฟัะพั ะพะถะธะต, ัะฟะตัะฐัะธะต ะฟะพ ะดะพะผะฐะผ. ะะฐัะตะผ ะทะฒัะทะดั. ะะฒัะทะดั ัะพะถะต ะผะพะปัะฐ ัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะะตัั, ะบะฐะบ ะธ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด.
โ ะ ัััะบะฐั ะดััะฐ, โ ะฟัะพะณะพะฒะพัะธะป ะฟัะพ ัะตะฑั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, โย ััะพ ะฒัั ะถะต ััะพ-ัะพ ะฝะฐะผะฝะพะณะพ ะฑะพะปััะตะต, ัะตะผ ะฟัะพััะพ ะะพะปะฝะฐ.
ะ ะฒะพะบััะณ ะฝะตะณะพ ะพะฑััะฝะพ ััะผะตะป ะัะทะฝะตัะบะธะน ะผะพัั. ะะฐ ัะณะปั ะผะตะถะดั ะบะฝะธะถะฝะพะน ะปะฐะฒะบะพะน ะฟะธัะฐัะตะปะตะน ะธ ะฑะฐะฝะบะพะผ ัะถะต ะฝะต ัะฐะทะดะฐะฒะฐะปะธ, ะบะฐะบ ะพะฑััะฝะพ, ะปะธััะพะฒะบะธ. ะะท ะทะฐะบััะฒะฐะฒัะธั ัั ะบะพัะตะตะฝ ัะปััะฐะปัั ะทะฐะฟะฐั ะบะพัะต ะธ ะฒัะฟะตัะบะธ. ะัะดะธ ะฝะตัะฟะตัะฝะพ ัะตะบะปะธ ะฒะพ ะฒัะต ััะพัะพะฝั, ัะฑะฐัะบะธะฒะฐััะต ะทะฒััะฐะปะฐ ะผัะทัะบะฐ ัะปะธัะฝะพะน ะณััะฟะฟั. ะัะพะทะฒะตะฝะตะปะฐ ะฑัะพัะตะฝะฝะฐั ะผะพะฝะตัะบะฐ.
ะะพะณะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ะฒัั ะฝะพะฒะพะต ะทะฐะฑัะดะตั ััะฐัะพะต,
ะะพ ะฝะต ัััั:ย
ะขั ะฒ ะฝะฐััะพััะตะผ ะฑัะดั.
ะ ะฒัะต ะดััะทัั ะฝะตะดะฐะฒะฝะธะต ะพััะฐะฝัััั ะทะฝะฐะบะพะผัะผะธ,
ะะฐ ะธ ะฟัััั!ย
ะขั ะฝะฐััะพััะธะผ ะฑัะดั.
ะะฐะด ััะธะผ ะฟะตัะตะบััััะบะพะผ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ ัะถะต, ะบัะพะผะต ะฝะตะฑะฐ, โ ะฒััะพะบะพะณะพ ะฝะตะฑะฐ. ะะพะณะดะฐ ัั ัะผะพััะธัั ะฒะฒะตัั , ะฒัั ััะตัะฐ ะถะธะทะฝะธ ะพัั ะพะดะธั ะฝะฐ ะฒัะพัะพะน ะฟะปะฐะฝ. ะขั ะดัะผะฐะตัั:
โ ะะพั, ะฝะตะฑะพ. ะะฝะพ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะธ ะฝะตะดะฒะธะถะธะผะพ. ะขะฐะบ ะฟะพัะตะผั ั ะบัะดะฐ-ัะพ ะฑะตะณะฐั, ะพ ััะผ-ัะพ ะดัะผะฐั ะธ ะฒัั ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณั ััะฟะพะบะพะธัััั?
ะ ะดะปั ะฒัะตั ะปัะดะตะน ะฝะฐ ะัะทะฝะตัะบะพะผ ะผะพััั ะฒ ัะพั ะฒะตัะตั ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ ะดััะณะพะณะพ, ะบัะพะผะต ััะฝะพะณะพ ััะผะฝะพะณะพ ะผะพัะบะพะฒัะบะพะณะพ ะฝะตะฑะฐ, ัะธัะธะฝั ะธ ััะฟะพะบะพะตะฝะธั.
ะะตััะฐะปะธ ัะพะฝะฐัะธ, ะณะธัะปัะฝะดั, ะบะพัะพััะต ะฒะธััั ะทะดะตัั ะบััะณะปัะน ะณะพะด, ะธ ะทะฒัะทะดั. ะะตััะฐะปะธ ะณะปะฐะทะฐ ะฟัะพั ะพะถะธั , ะบะฐะถะดัะน ะธะท ะบะพัะพััั ัะพัะฝะพ ะฟะพะผะฝะธั ัะฒะพั ะดะฐะปัะบะพะต ะดะตัััะฒะพ ะธ ะทะฝะฐะตั, ััะพ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฒ ะฝะตะณะพ ัะถะต ะฝะต ะฒะตัะฝัััั. ะะพ ะดะฐะนัะต ะบะพะผั-ะฝะธะฑัะดั ะธะท ะฝะธั ะปะธััะพะบ, ัััะบั, ะธ ัะบะฐะถะธัะต: ยซะะธัะธ!ยป, โ ะพะฝ ะฑั ััั ะถะต ะฝะฐะฟะธัะฐะป ะพ ัะฒะพะธั ัะฝะพัะตัะบะธั ะฟะพะดะฒะธะณะฐั ะบะฝะธะณั. ะ ะผะพะถะตั ะธ ะฝะต ะพะดะฝั. ะะต ะฒะตัะธัะต?
ะกะฟัะพัะธัะต ะปัะฑะพะณะพ.
The End